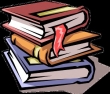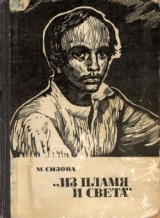
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 26
– Что же нам делать?
Этот вопрос, волновавший еще студентов Московского университета, собиравшихся у Лермонтова на Малой Молчановке, поднимался и теперь, на собраниях «кружка шестнадцати» – этого «лермонтовского гнезда». Члены кружка знали, что великий князь грозился разорить его.
– Да, господа, не приходится ли признать, что ежели вера без дел мертва, то любовь к отечеству и подавно?
…Ужель мы только будем петь
Иль с безнадежием немым
На стыд отечества глядеть,
Друзья мои?.. —
сказал, обращаясь к собравшимся, самый юный из шестнадцати, только недавно выпущенный из Пажеского корпуса двадцатилетний Александр Долгорукий.
Князь Иван Гагарин, дипломат, постоянно живший то в Мюнхене, то в Париже и знавший лично многих замечательных людей Европы, собеседник Шеллинга, Чаадаева, Тютчева, с улыбкой сдержанного одобрения посмотрел на Долгорукого.
– Ваша молодая горячность делает честь вам, мой юный друг, – сказал он. – И хотя я не знаю, кому принадлежат только что процитированные вами строки, они продиктованы совершенно правильным чувством.
– Еще бы! – Долгорукий улыбнулся и просиял от удовольствия. – Ведь это сам Михаил Юрьевич написал. Правда, это сказано девять лет тому назад – в его юношеской поэме «Последний сын вольности», но мы и сейчас спрашиваем себя о том же – мы, последние, а может быть, первые сыны вольности!
– Вы правы, друг мой, – продолжал Гагарин. – Но прежде чем говорить о деле, нужно твердо знать и договориться с другими о том, что следует разуметь под этим словом. Поверьте, что нет среди нас человека, который больше меня стремился бы к делу. Но какое дело доступно нам в данный момент, я еще не могу с уверенностью сказать.
– Какое дело? – быстро спросил Долгорукий, вспыхнув, как девушка. – Хотя бы то, которое совершили французы полвека назад, в 1789 году!
– Дело – значит борьба, – отозвался негромко Жерве.
– Вот именно. Именно борьба! – Долгорукий горячо подхватил это слово. – И Франция боролась и победила; и мы должны следовать тем же примерам.
– Нет, нет, мой друг, не думайте найти совершенство в западноевропейском строе. Россия не должна подражать Европе. Мы должны расчистить для России ее собственный, особый путь.
– А как, по твоему мнению, сможем мы расчистить для России путь? – спросил Столыпин, медленно ходивший по кабинету.
– В этом смысле Лермонтов счастливее всех нас, – ответил ему вместо Гагарина голубоглазый Фредерикс.
– Я? – с удивлением посмотрел на него Лермонтов. – Что ты хочешь сказать, Дмитрий Петрович? Не я, конечно, а те, кто был четырнадцатого декабря на Сенатской площади. Вот они были людьми дела и знали, что такое борьба.
– Я повторяю твои же высказывания. Ты хочешь посвятить отечеству и жизнь свою и слово, потому что ты владеешь словом, а значит, и оружием для борьбы.
– Ах, Михаил Юрьевич, – волнуясь, перебил опять Долгорукий. – Вы сами сказали о поэте:
Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы…
И дальше:
Твой стих, как божий дух, носился над толпой
И, отзыв мыслей благородных,
Звучал, как колокол на башне вечевой
Во дни торжеств и бед народных.
– Мы все в это верим, – отозвался Шувалов, – и, кроме того…
Но он не кончил. Кто-то сильным рывком открыл дверь, и все увидели на пороге высокую фигуру Браницкого. Он был очень бледен, глаза его горели гневом, и он смотрел прямо перед собой, точно не видя никого.
– Откуда ты, Ксаверий? – спросил Лермонтов.
Браницкий поднял голову.
– От моего врага, – проговорил он сквозь зубы.
– Как?.. Откуда? – раздались голоса. – Неужели ты был сейчас во дворце?..
Браницкий рассказал, что был вызван к государю, который пожелал лично побеседовать с ним.
– Ему, видите ли, интересно было узнать именно от меня, как от потомка «коронного гетмана», какие настроения господствуют сейчас в польском и в украинском обществе. Но Николай Павлович ошибся в выборе: потомок «коронного гетмана» ни соглядатаем, ни предателем не будет. Нет! И он это сегодня понял.
– Почему же он обратился к тебе? – спросил Столыпин.
– Без сомнения, потому, что ему Витт обо мне говорил. Это ведь по ходатайству Витта меня в 1837 году прикомандировали к лейб-гвардии гусарскому полку, а теперь они захотели…
– Подожди! – перебил его Лермонтов. – Витт! Ведь это о нем говорят… Ну конечно, о нем. Он донес императору Александру о существовании Южного общества, за что Николай Первый оказывает ему свою особую милость.
– Я не верил этому! – Браницкий с сомнением покачал головой.
– Можешь не сомневаться! – бросил уверенно Лермонтов.
И вдруг точно каким-то светлым огнем блеснул его темный, так часто сумрачный взор.
– Господа! – сказал он вдруг зазвеневшим голосом. – Разве не стоит порадоваться тому, что мы, шестнадцать человек, а за нами многие, кого мы еще не знаем, говорим на одном языке и ждем одного и того же?
Одоевский, – продолжал он, помолчав, – написал в ответе своем Пушкину, что из искры разгорится пламя. И мы должны быть такой искрой. Мы рождены среди гнета и крепостного права, среди узаконенного рабства, тюрем, ссылок и шпицрутенов. Но должен быть какой-то выход, должны быть средства избавления!
– Однако, господа, – сказал молчаливый Валуев, – мы беседуем здесь так, как будто Третьего отделения не существует на свете.
– Что за беда! – беззаботно отозвался Лермонтов. – В стенах этого дома можно об этом отделении забыть.
– При том условии, если и Третье отделение о нас забудет, – ответил осторожный Валуев. – Я слышал, между прочим, что великий князь зорко присматривается к поведению Михаила Юрьевича и прислушивается к его словам.
– Сегодня я перечитывал вновь две твои пьесы, Михаил Юрьевич, – «Думу» и «Поэта»! – сказал Фредерикс.
– Да? И что же? – спросил Лермонтов.
– И мне стало стыдно – и за себя прежде всего, а потом за всех нас, потому что и мы ведь принадлежим к тому же поколению. Но мы все-таки поняли, что так жить, как живут в нашей стране, больше нельзя.
– Михаил Юрьевич, есть большое внутреннее сходство твоей «Думы» с мыслями Чаадаева, с его пессимизмом во взгляде на Россию, – сказал Валуев. – Ты с этим не согласен?
– Согласен, но только отчасти. Мысли Чаадаева и мои имеют общее начало. И мы оба любим Россию, но, одинаково сильно любя ее, приходим к разным выводам.
– Ты прав, Лермонтов! Для того чтобы Россия заняла достойное место в ряду других европейских стран, она должна освободиться от своего позорного гнета любой ценой! – резко сказал Браницкий.
Валуев посмотрел на него с удивлением.
– Любой ценой? – повторил он. – Не всегда надо стрелять… Нет… И не всякий выстрел вовремя. И вообще есть другие средства.
Браницкий вскочил со своего места. Между ним и Валуевым начинался обычный горячий и напряженный спор. Желая предупредить его, Столыпин, улыбаясь, сказал:
– Не забывайте, господа, что нашими собраниями все больше и больше интересуются великий князь и Третье отделение.
– Как бы не пришлось нам вояжировать, – рассмеялся Лермонтов.
Все обернулись к нему. И вдруг все поняли: самая большая опасность грозит прежде всего ему.
– Михаил Юрьевич! – громко прозвенел голос Долгорукого. – Клянусь честью и жизнью, что если с вами случится что-нибудь плохое, я разделю вашу участь! Я уверен, что так же поступят и другие.
Он встал и посмотрел по очереди на каждого из собравшихся. И когда он увидел, что взгляд его был каждым встречен таким же твердым взглядом и никто не опустил перед ним глаз, он тихо сел на свое место.
* * *
Собрания «кружка шестнадцати» и работа над последними повестями «Героя нашего времени» заполняли теперь почти всю его жизнь, а таимое от всех воспоминание о Вареньке вызывало глубокое счастье и глубокую боль.
Он не писал ей – это было невозможно… И не получал писем от нее, зная только от Мари и Алексея о событиях ее жизни.
Но память о ней и образ ее были всегда с ним, были неотделимы от его душевной жизни.
Женщины «света»… Они окружали его теперь пестрым роем.
Он встречал их в салонах, на приемах, на балах… Нередко сумрачный, словно отсутствующий взгляд его обрывал на полуслове легкую болтовню, и тогда этим пестрым бабочкам казалось, что он прислушивается не к их словам, а к каким-то другим – величавым и строгим, о которых они ничего не знали.
* * *
Когда в Тарханах, в дни детства, внук богатой помещицы видел, как староста, или ключница, или даже сама бабушка обижали кого-нибудь из дворовых людей, его охватывал гнев, который пугал и Христину Осиповну, и бабушку, и даже мсье Капэ.
Его сердце не примирялось с несправедливостью, а вид человеческого страдания делал его несчастным. Стихотворение «Смерть поэта» было криком гнева, возмущения и горя.
«Печально я гляжу на наше поколенье» – так начал он свою «Думу». Но печаль его «Думы» была полна горечью и сдержанным гневом, который разгорался все сильней.
Этот гнев, и печаль, и боль за Россию Николая Первого, за поколение, порожденное николаевской эпохой, привлекали к нему молодежь. И эта молодежь чувствовала себя связанной с ним уже неразрывно.
ГЛАВА 27
В этот раз вечер у княгини Шаховской был, как говорилось, «семейный». Это значило, что не ждали никого из царской фамилии.
Недавно вернувшийся из Берлина Иван Сергеевич Тургенев, начинающий литератор из самых молодых и весьма редкий посетитель светских вечеров, из дальнего угла зала наблюдал за блестящими представителями и представительницами петербургской знати.
Лермонтов вошел вместе с графом Шуваловым. Гусарский мундир его издали бросался в глаза. Придерживая саблю рукой, затянутой в белоснежную перчатку, не глядя по сторонам, он подошел вместе с Шуваловым к юной красавице, сидевшей на диване.
Светлые, льняного цвета локоны падали на ее плечи, белизну которых подчеркивало черное кружево платья.
Шувалов, весело улыбаясь, подсел к ней на диван, молодые люди, окружавшие юную красавицу, быстро удалились, а Лермонтов, придвинув легкую банкетку, уселся напротив. Его темный, тяжелый взгляд медленно обратился к молодой женщине и остался неподвижным.
Тургенев узнал прелестную графиню Мусину-Пушкину.
Сидя неподалеку и наблюдая за этой группой, он подумал, что Лермонтов, должно быть, не слышит ни веселого смеха графини, ни шуток Шувалова – такой у него был отсутствующий взгляд.
И вдруг, точно очнувшись, Лермонтов повернул свою темноволосую голову к дверям, в которых как раз в эту минуту, сияя ослепительной красотой, появилась княгиня Щербатова.
Он встал и, откланявшись графине Мусиной-Пушкиной, пошел навстречу входившей. Тургенев заметил только легкое оживление на его задумчивом лице – и ничего больше. Но, зная известные многим чудесные стихи Лермонтова, посвященные этой женщине, невольно повторил про себя:
Но юга родного
На ней сохранилась примета
Среди ледяного,
Среди беспощадного света.
Лермонтов подал ей руку, и, слегка опираясь на нее обнаженной рукой, она прошла спокойно и бесстрастно под сопровождавшими ее появление любопытными и жадными взглядами.
От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.
– Не правда ли, – неожиданно обратился к Тургеневу проходивший мимо знакомый, – как очаровательна княгиня Щербатова? Так молода – и уже вдова! Печально… Впрочем, поэт Лермонтов ее отчасти утешает. Во всяком случае, его стихи о ней могут порадовать даже такую женщину.
Но Тургенев ничего не ответил болтливому завсегдатаю балов. Он молча поклонился и оставил блистательный вечер.
* * *
Бал у графини Лаваль, назначенный тотчас же после бала у княгини Шаховской, был, по случаю ее болезни, отложен и состоялся только спустя два месяца – 16 февраля 1840 года. Он был костюмированным – для тех, кто не желал быть узнанным.
Это был бал с присутствием особ царской фамилии, и все, что было в столице блестящего и знаменитого, явилось в этот вечер во дворец Лавалей на набережной Невы.
В костюме своей родной Украины княгиня Щербатова была сразу узнана всеми. И так как ее инкогнито было все равно открыто и маска стала бесполезна, она сняла ее и, улыбаясь, болтала с де Барантом. Сын французского посла, явно плененный русской княгиней, держал ее веер и не сводил глаз с ее лица.
– Простите меня, – сказала она вдруг де Баранту, отвечая на поклон Лермонтова, остановившегося перед ней как раз в ту минуту, когда с хоров понеслись звуки первого танца. – Я обещала этот вальс нашему поэту.
Де Барант резко обернулся. Ему было хорошо известно лермонтовское стихотворение, посвященное Пушкину, и гневные строки, в которых говорилось о Дантесе.
Хмурясь и кусая губы, де Барант обменялся с Лермонтовым поклоном. И, хмурясь, смотрел, как легко кружилась эта пара и как развевались в танце алый ментик Лермонтова и белокурые волосы Щербатовой.
Закончив танец, Лермонтов уступил свою даму Браницкому, и де Барант мог бы пригласить княгиню на третий танец. Но он оставался мрачным и, выйдя из бального зала в соседний, с раздражением наблюдал оттуда за Лермонтовым.
Отсюда были слышны заглушённые звуки музыки и легкий шум скользящих по паркету ног. Лермонтов стоял около колонны, которая почти закрывала его от глаз проходивших мимо гостей.
Доносившийся с хоров какой-то грустный вальс напоминал музыку, слышанную в далеком детстве, – быть может, когда играла ему мать…
– Ах, вот вы где, поэт! – раздался около него веселый голос, и его окружила толпа смеющихся масок.
В то же мгновенье улетели опять в сумрак памяти дни далекого детства. Он переводил невеселый взгляд с одной маски на другую, еще не видя их ясно.
Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком шепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски,
Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки, —
Наружно погружась в их блеск и суету,
Ласкаю я в душе старинную мечту,
Погибших лет святые звуки… —
припомнились ему вдруг строки стихотворения, написанного после новогоднего бала в Дворянском собрании. Говорят, кое-кто из высокопоставленных особ обиделся за «большой свет», увидев в январском номере «Отечественных записок» под этим стихотворением дату «1 января»… Ну что ж, они не ошиблись!..
Но его настойчиво звали танцевать и требовали немедленного экспромта.
Он молча стоял перед этой шумной толпой женщин, которые, скрываясь под масками, не стеснялись брать его за руки, стараясь увести в бальный зал, и оставался рассеянным, отказываясь и от экспромтов и от танцев. Но вот два домино, перед которыми все расступались, проходя мимо, взяли его за руки с двух сторон. И голубое, заглядывая в его глаза сквозь прорези черной маски, спросило шутливо:
– О чем же?..
– Или о ком? – перебило розовое домино.
– Да, о ком думает поэт?
В нем поднялась волна раздражения.
О, как мне хочется смутить веселость их
И дерзко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..
О, как хотелось ему крикнуть громко эти слова!
– Не о вас, – с поклоном ответил он и, не замечая наступившего в толпе замешательства, повернулся, чтобы уйти.
Но в ту же минуту дорогу ему преградил де Барант, который тихо сказал:
– Мсье, вы злоупотребляете тем, что в вашей стране запрещены дуэли и ваши офицеры могут не отвечать за свои поступки.
– Наши офицеры? – переспросил Лермонтов и еще тише, чем де Барант, ответил: – Вы ошибаетесь, мсье. Наши офицеры так же достойны уважения, как и ваши, и так же умеют защищать свою честь. И я, мсье, к вашим услугам.
ГЛАВА 28
Прошло два дня. Аким Шан-Гирей, зашедший дождливым утром к Мишелю, чтобы поделиться с ним последними новостями, был очень удивлен, узнав от Вани, что Михаила Юрьевича уже давно нет дома.
Но не успел Шан-Гирей кончить поданный ему завтрак, как Ваня, подбежав к окну, сообщил, что Михаил Юрьевич подъехал в наемной карете.
Еще через минуту Лермонтов вошел и, быстро сбросив с себя промокшую шинель, прошел в комнаты.
– Откуда ты, Мишель? – спросил встретивший его еще в передней Шан-Гирей. – Ты, может быть, купался?
– Почти, – весело смеясь, ответил Лермонтов. – Я стрелялся. А после того на минутку к Краевскому заезжал.
– Ты шутишь?!.
– Ничуть! Стрелялся с французиком одним за Черной речкой. Ну и кончилось все ничем. Он промахнулся, а я в воздух пулю пустил. Вот и все.
– Боже мой! И ты так легко об этом говоришь?! Кто же француз этот?
– А разве я не сказал? Сын французского посла, де Барант. Он решил почему-то, что русские офицеры трусы. Ну вот я и показал ему, какие мы трусы.
– Показал тем, что в воздух выстрелил?
– Ну, а что же? По-твоему, убивать его надо?
– Да ведь он-то хотел тебя убить?
– Это его дело. Но я уверен, что и он не хотел. Что за радость убийство на дуэли?! Да еще из-за чего?
– Да из-за чего же, Мишель?
– Формально он вызвал меня за то, что на балу у Лавалей я не очень любезно ответил двум маскам, не зная, как от них избавиться. А под масками, оказывается, скрывались две великие княжны. Так он будто бы за них оскорбился. Но безразлично, по какому поводу, а говорить французу неуважительно о русском офицерстве я не позволю. Ну, пойдем завтракать. Я голоден.
– Погоди, Мишель, погоди. Ты мне скажи, что же теперь будет?
– А что же теперь может быть? Ничего! Только бабушке не говори.
Он подсел к роялю, открыл крышку и заиграл.
– Послушай-ка, хорошо?
– Очень хорошо! Что это такое?
– Это музыка моя к «Казачьей колыбельной песне». А знаешь, Аким, – серьезно посмотрел Лермонтов на Шан-Гирея, – он, в сущности, не потому меня вызвал, этот французик. И не из-за Щербатовой. Говорили мне, что французское посольство я прогневил.
– Прогневил? Чем же это?
– Строчками о Дантесе. Но вольно же им было принимать на счет всей нации то, что я сказал об убийце Пушкина!
– Вот это, Миша, неприятный оборот… Но почему же они вспомнили об этом теперь?
– Этого я тоже не понимаю. Почему они вспомнили об этом теперь и чем я мешаю и де Баранту, и великому князю, и Третьему отделению?
И, позабыв об усталости и голоде, он долго сидел, задумавшись и перебирая клавиши одной рукой.
* * *
В февральский солнечный день 1840 года Иван Иванович Панаев – «опекун литературы», как звали его некоторые (кто всерьез, а кто в шутку), – торопливо шагая по Литейному, на углу чуть не наскочил на Владимира Федоровича Одоевского.
– Прошу прощения, Владимир Федорович, – быстро заговорил он, – я вас, кажется, толкнул? Вы далеко ли? И почему пешком?
– Пока просто вышел по солнцу пройтись – мы его давно не видали, а дальше еще не знаю. А вы куда таким аллюром?
– А я в редакцию, к Краевскому, на розыски моего собственного февральского номера «Отечественных записок». Мне его еще не доставили, а ведь в нем «Тамань»! Ведь этот номер, наверно, рвут с руками. Боюсь, что и мой оторвут.
– Ну, в таком случае и я с вами, – сказал Одоевский, стараясь приноровиться к шагам Панаева. – Может, удастся узнать, когда можно ждать плодов последнего разрешения цензуры?
– Какое разрешение имеете вы в виду? – быстро спросил Панаев.
– А разве вы не знаете? Девятнадцатого числа сего месяца цензура разрешила отдельное издание «Героя нашего времени».
– Да неужели? – прокричал Панаев, остановившись посреди улицы. – Все пять повестей?
– Все пять повестей.
– Великолепно! Я буду просто счастлив иметь в своих руках целый томик этих чудесных вещей!
– Да-а! Блистательные образцы русской прозы, как выразился Александр Иванович Тургенев у Карамзиных, когда Лермонтов читал там в сентябре свой отрывок. И что примечательно – это я уж от себя добавляю, – во всей этой прозе он всегда остается поэтом. Некоторые места слушаешь как музыку. И кроме того, все время чувствуешь глаз живописца.
– Надо надеяться, Владимир Федорович, что для Лермонтова наступает сравнительно спокойный период жизни, когда он сможет, наконец, отдаться литературной работе.
– Он и сам об этом мечтает. Вы знаете, – улыбнулся Одоевский, – Виссарион Григорьевич от него в неистовом восторге. И в самом деле, он еще так молод, а какая зрелость мастерства и какой мудрый глаз на нашу современность! Кто глубже и ярче его вскрыл тяжкую душевную пустоту ее героев? И у кого еще такая великолепная кисть? Ведь его «Песнь о купце Калашникове», и «Мцыри», и весь «Герой нашего времени» – это…
Но в эту минуту женский голос позвал:
– Владимир Федорович! Кня-язь!..
Одоевский умолк, не окончив фразы, и, оглянувшись, увидал неподалеку карету и худенькое лицо Софи Карамзиной, махавшей ему рукой из окошка.
– Садитесь со мной скорее, – крикнула она, – вы мне очень нужны!
– А куда вы изволите ехать? – спросил Одоевский, подходя и целуя ее руку.
– К Смирновой, к Александре Осиповне, и мне необходимо поговорить именно с вами.
– Ну, Иван Иванович, – обернулся Одоевский к Панаеву, – после таких приказаний ничего не остается делать, как только повиноваться.
Оба улыбнулись, после чего Панаев поспешил дальше уже один, а Одоевский уселся в карете и спросил Софи Карамзину:
– Что же случилось, Софья Николаевна, и чем я могу быть вам полезен?
– Да не мне, – сказала она, – а Лермонтову, Лермонтову! Вы ничего о нем не слыхали?
– О нем? – удивился Одоевский. – Ничего, кроме того, что скоро должен появиться его «Герой» отдельным изданием, чему я чрезвычайно рад.
– Ах, боже мой! – торопливо проговорила Софья Николаевна, обернув к Одоевскому взволнованное лицо. – Это, конечно, конечно, замечательно, но у него могут скоро произойти новые неприятности. С ним всегда что-нибудь случается.
– Что же случилось на этот раз?
– А вот что: говорят, у него была дуэль с сыном французского посла.
– Дуэль?! – переспросил пораженный Одоевский. – С де Барантом? Не может быть!
– Я тоже так думала, но maman слышала из верного источника, что это действительно произошло на днях где-то около Черной речки. И хотя Михаил Юрьевич выстрелил в воздух – я знаю, он не признает убийства на дуэли, – все равно мы боимся, что это не пройдет ему даром.
Одоевский сидел молча.
– Вот почему я еду к Александрине, – заключила Софья Николаевна. – Мы должны с ней посоветоваться о том, кого можно будет о нем просить.
– В таком случае, – решительно проговорил Одоевский, – продолжайте ваш путь, но прикажите кучеру на одну минуту остановиться. Потому что я сейчас же поеду кое к кому, чтобы узнать, насколько верны ваши сведения, а потом выяснить, с кем и мне следует о нем поговорить.
– Я знала, что вы именно так поступите, – ласково сказала Софи Карамзина, протягивая ему руку.
* * *
Весна долго не начиналась по-настоящему, но наступили ветреные багровые закаты, долго не потухавшие над Невой.
Уже забывалась понемногу эта история дуэли Лермонтова с де Барантом. Участники ее выезжали снова в свет, и княгиня Щербатова была явно увлечена воспевшим ее поэтом.
А Лермонтов все упорнее мечтал об отставке, огорчая этим Елизавету Алексеевну, желавшую видеть его блестящим офицером.
Он думал о том, что уже пережил, и что уже написал, и что напишет в будущем, и о том, что цензор Корсаков разрешил издание «Героя нашего времени». Думал о судьбах России, о членах «кружка шестнадцати» и о том, как был бы доволен Одоевский, узнав о его существовании. Он думал об очень многих и очень различных вещах и людях и совсем не думал о том, что через несколько дней будет арестован, отправлен в петербургский ордонансгауз и предан военному суду.
В конце февраля командир лейб-гвардии гусарского полка генерал-майор Плаутин потребовал, чтобы поручик Лермонтов представил письменное объяснение обстоятельств дуэли между вышеназванным поручиком лейб-гвардии гусарского полка и сыном французского посла.
11 марта 1840 года за подписью великого князя Михаила Павловича был издан приказ, в котором объявлялось, что лейб-гвардии гусарского полка поручик Лермонтов за произведенную им, по собственному его сознанию, дуэль и за недонесение о том тотчас своему начальству предается «военному суду при Гвардейской кирасирской дивизии арестованным».
На другое утро после того, как его увели, бабушка долго не выходила из своей комнаты. И не было слышно, чтобы она кого-нибудь позвала.
Наконец Шан-Гирей постучался к ней и, не получив ответа, осторожно приоткрыл дверь. В полусвете туманного утра он увидел бабушку, лежавшую в странной позе, с вытянутой и отброшенной рукой.
Заметив его, она с трудом проговорила:
– Плохо…
И Аким Шан-Гирей понял, что у бабушки случился удар и что язык и левая рука плохо ей повинуются.
Но уже через три дня, с первыми признаками улучшения, она начала здоровой рукой писать письма начальству, прося за Мишу, и выпросила у барона Зальца, петербургского плац-майора, разрешение племяннику ее Акиму Шан-Гирею ежедневно навещать арестованного.