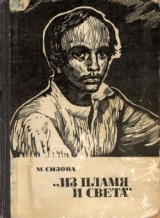
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 15
За дверью его холодного карцера на верхнем этаже Главного штаба стоял часовой. На площади маршировали солдаты, и слышалась барабанная дробь.
Лермонтова вызывали на допрос к генералу. Генерал говорил железным голосом:
– Вы осмеливаетесь в стихах призывать к революции! Вы задели честь нашего высшего дворянства! Недаром за Пушкина вступились! Это он вас научил вольнодумству!
Лермонтов молчал. Только на слова о Пушкине ответил:
– Пушкину и государь император воздает должное.
– «Воздает должное»! Вот именно-с, правильно изволили сказать… «Дол-жно-е»! А недолжного и не воздает. А вы что такое насочинили? В мученики его произвели? Ну, уж это дело десятое, если вам так нравится. Но ведь вы против кого подняли голос? Против лиц, стоящих у трона! Вы забыли, в каком полку служите?..
Он старался не слушать, чтоб не ответить дерзостью.
Генерал вдруг весь наклонился вперед к стоявшему перед ним неподвижно Лермонтову и, вытянув побагровевшую шею и точно просверливая острым взглядом спокойное усталое лицо поэта, прокричал визгливым, каким-то бабьим голосом:
– Мальчишка! Знаете ли вы, что вы натворили? Как отозвался его сиятельство граф Александр Христофорович о ваших виршах? Преступными назвал он их, слышите?! Пре-ступ-ны-ми!.. А знаете ли вы, какое предположение создалось на ваш счет у нашего августейшего монарха? Ах, вы не знаете? – продолжал он кричать, видя, что Лермонтов по-прежнему стоит перед ним молча, не делая ни единого движения. – Так я вам сообщу, если угодно: его величество высказал опасение, что рассудок ваш не может быть назван здравым. Иными словами, что вы – достояние не совсем веселого дома, который называется сумасшедшим домом. Что? Вы, кажется, что-то возразили?..
– Нет, ничего… – побледнев, очень тихо ответил Лермонтов.
В конце концов генерал все-таки разрешил арестованному получать ежедневно «харчи» из дому.
В первый же раз, получив корзину, присланную бабушкой, он оставил у себя бумагу, в которую был завернут хлеб, и вечером смастерил себе что-то вроде чернил из печной сажи, разведенной вином. Потом лег на жесткую койку и отдался потоку мыслей и воспоминаний, который, начавшись с событий последнего дня, унес его в прошлое.
Кто-то пел за стеной и утром, и после вечернего обхода стражи, и даже ночью. Видимо, не спалось этому неизвестному соседу, и коротал он время негромкою песней, разгоняя горькую тоску. Он пел вполголоса мягким, заливчатым тенором, и Лермонтов слушал его с жадностью и отрадой, приблизив ухо к сыроватой стене.
Когда на другой день ему принесли из дому обед, он сунул незаметно на дно пустой корзины ту самую бумагу, в которую накануне был завернут хлеб.
Елизавета Алексеевна при помощи Шан-Гирея вынула ее дрожащими руками и, проливая горькие слезы и не выпуская ее из своих рук, принялась разбирать написанные сажей полустертые слова дорогого почерка.
Кто б ни был ты, печальный мой сосед… —
медленно шевелились ее губы, —
Люблю тебя, как друга юных лет,
Тебя, товарищ мой случайный,
Хотя судьбы коварною игрой
Навеки мы разлучены с тобой
Стеной теперь, а после – тайной!
– Не могу, Акимушка!.. – остановилась бабушка, беспомощно глядя на стихи. – За стеной Мишенька наш! За запором!..
– Но в этом ничего страшного нет, бабушка, и Мишеля, конечно, скоро освободят! Давайте-ка я вам прочитаю: у меня глаза получше.
– Разбери, голубчик, прошу тебя! – умоляюще сказала бабушка. – Ведь кто его знает, он, может быть, стихами-то о чем-нибудь меня просит, а я разобрать не могу!
Аким Шан-Гирей продолжал:
Когда зари румяный полусвет
В окно тюрьмы прощальный свой привет
Мне, умирая, посылает
И, опершись на звучное ружье,
Наш часовой, про старое житье
Мечтая, стоя засыпает, —
Тогда, чело склонив к сырой стене,
Я слушаю – и в мрачной тишине
Твои напевы раздаются.
О чем они – не знаю; но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются…
– Ах, Миша, Миша! – с тоской воскликнула бабушка, перебивая чтение. – Ведь это значит, что плачет он там, Акимушка!..
– Что вы, бабушка, ведь это не о слезах, а о звуках он говорит: звуки льются!
– Звуки, говоришь? Ну, читай дальше, читай!
Не спуская глаз с Шан-Гирея, она слушала, боясь проронить хоть одно слово.
И лучших лет надежды и любовь —
В груди моей все оживает вновь,
И мысли далеко несутся,
И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит – и слезы из очей,
Как звуки, друг за другом льются.
– Вот видишь, Акимушка, – с отчаянием проговорила бабушка, дослушав до конца. – Здесь уж не о звуках, здесь о слезах сказано! Ах, боже мой, чем же нам помочь ему поскорей? Нет ли где еще приписки?
Она посмотрела на бумагу со стихами и на обратной стороне увидала другие:
– Да тут и еще есть! Ну-ка, я сама попробую!
Бабушка поправила очки и громко прочла:
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня…
Тут уж она не могла больше сдерживаться; слезы градом закапали из ее глаз, и она с отчаянием всплеснула руками:
– Ах, боже мой! Так прямо и говорит… Отворите темницу!..
– Но это нельзя так прямо понимать! – Шан-Гирей заглянул в следующие строки. – Вы посмотрите, что тут дальше-то написано: видите?
…Дайте мне сиянье дня,
Черноокую девицу,
Черногривого коня…
– Ну, разве он может вас об этом просить? В стихах, бабушка, не все правда.
– Об этом-то он меня, конечно, не просит, – задумалась бабушка, – а только в Мишенькиных стихах все правда. Собирайся-ка, мой друг, проводи меня, поеду о нем просить!
– К кому?
– Сама еще не знаю: может, к брату поеду, пусть попросит кого надо… Едем, Акимушка, едем!
ГЛАВА 16
Он долго лежал без сна, прислушиваясь то к редким и глухим звукам, долетавшим сюда с площади, то к тому же тихому голосу за стеной. Голос напевал что-то очень знакомое, напоминавшее не то детство, не то Москву… Вспомнил! Вечер у Лопухиных, догорающие свечи и эту самую песню, слова которой так старательно выводил чистый Варенькин голос. Она стояла у фортепьяно в розовом легком платьице и пела, сжав тонкие руки, и время от времени весело поглядывала то на сестру, то на него, Мишеля. Он вспомнил и первые слова этой песни:
Пускай метель несется
И снег летит кругом…
Далеко-далеко протянулась ровная снежная дорога, и лунный свет делал снежный простор голубым…
Лицо Вареньки обращено к нему, и глаза ее в последний раз взглянули на него из темноты, точно согревая его своим светом… Нет, не может быть, чтобы это было в последний раз! Они непременно встретятся, потому что они родные друг другу – и как уже давно! Раньше, гораздо раньше, чем они поняли это сами!..
…Сторож вошел в его камеру и в ответ на просьбу арестованного дать огоньку, ворча, зажег лампадку.
Рубиновый огонек упал на темный образ старого письма, напомнил детство в Тарханах и слова молитвы, которым учила его нянька, ходившая за ним до появления Христины Осиповны.
Если б он мог повторить те слова, глядя на этот древний образ, он ничего не просил бы для себя, а только для нее.
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.
Он заснул, наконец, как в детстве, повторяя только что сложившиеся строчки стихов, а утром поспешил записать их.
Но их он не послал бабушке, их он спрятал. Эти певучие и нежные строки родились неожиданно для него самого, точно душа его вдруг вернулась к далеким дням детства.
На другой день его вызвали к дежурному генералу и там сообщили высочайшее повеление, полученное шефом жандармов через военного министра, графа Чернышева:
– «Лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова за сочинение известных вашему сиятельству стихов перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк…»
Он понял, что ссылается на Кавказ, и спросил только о судьбе Раевского.
Дежурный генерал взял в руки высочайший приказ и дочитал его до конца:
– «Губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора».
– Святослав, Святослав!.. Это я во всем виноват! – Ему хотелось кричать, требовать отмены этого приказа, бежать к Раевскому и умолять его о прощении.
С отчаянием посмотрел он на равнодушное, неумолимое лицо генерала, который, точно предугадывая его просьбу, сказал жестко:
– Повеление его величества государя императора никакому смягчению не подлежит.
Тогда он повернулся и медленно пошел к выходу. Но у самых дверей дежурный генерал остановил его:
– Корнет Лермонтов, внимая просьбам бабки вашей, урожденной Столыпиной, его величеству благоугодно было дать вам десять дней на сборы и прощание с родными!
Десять дней! Еще целых десять дней жизни!..
Через полчаса бабушка, плача, уже обнимала его дрожащими руками, и Ваня смотрел на него, сияя от радости. Он знал, что он-то не расстанется теперь с Михаилом Юрьичем, а куда его барин возьмет с собой, Ване было безразлично. Кавказ так Кавказ – и на горах люди живут!
– Ваня! – сказал в тот же вечер Лермонтов, укладываясь после многих ночей опять в своей спальне. – В Кахетию поедем, в селение Караагач. Там мой новый полк квартирует.
– Слушаю, Михаил Юрьич!
ГЛАВА 17
Дом на Мойке, что у Певческого моста, безгласен и темен. Изредка пройдет кто-то за опущенными шторами со свечой, и темнота опять сомкнётся за исчезающим медленно огоньком.
В сумерки к этому дому тяжелым и медленным шагом шел Василий Андреевич Жуковский.
Не доходя до подъезда, он остановился. Василий Андреевич Жуковский, русский поэт и царедворец, чувствовал, что, отняв Пушкина, у него отняли искру, зажигавшую в каждом, кто соприкасался с нею, огонь лучших человеческих чувств. Никогда уже не вернутся незабвенные дни и вечера, проведенные в этом доме, согретые умом, дружбой, заразительным звонким смехом Пушкина, освещенные его гением!
Что же остается? Не говорить с тоской: «Их нет», но с благодарностью: «Были»?
Были… были… Нет, это слово его не утешало больше!
И ничто – он знал это – до конца дней не утешит его уже стареющего сердца в этой страшной утрате. Он глубоко вздохнул и, тяжело передвигая ноги, пошел к подъезду. Как раз в эту минуту дверь отворилась, и темная фигура сошла со ступенек.
– Александр Иванович? – узнал Жуковский. – Как рад я вас видеть именно сейчас, в эту минуту!
Тургенев всмотрелся в осунувшееся, изменившееся лицо.
– Василий Андреевич, вы бы, дорогой, хоть уехали куда-нибудь на время, чтобы в себя прийти. Ведь на вас смотреть страшно, так изменились. Поберечь надо себя-то!..
– Э, батенька, что обо мне говорить!.. – махнул безнадежно рукой Жуковский. – Мне без Сверчка моего ни весна не красна, ни жизнь не мила. Вы… от нее? – Он указал глазами на темное окно.
– От нее. До сих пор еще меня не спрашивала о том, как я отвез его. Как все кончилось там… в Святогорском монастыре. Только сегодня она нашла в себе силы увидать меня и… узнать все. Я оставил ее сейчас в слезах, но с ней Александра Николаевна. Вы к которой из них: к Александрине или к Натали?
– Ни к той, ни к другой. Мне нужны его бумаги. Может быть, осталось что-нибудь неопечатанным – какие-нибудь незаконченные стихи. Как будто Александрина что-то нашла…
– Не смею вас задерживать…
Тургенев еще раз посмотрел на Жуковского и покачал головой:
– Да, нелегко нам всем дается эта утрата. Василий Андреевич, вы слышали о Лермонтове?
– Как же! Прекрасные стихи написал он о дорогом Пушкине. Он был арестован. Что с ним теперь? Судьба его как-нибудь решилась?
– Ссылают Лермонтова на Кавказ, в действующую армию против горцев. По его делу, слышал я, уж и приказ готов.
– На Кавка-аз?!. – протянул удивленный Жуковский.
– По высочайшему повелению, – добавил Тургенев.
– Странно, очень странно… – растерянно сказал Жуковский. – Я об этом приказе ничего не знал!
– Может быть, нарочно, Василий Андреевич, скрыли?
– Может быть, – повторил тихо Жуковский. – Но во всяком случае теперь за судьбой этого гусара я буду следить. И если ему на Кавказе придется плохо – что очень возможно, – буду просить за него.
– Вы окажете этим несомненную услугу русской литературе. А я скоро прощусь с отечеством. Надолго ли, не знаю, но уеду непременно. Без Пушкина опустела Россия. Мне тяжко в ней… А вы останетесь здесь? – Тургенев поглядел в печальные глаза Жуковского.
Не опуская своего взгляда, Жуковский уныло ответил:
– Вы, Александр Иванович, человек свободный, а я как солдат: несу цареву службу и пользуюсь этим, чтобы иногда хоть кому-то помочь.
Они пожали руки друг другу, и, тяжело вздохнув, Жуковский вошел в дом, из которого ушла жизнь…
ГЛАВА 18
Сумятица дел перед отъездом, и сборов, и свиданий с людьми, заездов деловых, заездов прощальных к друзьям вперемежку с разговорами с бабушкой закружила Лермонтова с первого часа свободы до последней минуты в Петербурге.
Чуть-чуть не угодил опять под наказание. Попался на глаза – у английского магазина – великому князю, не надев новой формы драгунского полка – с бараньей шапкой и какими-то восточными шароварами, – и вызвал его гнев. Свалил вину на портного, будто бы опоздавшего с новой обмундировкой, хотя она уже висела дома на вешалке – чудная форма, к которой он никак не мог привыкнуть.
Великий князь строго погрозился… А выручил приятель Костя Булгаков, в обеих столицах гремевший славой отчаянного забияки и остряка. Приехав к Лермонтову и не застав его, он облек свою маленькую персону – под хохот товарищей – в восточные шаровары и в баранью шапку и помчался на своем рысаке по Невскому… и попался тому же Михаилу Павловичу на глаза!
Великий князь посмотрел на часы: десять минут еще не прошло, а этот бестия Лермонтов уже исполнил свое обещание! Ишь, сыплет как на своем рысаке!
– А ну-ка, – крикнул он кучеру, – догони того драгуна на буланом рысаке!
Михаил Павлович поспешно приставил лорнет к близоруким глазам, чтобы рассмотреть «эту бестию».
Но буланый рысак молнией исчез за поворотом, прежде чем великий князь и придворный кучер успели разобрать куда.
– Передайте Лермонтову, что он молодец! Люблю исправных офицеров! – сказал вечером своему адъютанту великий князь.
Последний вечер прежней жизни и последние рукопожатия… В последний раз обнимает его бабушка. И, поцеловав трижды подряд ее дрожащие руки, он сбегает с лестницы вместе с Монго Столыпиным, провожающим его до Москвы, выходит на подъезд и останавливается, пораженный: тройка коней, запряженных в широкие сани, стоит рядом с его санями. И не успел он разглядеть лица сидящих в ней лейб-гусаров, как уже подлетела к подъезду и другая тройка и третья…
– Мишель! – говорит за всех Столыпин. – Вот тебе сюрприз от всего полка. Мы хотели дать тебе прощальный обед – начальство не разрешило. Это было бы похоже на протест. Но смотри, все едут проводить тебя до первой станции!
– Ура!.. – покрыли его слова звонкие голоса, и никогда не унывающие гусары, крикнув своим ямщикам: «Пади!», промчались по вечерним улицам уже затихающего Петербурга вслед за своим товарищем, изгнанным отныне из их среды.
На почтовой станции проводы заняли два часа и продолжались бы еще больше, если бы вовсе не случайно оказавшийся тут фельдъегерь не отдал краткого приказания: отъезжающему следовать дальше, а провожающим повернуть назад.
ГЛАВА 19
За несколько дней, проведенных вместе с Монго Столыпиным в Москве, Лермонтову удалось повидать лишь немногих из тех людей, о которых особенно стосковалась его душа. Но зато в первый же вечер он обошел весь Кремль. Его строгая красота, говорившая о суровом величии прошлого, поражала каждый раз заново, как если бы он видел ее впервые.
Время проходило тяжелой поступью над этими зубчатыми стенами и островерхими башнями. Сменялись поколения, умирали цари и временщики, но Кремль стоял неизменно, утверждая новую жизнь и правду новых поколений.
«Ты жив! – с невольным умилением хотелось крикнуть ему. – Ты жив! И каждый камень твой – заветное преданье поколений!»
– Здравствуй, Ахилл! А ты все чернеешь! С тех пор как я тебя рисовал, ты, право, еще почернел! – так приветствовал Лермонтов старого чернокожего лакея Лопухиных, когда, стараясь казаться веселым, впервые переступил порог лопухинского дома в отсутствие Вареньки.
Ахилл встретил его с искренней радостью.
– Почернела, почернела! Ахилл совсем черная стала!
Он смеялся, сверкая и глазами и зубами, и пошел докладывать о госте.
Лермонтов подошел к окну. Боже мой, как знаком, как дорог ему этот памятный вид на зеленеющий по-весеннему дворик, на забор сада, за которым стоят выросшие за время его отсутствия еще голые тополя!..
Острая печаль и чувство какой-то духоты охватило его. Он открыл форточку и с жадностью глотнул свежий воздух, пахнущий весенней оттаявшей землей, и стоял так, не шевелясь, пока не раздался за ним милый его слуху приветливый голос Мари Лопухиной:
– Мишель! Неужели это вы?!.
Он обернулся, встретил ее, как всегда, спокойный и ясный взгляд, взял протянутые ему руки и поочередно поцеловал их.
Мари посмотрела на его мундир, потом взгляд ее с участием остановился на его лице.
– Вы больны были? – быстро спросила она. – Почему на вас не гусарская форма? И лицо у вас… совсем темное лицо!..
– Я разжалован, друг мой, за стихи об убитом Пушкине, и потому я больше не гусар лейб-гвардии и еду в ссылку на Кавказ.
– На Кавказ? В ссылку?!. – с ужасом повторила Мари. – Надолго ли? Ах, боже мой, как это ужасно!.. Бедная, бедная бабушка ваша!..
– Да, мысль о ней меня очень мучает. Я являюсь источником ее постоянных волнений и горестей.
Он со вздохом потер лоб смуглой тонкой рукой.
– И не оставляет меня… мысль о Вареньке, которую я потерял. Скажите мне что-нибудь о Вареньке. Как она? Где? И неужели совсем обо мне забыла?..
– Ах, Мишель! – воскликнула Мари с искренним огорчением. – Зачем вы это говорите! Вы же знаете, что вы наш самый близкий друг – Алешин, Варенькин и мой – и что забыть вас мы не можем. Пойдемте скорее к Алексису. Он болен немного и не выходит и потому особенно будет вам рад, а вечером, после, я расскажу вам о Вареньке.
Да, они были действительно рады друг другу: Алексей Лопухин, Коля Поливанов и Лермонтов. Он жалел, что Сашеньки Верещагиной не было среди них. От нее только изредка приходили письма из чужих краев.
Поздно вечером, вернувшись домой, то есть к Лопухиным, где он остановился, Лермонтов нашел в гостиной ждавшую его Мари.
– Мне хотелось сегодня же сказать вам, Мишель, как все это произошло, – начала она, как только он вошел. – Вы знаете, что Варенькино сердце долгое время принадлежало вам?
– По крайней мере я верил в это.
– И вы не ошибались. Но вы не знаете, что такое в нашем доме воля старших.
– Воля вашей матери?
– Да, ее и отца. До них дошли слухи о ваших увлечениях, и они не оставили Вареньку в неведении о том, что им казалось и кажется признаком большого легкомыслия. Бахметев в это время бывал у нас каждый день. Но главное не в этом. Главная причина была в вас.
Он слушал не возражая.
И она повторила:
– Главное препятствие было в вас – в вашем образе мыслей, которого вы никогда не скрывали, – с грустью сказала она, – даже став офицером. Мама сказала, что она умрет, если ее дочь будет женой «вольнодумца». Это она вас так называет. В это время Бахметев просил у нее Варенькиной руки…
– Вот как!.. – сказал он, опустив голову. – Я благодарен вам за все, что вы мне сообщили, но больше не хотел бы об этом говорить ни с кем. Даже с вами, мой друг. Простите меня, если этим я вас обижаю, но это так.
ГЛАВА 20
Вечером, к ужину, наехали гости. Алексей и Мари просили Лермонтова почитать после ужина стихи.
В этот раз даже старик Лопухин, даже грозная maman, которой подчинялось все в доме, присоединились к их просьбе. Украшенный седыми бакенбардами генерал, подвязывая себе салфетку, покосился на сидящего напротив него Лермонтова и, наклонившись к соседу, пробасил ему в ухо:
– Говорят, за стихи-то голубчика и отправляют на Кавказ. Написал что-то такое… эдакое… весьма предосудительное.
– О сочинителе Пушкине, ваше превосходительство, мне точно известно, – ответил шепотом сосед.
– Слыхал о нем, – пробасил генерал, – но не читал.
Откашлявшись, он обратился к Лермонтову:
– Вы, милостивый государь, как слышно, на Кавказ получили назначение?
– На Кавказ, ваше превосходительство.
– Страна гористая. Горы там, можно сказать, со всех сторон. Разрешите узнать, вы сами изволили просить о сем назначении или такова воля начальства?
Лермонтов посмотрел в небольшие, под тяжелыми веками, глаза генерала.
– Меня туда ссылают, ваше превосходительство, за стихи о смерти Пушкина, которая была преступным убийством. Вот все, что могу вам сообщить, – и он отвернулся от пристально разглядывавшего его генерала к Алексею.
Но его превосходительство, еще не считая разговор оконченным, вдруг заволновался.
– Позвольте, господин прапорщик, но убийца Пушкина мог, в свою очередь, быть убитым, ежели бы этот сочинитель лучше стрелял. А уж коли стрелять не умеешь, так и не храбрись по-пустому.
– Вы так думаете? – переспросил Лермонтов, резко повернувшись к его превосходительству, и по тону его голоса Алексей и Мари поняли, что может разразиться буря.
– Не надо вспоминать об этом! – громко сказала Мари. – Мишель! Итак, вы едете на Кавказ? Но куда же именно? – старалась она замять опасный разговор.
– На Кавказ, в Нижегородский драгунский полк.
– В Нижегородский полк? – вмешался опять генерал. – Знаю, знаю. В Турецкую кампанию я на Кавказе был и дальше – в Турции.
В глазах Лермонтова вдруг загорелся озорной огонек:
– У меня был приятель из Турции родом. Он ее в стихах воспел. Стихи коротенькие, но занятные.
– Ежели коротенькие, то читайте, – снисходительно разрешил генерал.
– Если только я помню эти стихи до конца… «Жалобы турка», – начал Лермонтов и, прочитав все стихотворение, с особенной силой сделал ударение на последних строчках:
Там стонет человек от рабства и цепей!
Друг! Этот край – моя отчизна!
За столом воцарилось общее молчание, после которого генерал снова откашлялся и с преувеличенной вежливостью обратился к Лермонтову:
– Благоволите повторить, господин прапорщик, как именуется сие произведение вашего приятеля?
– «Жалобы турка», – подсказал сосед.
– Да, да, именно так. Приятель ваш жалуется на рабство и его цепи. А позвольте узнать, как имя автора сего сочинения?
– Лермонтов, ваше превосходительство, – при всеобщем молчании громко прозвучал ответ.
– Так-с, господин прапорщик. А вы в Турции бывали?
– Нет, ваше превосходительство.
– А позвольте спросить тогда, каким же образом вы так хорошо осведомлены о рабстве и о его цепях, которые тяготят народ в Турции?
Все присутствовавшие внимательно и пристально смотрели на Лермонтова, ожидая его ответа.
– По слухам, ваше превосходительство.
– Ах, вот как-с!.. – после паузы сказал его превосходительство. – Ну что же, я думаю, что вам действительно будет весьма интересен Кавказ, такой близкий сосед Турции…
– Я слышал, ваше превосходительство, – шепнул сосед, – что на приказе об отправлении сего прапорщика граф Александр Христофорович собственноручно написать соизволил: «Убрать подальше».
– Ваше здоровье, прапорщик Лермонтов! – поднял бокал генерал.
Но Лермонтов отвернулся к соседу и, сделав вид, что ничего не слышит, не ответил.








