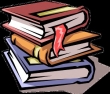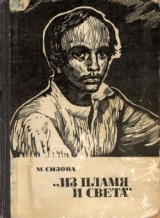
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 26
Из окон тархановского дома в темные ночные часы видны только близко подступившие сугробы, силуэты тихо качающихся сосен да смутно белеющие стволы берез.
Лермонтов долго стоял у окна, словно стараясь запомнить этот с детства знакомый вид, потом зажег свечу на своем столе и, развернув рукопись, стал перечитывать написанное за последний день. Вдруг ему показалось, что кто-то шепчется за его спиной. Оглянувшись, он увидал у самой двери молоденькую девушку, почти девочку, которую встречал и во дворе и дома. Она побелела от страха и часто крестилась мелким крестом, повторяя шепотом: «Господи помилуй, господи помилуй!..»
Лермонтов удивленно смотрел на нее.
– Ты что? Ко мне?
Тогда, роняя платок с головы и открывая совсем юное, еще полудетское лицо и русую косу, она бросилась к его ногам и прижалась лбом к полу.
– Барин, помоги! Помоги, миленький! Кормилец наш, помоги!..
– Встань! – почти крикнул он, поднимая ее с пола. – Встань сейчас же! Ты здешняя? Я тебя видел.
– Здешняя, барин, миленький, Фроська я.
– Наша?
– Ага. Только я обмененная!
– Какая, какая?
– Обмененная я! – повторила Фроська, заливаясь слезами. – Барыня меня на коляску обменяла!
Он приподнялся с дивана и с ужасом посмотрел на юное лицо, по которому текли слезы.
– Какая барыня? – прошептал он. – Елизавета Алексеевна? Моя… моя бабушка?!
– Ага! – утвердительно кивнула головой Фроська. – Вельяшева барина знаешь? У него коляска аглицкая, а она нашей барыне нужная. Барин, помоги!..
– Да ты толком говори! – крикнул он, чувствуя, как волна жалости и стыда перед этой девочкой поднимается в его сердце. – У него коляска, а ты при чем?
– А ему рукодельница занадобилась, а я у вас в рукодельной первая. Они меня и обменяли… А у меня мать-отец в Тарханах и жених ямщиком. Барин, миленький, не губи, не отдавай меня на́ сторону! За что же я обмененная-то?!
– Нет, нет, я не позволю! – быстро заговорил он, глядя на дверь, за которой еще недавно смолкли бабушкины шаги. – Я не позволю этого!.. Никуда тебя не отдадут! Слышишь? Веришь мне?..
– Барин, миленький!.. – Фроська снова бросилась ему в ноги.
– Вставай, вставай! Что это ты? Я этого не позволяю! Ваня где? – быстро спросил он. – Это он тебя привел?
– Ага, – чистосердечно призналась Фроська. – Родной он мне. Теткин сын.
– Поди пошли ко мне этого теткиного сына. А тебя ни на какую коляску не обменяют. Ни на новую, ни на старую. В Тарханах была – тут и останешься.
– Барин, родной!.. Дай тебе бог счастья!
– Да ты опять в ноги?! Ваня!
Ваня уже стоял у дверей и исподлобья, со страхом и надеждой смотрел на своего господина.
– Ты что в дверях жмешься? – взглянул на него Лермонтов, делая строгое лицо и неумолимые глаза. – Думаешь, ругать буду? Не буду.
– Михал Юрьич, дай вам бог здоровья, дай бог счастья, ваше благородие!
– Ну ладно, ладно. Бабушку ко мне попроси, а эту Ямщикову невесту отведи, и чтобы в людской ее угостили. Понял?
– Понял, Михал Юрьич, – просиял Ваня и, взяв за руку Фроську, которая усердно вытирала ладонью слезы, катившиеся по лицу, увел ее.
* * *
Бабушка вошла в тревоге:
– Что такое, Мишенька? Да на тебе лица нет!
Он не сразу ответил. Потом, посмотрев ей в глаза тем темным и непокорным взглядом, перед которым она терялась еще в детстве его, сказал:
– Бабушка, мы живем с вами, как преступники.
– Ох-ох, Мишенька! Что ты говоришь? Будто я никого не зарезала, не ограбила!
Она опустилась в кресло и смотрела на него с ужасом.
– Да, как преступники, – повторил он. – Потому что мы торгуем людьми! Неужели же вы, вы, мать моей матери, можете платить за коляску такой страшной ценой?
После этих слов страх и недоумение исчезли с ее лица. Она успокоенно отмахнулась рукой, как от мухи, и облегченно вздохнула.
– Я думала невесть что! Я, мой милый, Фроську не в какие-нибудь руки отдаю, а в порядочный дом, не хуже нашего.
– Нельзя, нельзя этого делать! Бабушка, неужели вы не понимаете, что этого делать нельзя?
Елизавета Алексеевна недоуменно посмотрела на внука.
– Я же тебе сказала: в хорошие руки. Зла, стало быть, никакого и не получается. Ты ведь об этом?
– Об этом.
– Фроська твоя станет там жить-поживать да добро наживать. Зла я и сама не сделаю.
– У Фроськи здесь отец и мать.
– А думаешь, девок в чужие деревни замуж не выдают?
– У нее здесь жених.
– Жених? Что-то не слыхала. Ну, Фроська пускай останется. А я, может, кого другого подыщу.
– Бабушка?!!
– Ах, Миша, Миша! Не нами началось, не нами кончится.
– Не знаю, нами или кем другим, а кончится, и придет расплата! Но, боже мой, боже мой, почему же у нас все так плохо?!
ГЛАВА 27
– Михаил Юрьевич уезжают!
Эту весть еще накануне его отъезда Фроська разнесла по деревне, обежав все дворы. Вечером Лермонтов пошел на деревню прощаться.
В избу деда Пахома валил народ. Сам дед давно уже не слезал с печки. Но ради такого дня дядя Макар с Ваней, которого только один дедушка по старой памяти еще звал Ивашкой, сняли деда Пахома с печки и положили на тулуп на лавку, где он лежал, торжественный и довольный, с ожиданием поглядывая то на дверь, то на стол.
– Макар, а Макар, – позвал он сына, – ты чего ж это хозяйке не наказываешь, хушь бы молочка парного али кваску на стол постановить, Михал Юрьича попотчевать!
– Нельзя-а… – строго протянул дядя Макар. – Намедни Ваня забегал, сказывал, что Михал Юрьич нипочем не велят. Вон и мужики слыхали.
– Здорово, народ! – раздалось звонко с порога, и Лермонтов в наброшенном на плечи простом зимнем тулупчике на заячьем меху и в высоких валенках быстро вошел в избу.
Ему хором в ответ прогудели голоса:
– Сам будь здоров, батюшка!
– Здравия желаем!
– Здравствуй, Михал Юрьич, здравствуй, батюшка, – степенно проговорил дед, слегка приподнимаясь на лавке. – Уж так я тебя, вашу милость, ждал, даже вон рубаху чистую велел на себя надеть! Мне ведь уж с тобой боле не свидеться, в последок на тебя гляжу!
– Что это ты, дедушка Пахом?
Лермонтов подсел к нему на лавку.
– Погоди, вот будет лето, я в отпуск приеду, мы с тобой пойдем на завалинку – хороводы глядеть! Молодежь пусть веселится, а мы по-стариковски на завалинке вечерком посидим.
– Это, батюшка, как бог даст, его святая воля, а уж ты дозволь нонче-то хоть кваском тебя попотчевать. Такой гость нонче у нас, а на столе пусто! Входи, мужики! – крикнул он в дверь.
Простота Лермонтова быстро развязала языки. Мужики с полной откровенностью повели беседу.
– Ты, Михал Юрьич, пойми, – нагнувшись к Лермонтову, говорил Кузьма, Макаров деверь. – Супротив барщины мы не идем, раз она от бога положёна. Мы так и старосте твоему говорим, что барскую волю уважим.
– Это што говорить! – поддержал его Макар. – Раз што от бога положено, то мы справим.
– Ну, вот ты и возьми, – продолжал Кузьма. – Сколько от бога-то положёно дён на барщину? Четыре?
Лермонтов метнул быстрый взгляд на говорившего:
– Можно четыре, и три не грех!
Мужики переглянулись, некоторые усмехнулись.
– Ну вот, – продолжал Кузьма, – так мы и говорим старосте. А он норовит пять дён взять, кол ему в глотку!..
– При Михал Юрьиче не выражайся! – строго остановил его Ваня.
– Дак это я так себе, мила душа, это к слову пришлось…
– То-то к слову, а ты поглядывай, не всяко слово бери, – сказал дед Пахом.
– Дак нешто я в своем слове волён, дедушка Пахом? – удивленно ответил Кузьма. – Слово – оно другой раз само с души прет, нешто его удержишь?
Лермонтов вскочил со своей лавки и, смеясь, обнял за плечи рыжебородого Кузьму.
– Как, как ты сказал? Ты, Кузьма, и сам не понимаешь, какие ты слова сказал!
– Дак я же вашей милости сказываю: нешто можно про все свои слова знать!
– Ты замечательные слова сказал, золотые слова! – повторял Лермонтов.
– Ну вот! – с важностью протянул Кузьма, горделиво оглядев всех присутствующих и бросив укоризненный взгляд на Ваню. – Нешто я што плохое сказал али обругал его как? Говорю, мол, бес ему в глотку – и боле нет ничего, и Михал Юрьич довольны остались: говорят – золотые слова.
Лермонтову стало вдруг весело, тепло, как от хорошего вина. Он громко рассмеялся и поглядел на довольное лицо Кузьмы.
– Я не про эти слова сказал, дядя Кузьма. Ты сказал вот, что слово у тебя с души прет, что его не удержишь… Вот это для нашего брата сочинителя – самые хорошие слова. Когда и у нас слово само с души так пойдет, что его не удержишь, вот тогда мы и писать будем как надо. А насчет барщины я старосте завтра же скажу. Ваня, ты его ко мне утром пораньше пришли.
– Дай бог здоровья, Михал Юрьич, – сказал тихо Кузьма и отошел в уголок под гул благодарных голосов.
– Вот теперь, Мишенька, ваше благородие, – заговорил дед Пахом, – хочу я тебя, батюшка, насчет чего поспрошать – про что это сочинители пишут? Вот хушь бы, к примеру говоря, ты, ваша милость, про какие дела на бумаге-то прописываешь?
Лермонтов на минуту задумался.
– А вот, дедушка, про что, к примеру, тебе скажу. Начинал я писать, как в пугачевское восстание крестьяне взбунтовались на злого помещика…
– Это на Мосолова, што ль? Аль на Давыдову барыню? – перебил его дед. – А то вот и Рысачиха тоже…
– Может, и на Мосолова, а может, на Давыдову, а может, и еще на кого.
– Как же это теперь, ежели они про самих себя прочитают? Они тебя, батюшка, за это обидеть могут.
– А я по фамилии не назвал: про кого хочешь, про того и думай.
– Вот это ловко! А ты, Михал Юрьич, ваше высокое благородие, не прочитаешь ли мне, старику-то, про чего написал?
– У меня здесь с собой ничего нет, дедушка Пахом. Ты вот Ваню спроси – я его недаром грамоте учил. Он другой раз лучше меня помнит, что я написал.
– Да как же он смеет, батюшка, лучше вашего знать?
– Такой толковый! – засмеялся Лермонтов.
Дед строго посмотрел на своего внука, но в эту минуту, вбежав с мороза, остановился в дверях Тишка, переводя дыхание:
– Михал Юрьич, барыня велели сказать, что домой вас ожидают!
– Сейчас приду.
Мужики, кончив шушукаться, подошли к Лермонтову.
– Ну, говори, кому что надо. Что смогу – сделаю, – просто сказал он. – И про себя и про других говори, я буду ходатай ваш перед Елизаветой Алексеевной.
И Кузьма, и Макар, и даже дед Пахом сначала встретили эти слова молчанием, но, подумав, переглянулись и вдруг заговорили сразу, перебивая друг друга.
Лермонтов вынул книжку и карандаш. Увидев, что он хочет записывать, и Макар и Кузьма испугались: написанного пером не вырубишь топором! Но когда он сказал, что это он только для памяти запишет, они осмелели – и полились рекой рассказы о крестьянских обидах и жестокостях старосты, о худых крышах, о принудительных браках.
Лермонтов записывал, и постепенно лицо его темнело и сердце охватывала тоска.
Если столько бед и горя в одних только Тарханах, где все-таки живется крестьянам не так плохо, то сколько же их во всей России!.. Он записывал молча, ужасаясь бесправию и терпению этих людей, снова и снова вспоминая слова, сказанные здесь, в Тарханах, мсье Капэ, – о неизбежности какого-то возмездия.
Когда он прощался с дедом Пахомом, старик неожиданно спросил, задержав его руку в своей:
– А мусью-то твой, ваше благородие, слыхал я, помер?
– Да, – ответил Лермонтов, – умер мсье Капэ.
– Душевный был мусью, – задумчиво промолвил дед. – И всем человек был, хошь и француз.
Он помолчал и, подумав немного, спросил:
– А ты мне вот еще чего скажи, Мишенька, ваше благородие, разрешите спросить?
– Спрашивай, спрашивай, дедушка Пахом.
– Вот, к примеру говоря, были мы с этим мусью в разных армиях, во вражеских, стало быть. Он – в своей, я – в своей. И вот помер он, и я скоро помру. Так что ж, мы и на том свете так будем: я – стало быть, русский, а он – француз? Или там все одинакие, как по-вашему, по-ученому-то, ваше благородие, Мишенька?
– Одинаковые, дед, одинаковые, – сказал Лермонтов ласково и, обняв на прощание деда Пахома, простился со всеми и вышел из избы.
ГЛАВА 28
Вернувшись домой, Лермонтов долго ходил по темной столовой, потом велел Тишке зажечь свечи и попросить бабушку к столу.
Войдя, она, как всегда, прежде всего пристально посмотрела на него.
– Ты что, Мишенька? Или чем расстроен?
– Ничем, бабушка. Велите, пожалуйста, подавать и садитесь. Мы за обедом поговорим.
– Вот и хорошо, – сказала бабушка и уселась на свое место.
Свечи зажгли, и Тишка, прислуживавший за столом вместо престарелого Фоки, уже давно подал первое блюдо, и бабушка уже давно терпеливо сидела около своей остывающей тарелки, а внук ее все еще ходил по столовой, изредка повторяя:
– Сейчас, сейчас…
– Что случилось, Мишенька?
Он подсел к столу и, глядя пристально на потрескивавший огонек свечей, сказал, точно самому себе:
– Да, за все это придется когда-нибудь ответить. Может быть, не мне и не вам, а нашим потомкам, а может быть, и мне, и вам, и потомкам – и это будет справедливо.
Бабушка откинулась в кресле и обратила на своего Мишеньку вопросительный и испуганный взгляд.
– Да, плохи дела, бабушка, в Тарханах, – продолжал он, глядя не на бабушку, а на огонь свечей. – И не только в Тарханах. Везде у нас в России плохо.
– Да что же это ты, Мишенька, меня так пугаешь? – сказала, наконец, бабушка. – Я надеюсь на милость божию, что нынешний год порядочный доход получим. В эту осень долго цен никаких настоящих не было, а задаром я хлеб не отдавала, все ждала – вот и дождалась своего!
– Я, бабушка, не о ценах!..
– Так о чем же ты?
– О людях, – сказал он сурово, – и о старосте. Я, бабушка его выгоню.
– Господи, твоя воля! А что же о людях? Ежели тебе что на деревне наговорили, так ты не всякому слову верь. А я людей жалею. И староста у меня правильный.
– Я знаю, знаю! Вы их жалеете, но зачем же доводить их до жалкого состояния? Зачем? По какому праву? Вот староста ваш и правит, пользуясь народным бесправием.
– Не пойму я, друг мой, о чем ты говоришь! Может, тебе на деревне вдова нажаловалась? Есть у нас такая молодая вдова. Так разве ей верить можно? Она замуж не вышла, беспутничала, и девки, на нее глядя, беспутничали. Для того и пришлось мне в эти дела вмешаться. Теперь все замужем, по моим уговорам, а кто не пошел – того на работу отправила. Теперь, милый мой, у нас от шестнадцати больших девок только четыре осталось, да я парочку прикуплю – нам с тобой и хватит.
Но он продолжал все так же мрачно смотреть на огонь.
– Да, бабушка…
И, приняв эти слова за согласие, бабушка перебила его возгласом: «Ну вот и ладно!» – и успокоенно обратилась к обеду.
– Начинай же, мой друг, все простыло.
– Да, – повторил он, продолжая свою мысль, – когда-нибудь кончится терпение народное… А старосту, бабушка, мы с вами другого поставим.
Бабушка молча перекрестилась, и обед был закончен в безмолвии.
* * *
В эту ночь Елизавете Алексеевне опять не спалось. Мишины слова все звучали в ее ушах, и, чтобы заснуть, она стала читать календарь на новый, 1836 год.
Лермонтов тоже не спал в эту ночь и тоже думал…
Как долог день здесь, в Тарханах, как много часов в каждом дне! Он успевал здесь все: прибавил кое-что новое к «Демону», работал над драмой «Два брата». По вечерам садился снова к роялю, вспоминая давно забытые пьесы. В альбоме появились новые рисунки. Но больше всего он наслаждался здесь возможностью думать и быть наедине с самим собой, от чего давно отвык.
Почти четыре года тому назад осенью, переехав в Петербург, он писал Мари Лопухиной: «У самого себя: вот у кого я бываю с наибольшим удовольствием… в конце концов я убедился, что мой лучший родственник – я сам».
С тех пор он утратил это удовольствие: в юнкерской и гусарской жизни оно было недоступно. Теперь же его было вволю.
Но радость быть наедине с собой и быть самим собой часто потухала, сменяясь горьким чувством сожаления о том, что хотелось бы исправить, а сделать этого было нельзя.
В такие минуты он любил повторять чудесные пушкинские строчки:
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Он прожил пока двадцать один год, но не казался себе юным.
Нет, даже будучи учеником Благородного пансиона, он уже ощущал в себе уверенную четкость мысли, присущую зрелому возрасту, несмотря на свою любовь к шалостям. И он всегда ценил время. День жизни – целый день! – казался ему огромным сроком, в течение которого так много может совершиться, так много можно пережить!
Он часто говорил Раевскому:
– Ты только представь себе, что через пять минут у тебя отнимут жизнь. Как ты ее тогда оценишь! Как будешь дорожить каждой минутой из этих пяти, и каким огромным сроком будут они для тебя! И если в эти минуты будет тебе светить солнце или ты будешь смотреть на звезды, – какую красоту ты в этом увидишь!.. Вот так и нужно жить всю жизнь.
Здесь, в Тарханах, где жизнь проходила в однообразной смене дней и часов, он именно так переживал время. И день был восхитительно долгим, и часы его – полными смысла.
Он часто поднимался по скрипучей лесенке на антресоли, где жили они когда-то с мсье Капэ, и был глубоко растроган, когда, придя в первый раз, увидал, что все здесь по-прежнему, все стоит на старых местах.
Когда он присаживался к своему детскому письменному столу, ему казалось, что он только что написал свое первое стихотворение, промучившись над ним до тех пор, пока мсье Капэ не сказал ему, что пора спать.
За широким полукруглым окном стынут в инее верхушки деревьев. Как знаком ему узор этих веток и весь этот парк!
* * *
Уже давно он послал в Петербург прошение о том, чтобы продлили ему отпуск по болезни.
Но уже все сроки прошли, и надо было возвращаться.
Ясное морозное небо уже начинало тускнеть, затягиваясь серой пеленой. Оно уже по-весеннему темнело над белыми полями, и, чувствуя близкую оттепель, оживленно каркали вороны, проносясь огромными стаями над парком, и с запада задул влажный ветер.
А бабушка все не соглашалась расстаться с Мишей и упрашивала его пробыть еще хоть денечек.
Она утешилась только после того, как твердо решила, что, когда спадут весенние воды, она сама переедет в Петербург, чтобы более с внуком не расставаться.
ГЛАВА 29
Синие-синие мартовские тени, уже предвесенние, лежали на искристом от солнца снегу, когда Лермонтов оставлял Тарханы, уже с некоторым удовольствием помышляя о Петербурге.
На деревне все избы стояли в этот час пустыми. Тархановцы с раннего утра толпились на господском дворе. Сгрудившись вокруг дорожной кибитки, поджидавшей у крыльца, совещались мужики насчет того, хорошо ли подкованы кони. Арсеньевские кони были предметом гордости тархановских мужиков.
Бабы совали Ване в руки деревенские гостинцы: кто рябинки мороженой, кто клюквы, а кто и лукошко с яйцами, чтобы взял Михал Юрьич на дорогу свеженьких.
От всего этого Ваня решительно отказывался.
– Узнают Михал Юрьич, мне из-за вас попадет! – отвечал он строго.
Но бабы стояли на своем и, улучив минутку, когда Ваня на них не смотрел, прятали и рябину и лукошки в сено, Митьке-ямщику под облучок.
Опираясь на руку внука, вышла на крыльцо Елизавета Алексеевна.
Глаза ее были заплаканны, и она поминутно прикладывала к ним платок.
Она долго обнимала Мишеньку, долго крестила его, и когда он уже сел в кибитку, простился с крестьянами, крикнув на весь двор: «Прощай все! Не поминай лихом!», и стоял в ясном воздухе дружный гул прощальных голосов, бабушка остановила кучера Митьку и, подбежав к кибитке, еще раз обняла Мишеньку и еще раз повторила Митьке последние наставления.
А на другой день узнали в деревне, что не зря записывал Михал Юрьич в книжку: ни одной нужды крестьянской не забыл, обо всех, кто на его бумажке был записан, упросил барыню. Знал, что на прощание ни в чем ему бабушка Елизавета Алексеевна отказать не может, и получили – кто телку, кто деньжат малую толику, кто ржи мешок, а кто тесу на новую крышу, – и всем тархановским мужикам облегчили барщину.
Опять до поздней ночи не утихало на деревне волнение. Собирались тархановцы по избам, толковали, что, дескать, кто все записывает да про записанное не забывает, тот самый правильный есть человек и что нет на свете другого такого хорошего барина, как их Михал Юрьич, и что их Михал Юрьич теперь небось там, в Петербурге, тоже порядок наведет!
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
ЛЕРМОНТОВ«Смерть поэта», 1837 г.

ГЛАВА 1
В холодном воздухе, несмотря на мороз, уже пахло близкой весной.
Быстро бежали кони, еще быстрее бежали мысли обо всем, что было, и о том, что могло быть, но не сбылось.
Могло быть счастье, а была только боль отвергнутого сердца. Эта боль точно лезвием прошлась по нему. Нежное девичье лицо с безмятежным взглядом прелестных, но холодных глаз… Властный голос и манеры женщины, уже привыкшей побеждать… Натали!..
Могла бы? – о да, могла бы! – вся жизнь озариться счастьем его новой любви. Что же встало между ним и Варенькой? Может быть, два года, во время которых он был заперт в Юнкерском училище, – срок, слишком долгий для любого женского сердца, даже для сердца Вареньки? Может быть, роковыми были слухи о его гусарской жизни, которую он сам в письмах к Мари Лопухиной расписывал с преувеличенным легкомыслием? Может быть, заставили родные?
Он встречал Бахметева еще до переезда в Петербург на московских вечерах. Уже тогда он казался стариком, потому что был намного старше всех и, когда они танцевали, степенно проводил время за картами. И вот теперь Варенька его жена…
Нет, лучше вовсе не думать о счастье!..
Он делает над собой усилие и, откинувшись в глубину кибитки, старается не думать о том, что причиняет сердцу боль.
О «Маскараде» надо будет тотчас по приезде идти говорить по начальству. Не ответил Раевский, принят или не принят второй вариант. А потом он вновь возьмется за уже начатую поэму: «Боярин Орша» – так она будет называться.
Тема в ней та же, что в «Исповеди», написанной еще в Москве, в пансионе. Она упорно нейдет из головы. Человек борется за свою свободу… Разве это когда-нибудь перестанет волновать?
– Барин, обгоняют нас! – зычно гаркнул Митька-ямщик и хлестнул лошадей.
Лермонтов увидел сбоку на широкой дороге обгонявшую их большую кибитку.
Митька был лихой ямщик, кони арсеньевские были добрые кони, и везли они не кого-нибудь – самого хозяина, лейб-гвардии гусара. Как же можно было дать себя обогнать?! Митька гаркнул, где нужно прихлестнул, кого нужно протянул по спине кнутом – и, взмахнув гривами, понеслись кони!..
Летели за кибиткой комья выбитого копытами снега, пролетали по бокам придорожные столбы и елки, покрытые снегом, и летела прямо в лицо голубая-голубая предвесенняя мартовская ночь.
Лермонтов крикнул: «Митька, не сдавай!..» – и с разгоревшимся лицом, дыша всей грудью, следил за тем, как быстро обогнали они ту, другую кибитку и как тот кучер, видно тоже не дурак по своей части, тоже гаркнул и тоже подхлестнул, – и понеслись две эти тройки, обгоняя одна другую, по широкой снежной дороге, залитой голубым светом полной мартовской луны.
И ему показалось вдруг, что все стало легким, пролетающим, как сон, что впереди ждет его, может быть, радость, ждут хорошие дни и светлые встречи. Впереди ждет его Петербург, будет поставлена его драма. И может быть, придет посмотреть ее тот, чье имя произносил он с таким волнением: Пушкин!
* * *
Мелькнули вдали огоньки первой станции, мелькнула и исчезла за поворотом крыша постоялого двора… Две тройки весело мчались вперед, и, гордый своей победой, Митька первым осадил лошадей у широких ворот.
От подлетевшей следом за ним тройки валил пар, лошади часто дышали, чья-то голова с густыми баками высунулась из кибитки, и мужской голос спросил:
– Разрешите узнать, чьи это лошади? Я большой охотник до быстрой езды, хотя жена моя и боится. Но ведь это ветер – не лошади! Чьи они?
Митька поправил шапку и, подтянув кушак, гордо ответил:
– Так что лошади Арсеньевой барыни и ихнего внука лейб-гвардии гусара Михаила Юрьича Лермонтова.
Митька очень хорошо запомнил, как перед отъездом учила его сама Елизавета Алексеевна называть Михал Юрьича лейб-гвардии гусаром на всех станциях и при всех опросах, будучи уверена, что такой его чин вызывать должен почтение у станционных смотрителей.
Но проезжий господин, выглядывавший из кибитки, услыхав этот ответ, быстро откинулся назад, в ее глубину, и из окошка в то же мгновение выглянуло другое лицо, и знакомый Лермонтову милый голос, от которого радостно дрогнуло сердце, проговорил:
– Мишель?!.
В то же мгновенье, путаясь в полах шинели, он подбежал к кибитке. В дорожном капоре из мягкого беличьего меха лицо Вареньки показалось ему детским. Она смотрела на него с величайшим изумлением, все еще не веря своим глазам.
– Разве вы не в Петербурге? И не в полку, Мишель?
– Ах, Варенька, Варенька, – ответил он сокрушенно, – как же давно мы не видались и как мало друг о друге знаем, если вам даже неизвестно, что я жил в Тарханах с самого Нового года! Но перемена в вашей судьбе мне давно известна. Я поздравляю вас и… вашего супруга.
Он снял кивер и, нагнувшись, поцеловал протянутую ему из муфты маленькую озябшую руку с узкой ладонью.
Бахметев, выйдя из кибитки, поклонился и обменялся с ним рукопожатием. Потом он обернулся к Вареньке:
– Вам необходимо согреться чем-нибудь. Я сейчас прикажу подать.
– Ах, нет, благодарствую, мне ничего не надо! – умоляющим голосом ответила Варенька.
– Я должен на минуту оставить вас, – Бахметев не особенно любезно посмотрел на Лермонтова. – Мне необходимо порасспросить смотрителя о дороге и о состоянии здешнего моста, который уже давно внушал опасения. Ямщикам я доверяю с опаской. Друг мой, застегните плотнее ваш капор и шубу. Вы можете простудиться. Позвольте, я…
– Ах, нет, нет! Я… сама! – испуганно отодвинулась от него Варенька. – Я сама.
– Прошу вас, – сказал ее муж с поклоном и пошел к станционному дому.
– Итак, вы уже не Варенька больше?!
Лермонтов пристально смотрел на освещенное голубоватым светом лицо.
– Та Варенька, которую я знал и которую я так… – он остановился и тихо закончил: – так любил, умерла… Для меня, во всяком случае.
– О боже мой!.. – горестно всплеснула руками Варенька. – Ну как вы можете так говорить! Ну на что это похоже? Как вы можете быть таким жестоким? Вы знаете, что я не меняюсь.
Лермонтов молча смотрел на нее.
– Друг мой, мы можем тотчас ехать дальше! – Бахметев подошел к кибитке вместе со станционным смотрителем. – Мост исправлен, а горячего нужно ждать битый час. Мы раньше этого срока будем уже на месте. А вы, Михаил Юрьевич, в Петербург направляетесь?
– В Петербург, в полк.
– А я к тетушке жену везу. Варвара Александровна еще незнакома со всей моей родней. Со следующей станции нам с вами в противоположные стороны.
– Вы правы, – ответил Лермонтов с легким поклоном.
– Великолепные у вас лошади, скажу я вам!
Взглядом знатока Бахметев еще раз оглядел лермонтовскую тройку.
– Я большой любитель лошадей. И вы, верно, также? Что может быть на свете лучше лошади? Счастливого пути!
Запахнув шубу, Бахметев долго усаживался в кибитке.
Варенька отодвинулась от него, забившись в уголок, и посмотрела в лицо Лермонтова пристальным и долгим взглядом… Лошади тронулись.
Лермонтов вышел за ворота.
Вокруг стояло глубокое безмолвие, и в чистом небе точно переговаривались дрожащие звезды.
В раздумье подперев голову одной рукой, Лермонтов перебирал и перечитывал последние исписанные листы. Это была драма «Два брата», которую он написал в Тарханах.
Свеча, горевшая на шатком столике, чадила, и воск капал на рукопись. Он потушил ее – и синий воздушный океан засиял за маленьким окошком постоялого двора.
Лермонтов долго смотрел на этот предвесенний свет, и в памяти его по-новому зазвучали давно-давно написанные им строчки:
Опять, опять я видел взор твой милый,
Я говорил с тобой.
И мне былое, взятое могилой,
Напомнил голос твой.