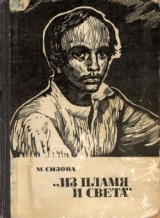
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 25
– Вы слышали новость? Мир окончательно сошел с ума. Общественный порядок снова нарушен!
На балконе столыпинского дома появился приехавший из Москвы дальний родственник Екатерины Аркадьевны, служивший столоначальником в одном из министерств.
Был жаркий августовский день, и все собрались за чайным столом. Гость – сухощавый и желтолицый чиновник – подошел к ручке хозяйки, потом обвел взглядом все общество, собравшееся около огромного серебряного самовара, и заявил:
– Во Франции снова революция! Я получил подробнейшее письмо от моего приятеля, служащего во французском посольстве. Он на днях вернулся в Петербург. Едва вырвался из Парижа!..
– Как же это так, Анатолий Петрович, ни с того, ни с сего – и вдруг опять революция? – удивилась Елизавета Алексеевна.
– Да так вот… Тюильрийский дворец пал двадцать девятого июля под натиском черни, каких-то торговцев, студентов и бывших наполеоновских солдат, которые стали выкрикивать на весь Париж свои старые лозунги, присоединив к ним и новый: «Долой Бурбонов!» И снова Париж был покрыт баррикадами, и на его улицах опять шел бой! И эти безумные и преступные французы снова подняли старый флаг революции над королевским дворцом!
– А что же король? – спросил кто-то испуганно.
– Бежал в Англию, отрекшись от престола. Вот вам печальный конец Карла Десятого. Несчастная Франция!.. – закончил Анатолий Петрович, принимая из рук лакея стакан чаю.
Бабушка Елизавета Алексеевна посмотрела на взволнованное лицо Мишеньки. «Уж, наверное, вспомнил своего Жандро, – подумала она с горечью. – Узнал от него, да еще от Капэ про все эти революции, вот и бредит ими!»
После чая гость перешел было к описанию некоторых подробностей парижских событий, но Елизавета Алексеевна встала из-за стола и строго посмотрела на рассказчика.
– Анатолий Петрович, батюшка, – сказала она негромко, – что-то больше мочи нет об этих французских кровопролитиях слушать. У меня внук и так об разных Бастилиях да баталиях с колыбели бредит. Пойдемте-ка лучше цветники смотреть.
* * *
Семинарист Орлов погасил свечу, когда в его комнату вошел Миша и спросил:
– Можно к вам?
– Да уж раз вошли, стало быть, можно!
– Я ненадолго, – сказал Миша, – но попрошу вас зажечь свечу. Я должен вам кое-что прочесть.
– Свечу зажечь нельзя: Аркаша может проснуться, – сказал Орлов, кивнув головой в сторону кровати, где уже спал его воспитанник. – Если это ваше, читайте наизусть.
– Да, это мое.
– Лирика?
– Нет, особая лирика: политическая. Это называется – «30 июля. (Париж) 1830 года». У меня весь день голова горит от стольких мыслей! И от волнения и от надежд…
И весь день я мучился над восемью строчками и сейчас еще мучаюсь ими, потому что хотел бы выразить это лучше и сильнее. Но не выходит! Вот послушайте и скажите. Ведь, кроме вас, здесь некому это прочесть.
Ты мог быть лучшим королем,
Ты не хотел. Ты полагал
Народ унизить под ярмом.
Но ты французов не узнал!
Есть суд земной и для царей.
Провозгласил он твой конец;
С дрожащей головы твоей
Ты в бегстве уронил венец.
Это очень плохо?
– Нет, это не плохо, – ответил Орлов, помолчав. – И знаете, Миша, что я вам скажу? Это мне гораздо больше нравится, чем стихи ваши про всякие там черные очи и горькие слезы, которые вы посвящаете Сушковой. Я бы на нее даже и смотреть не стал на вашем месте.
– Вы это серьезно говорите?
– А то как же! А теперь идите-ка спать, а то бабушка вас хватится. Покойной ночи!
– Покойной ночи, – ответил Миша и, осторожно спустившись по скрипучей лесенке, вышел в сад, где бродил еще долго.
Но до отъезда из Середникова он еще раз читал Орлову свои стихи.
Это было в те дни, когда отовсюду стекались тревожные слухи то о чуме, вдруг объявившейся в Севастополе, то о страшной холере, опустошившей Саратов, Тамбов.
Но тревожнее всего, страшнее всего были слухи о восстаниях и волнениях.
– Скажите мне, кто же бунтует-то теперь? – спросила однажды Елизавета Алексеевна за обедом.
И так как все молчали, то Орлов неожиданно для самого себя ответил:
– В разных местах разные люди.
– Как, как? – Екатерина Аркадьевна с удивлением посмотрела на него. – Что же это за ответ?
– Извольте, я скажу. Прежде всего в Севастополе взбунтовался гарнизон…
– В Севастополе?! – перебила его Елизавета Алексеевна, бледнея. – Боже мой, как же там теперь брат Николай справится?! Ведь он военный генерал-губернатор Севастополя! Я слышала, что везде холера. Говорят, и до Москвы дойдет… И везде карантины, а под этим прикрытием много зла делается. У нас сейчас все восстания крестьян называют холерными бунтами, но страшно подумать, не идут ли опять пугачевские дни?
Больше ничего не было сказано, но молчаливый репетитор с этого дня точно стал избегать Елизавету Алексеевну. А через несколько дней докатилось и до Середникова известие, которое в Москве уже многие знали, скрывая его от бабушки: военный генерал-губернатор Севастополя был убит взбунтовавшимся гарнизоном.
* * *
Кончался август. Приближались экзамены в Университет. Надо было уезжать из Середникова и возвращаться в Москву.
Вечером накануне отъезда Миша увел Орлова на дальнюю дорожку.
– Прежде чем уехать, я хочу… Послушайте:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь…
– Постойте! – остановил его Орлов. – Послушайте совет мой, Миша, оставьте ваши предсказания до времени про себя. Поняли? У нас в России такому, как вы, очень просто головы не сносить.
Когда они уже прощались перед скрипучей лесенкой, семинарист Орлов с неожиданной горячностью крепко пожал Мише руку.
– Прощайте, Миша, – сказал он. – Так-то! Завидую я зам. Перед вами новая жизнь: Университет!
Миша еще постоял внизу.
В темноте проскрипели ступеньки шаткой лесенки да в деревне за оврагом пропел спросонья петух.
ГЛАВА 26
Первого сентября 1830 года правление Московского университета слушало донесение профессоров, адъюнктов и лекторов, в котором значилось: «…Мы испытывали Михаила Лермантова… в языках и науках, требуемых от вступающих в Университет в звание студента, и нашли его способным к слушанию профессорских лекций в сем звании…»
Лермонтов стал студентом Московского университета.
Но, прослушав несколько первых лекций, он почувствовал разочарование: Щедринский, читавший статистику государства Российского, и богослов Терновский, и профессор Смирнов с его лекциями по истории российского искусства оставили его равнодушным.
* * *
«Роняет лес багряный свой убор…» Да, и лес, и скромные сады, и садики Москвы!
Он вспоминал эту строку, стоя перед разукрашенным осенью московским садом. Под зеленовато-голубым осенним небом – какое великолепие красок! И ему вспомнился тархановский парк в торжественном убранстве осени. Хорошо бы поехать на недельку в Тарханы! И можно, кабы не Университет! Сегодня была вторая лекция Погодина, он записал ее почти целиком, но надо будет вечером просмотреть и поправить конспект. Пока что, по-видимому, Погодин самый интересный лектор на первом курсе нравственно-политического отделения, хотя многое в воззрениях этого славянофила принять невозможно.
Знания, полученные в Университетском пансионе, и его собственная библиотека, которую он собирал с большим выбором и любовью, дали ему возможность критически разбираться во всем, что он слышал в университетской аудитории. И как ни мало нового сообщалось с кафедры – он шел в Университет всегда с интересом, потому что дух свободы и любви к отечеству жил в умах слушателей, зажигая молодую мысль и волнуя каждого приходившего сюда.
Он долго стоял перед облетающим садом. Может быть, вечером пойти побродить по Кремлю и по берегу Москвы-реки? Ах нет, сегодня чем-то уже занят вечер… Чем же? Забыл! Ну куда же девалась его память?! Сегодня он обещал Алексею и Мари Лопухиным почитать свои стихи. Никому их не читал, но Лопухины самые близкие друзья. С Мари он даже откровеннее, чем с самим Алексеем. Удивительная она девушка! Все поймет, обо всем с ней можно говорить, и всегда в минуту огорчения утешит.
В их доме на Малой Молчановке еще было темно. Но, подойдя, Миша с удивлением заметил чью-то карету. Странно, сегодня никого не ждали! Ну вот, теперь не дадут ему кончить конспект погодинской лекции. Да и к Лопухиным, пожалуй, не поспеть!
Раздосадованный, он вошел в дом, собираясь пройти прямо к бабушке и узнать, кто это к ней приехал незваным и можно ли будет все-таки провести вечер у Лопухиных.
Но ему сказали, что Елизавета Алексеевна ждет его в гостиной.
Свечей еще не зажигали. В гостиной сидели двое: тучный господин, державший цилиндр на коленях, и стройная девушка.
– Вот и мой внук, – громко произнесла бабушка. – Мишенька, это господин Иванов, друг твоего учителя Алексея Федоровича Мерзлякова, а это дочка его покойного брата Федора Федоровича Иванова – Наташенька. Да что же это свечей Прохор не зажигает, ничего не видно!
Когда яркий теплый свет свечей упал на лицо девушки, Мише показалось, что он никогда не видел лица прелестнее. Но не только лицо: вся фигура этой девушки, слегка наклонившаяся вперед, точно прислушивающаяся к чему-то, показалась ему необыкновенной и полной очарования.
– Слыхали, слыхали о вас, молодой человек, – сказал гость. – Мы с племянницей ехали по Молчановке и решили засвидетельствовать вашей бабушке свое почтение, а также просить ее, чтоб она отпускала вас на наши вечеринки. У нас молодежь бывает, скучать не будете.
Мишель поклонился.
– У меня есть друзья, которые в вашем пансионе учатся, – сказала девушка, – они мне ваши стихи читали.
Миша поклонился еще раз и подумал, что быть другом этой девушки – значит быть самым счастливым из смертных.
Был уже поздний вечер, когда карета Ивановых увезла их домой.
В эту ночь Мишель совсем не ложился. Он сидел на подоконнике в своем мезонине и смотрел, как медленно светлело весеннее небо, и вспоминал необыкновенное существо, посетившее их дом.
* * *
«Может быть, странно… может быть, даже неудобно явиться в дом так скоро после приглашения?» – спрашивал он себя уже не в первый раз, старательно застегивая свой новенький студенческий мундир и приглаживая перед зеркалом густые темные волосы.
Но он знал, что пойдет сегодня же в этот дом, чтобы еще раз увидеть эту девушку.
С непонятным ему самому волнением подходил он к ее дому. С непонятным волнением подошел к ней и встретил взгляд ее ясных глаз.
В этот первый вечер он почти не отходил от Наташи, наблюдал за ней в те минуты, когда она занимала гостей (их было немало), бледнея от радости, когда она обращалась к нему, и страдая, когда она говорила с другими.
И когда он уходил из этого дома, он уже знал, что влюблен бесповоротно, что она действительно необыкновенна и что с этого дня не слышать ее голоса, не встречать ясного взгляда ее невозможно!
* * *
В один ненастный и ветреный день 1830 года Миша, придя домой, пробежал прямо к себе и запер дверь. Против обыкновения он даже не пошел к бабушке.
Он положил на стол свежий выпуск «Атенея», торопливо развернул его и, найдя нужную страницу, провел по ней рукой, точно погладив напечатанные там строчки. Потом посмотрел на первое слово, стоявшее на верху страницы, и смущенно улыбнулся. «Весна», – проговорил он полушепотом и, так же полушепотом прочитав до конца, весь вспыхнул, посмотрев на маленькую букву «L», стоявшую вместо подписи. Впервые он увидел свое стихотворение напечатанным и не мог оторвать взгляда от этих четырнадцати ярко чернеющих строчек. Было удивительно, что все это он сам сочинил.
И не потому, что стихотворение было так уж хорошо, а потому, что напечатанное казалось ему чем-то необыкновенным.
Мысли и чувства, жившие до того только в глубине его души, стали теперь достоянием всех и точно зажили своей собственной, независимой от него жизнью. И это было так странно и в то же время наполняло его чувством какого-то чуть-чуть горделивого счастья.
И весь этот день – ненастный и знаменательный день – он был охвачен волнением, которого старался никому не показывать, радостью, о которой никому не хотел говорить.
Миша погасил свечу, и лунный свет осветил его комнату. Он смотрел на этот свет и засыпал и, засыпая, думал о том, что сегодняшний ненастный и ветреный день – знаменательный день его жизни.
ГЛАВА 27
Обычный шум в аудитории, казалось, не имел отношения только к одному студенту. Он сидел у окна и, облокотившись на подоконник, погрузился в чтение.
Он так был занят своей книгой, что не заметил появления на кафедре профессора.
– Господин Лермонтов, – произносит профессор громко, – пожалуй, можно теперь прекратить чтение?
Лермонтов перестает читать.
Но постепенно лицо его мрачнеет, взгляд делается скучающим и усталым. Он снова открывает книгу и, держа ее на коленях, незаметно читает.
Когда окончилась лекция, на что студент Лермонтов не обратил никакого внимания, профессор во второй раз обратился к нему:
– Скажите, пожалуйста, господин студент, что за книга так овладела вашим просвещенным вниманием?
Лермонтов ответил.
– Как? – Профессор забыл, что ему следует рассердиться. – Где вы достали этот ценнейший труд? Он только вышел…
– В моей библиотеке.
– Мне было бы чрезвычайно важно достать эту книгу на время. Чрезвычайно важно! Ежели бы вы…
– Пожалуйста, – сказал Лермонтов, протягивая книгу. – Вы можете брать из нее весь материал и для следующих ваших лекций.
Профессор с некоторым смущением взял книгу и покинул аудиторию.
Эта история облетела весь Университет, и слухи о «дерзком первокурснике» дошли до декана. Декан вызвал к себе студента Лермонтова для объяснений; но, поговорив с ним довольно долго, он в конце концов не нашел в его поведении «состава преступления».
– Это вполне порядочный человек, – сообщил он свое заключение в профессорской, – большая умница и весьма начитан. Свободолюбив, конечно, но что с этим поделаешь? Такова наша молодежь!
Вскоре после этого Лермонтов сидел у Алексея Лопухина.
– Согласись, Алеша, что ради профессоров в Университет ходить не стоит.
– Ох, Мишель, не криви душой! Не потому ли не слушаешь ты профессоров, что тебе жаль от своих стихов и драм оторваться? Ведь сколько ты написал! Только то, что знаю я, – посчитай! В одном этом году ты две драмы написал – «Испанцев» и «Menschen und Leidenschaften» и несколько поэм, а стихов-то, стихов!..
– Может быть, ты и прав, – говорит Лермонтов. – И в этом я только одному тебе признаюсь.
– Ну вот видишь! И вообще, мне кажется, тебя ничто так не интересует, как твои поэтические занятия.
– Ты думаешь, что это простое «занятие»? Да?
– А что же это?
Лермонтов прошелся по комнате и остановился перед Лопухиным.
– Это такая сила, – сказал он медленно, – которой противиться невозможно! Понимаешь? Это и счастье, и мука, и… все!
Он отошел к окну.
– Бывают дни, когда какие-нибудь восемь строчек терзают меня с утра до ночи, и я не могу заниматься лекциями, ни о чем не могу думать, пока не закреплю в этих строчках все те слова, которые звучат во мне, и не расположу их, точно ноты в какой-нибудь музыкальной пьесе. Но бывает и по-другому: вдруг какой-то вихрь охватывает душу, и она загорается огнем, и все мысли ложатся тогда легко на бумагу – и я счастлив. Но я просто не могу в такие дни никого видеть и слышать! Я должен отдаться дыханию этого вихря, остаться один на один с этим огнем. И это все я тоже говорю только тебе.
Лопухин долго молчал.
– Я понял, Мишель. Я вспомнил, как ты, еще совсем мальчиком, написал в своей «Молитве»:
…сей чудный пламень,
Всесожигающий костер…
Это о том?.. Я понял.
ГЛАВА 28
«Холера в Москве!» – разнеслось по городу. Медленно потянулись по улицам кареты и зловещие черные фуры с трупами. Город в эту осень был оцеплен.
Один студент нравственно-политического отделения, на котором учился Лермонтов, утром почувствовал дурноту, а на другой день умер в университетской больнице.
Профессор технологии Денисов прочел студентам приказ о закрытии Университета по случаю эпидемии и вечером следующего дня умер.
Студенты прощались друг с другом на университетском дворе уже не как чужие, а с тем теплым и тревожным чувством, которое объединяет в дни общей беды.
На опустевшей Молчановке в доме бабушки царила введенная бабушкой строжайшая диета и наводил уныние острый запах хлора. Москвичи были охвачены паникой, и многие семейства уехали.
– Мишенька, пора и нам ехать. Уедем-ка, дружок, из Москвы, – просила Елизавета Алексеевна.
– Почему же, бабушка?
– Потому что в Москве холера и оставаться здесь опасно. Все ведь уехали!
– Совсем не все. Есть семьи, которые остались. Ивановы здесь.
– Ивановы? – переспросила удивленно бабушка. – Неужели и Натали осталась?
– Все остались, бабушка.
– Ну что же, Мишенька, если ты только дашь мне слово быть осмотрительным и никуда не уходить…
Он сдержал свое слово – почти безвыходно сидел дома. И только изредка, тайком от бабушки, когда она уже спала, выходил осторожно на безлюдную улицу и почти бежал к дому Ивановых. Увидев, что в окнах его горит свет, постояв и не заметив никаких признаков тревоги в доме, он бежал обратно и ложился спать успокоенный.
Ну разве можно было уехать из Москвы, зная, что Наташа осталась?!
* * *
Ее спокойный ум и твердая рассудительность с первой же встречи вызвали в нем непонятное ему самому желание делиться с ней всеми мыслями, волновавшими его так давно.
Было уже поздно. Младшая сестра Натали, присев в реверансе перед Лермонтовым, ушла со своей гувернанткой. Поняв, что Лермонтов еще не собирается уезжать, Натали взяла работу и уселась на низенький диванчик у большой лампы. Ее спокойный профиль, склоненный над работой, был освещен теплым светом, как в первый вечер их встречи. Мишель любовался чистыми линиями ее лица и шеи, тонкими пальцами, разбиравшими пестрые нити шелка…
И ему показалось, что эта минута уединения пришла не случайно: он может сейчас открыть этой девушке свою душу и в ее сочувствии найти поддержку. Сев на пушистый ковер у ее ног, волнуясь и стараясь быть понятным, он все поведал ей, все – о детстве и первых столкновениях с несправедливостью и еще никому не высказанные надежды.
– И я также готов отдать свою жизнь ради новой, лучшей жизни всех и каждого, – говорит он горячо. – С детских лет я искал совершенства во всем и везде. Вам понятно это, Натали?
Она удивленно посмотрела в горевшие воодушевлением глаза юноши и покачала головой.
– Не больны ли вы, Мишель?
Когда он вышел из их дома, был уже поздний час. Редкие фонари мигали на темных улицах.
Он шел один, и горечь непонятого порыва, горечь от сознания ее равнодушия к тому, что было для него священно, легла на его сердце.
Он шел, не замечая дороги, и губы его шептали:
Но взор спокойный, чистый твой
В меня вперился изумленный.
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослепленный.
Если верить ее словам, жизнь куда проще, чем он думает! И не требует ни борьбы, ни тем более жертвы. И лучше пусть отступят, пусть отойдут великие тени тех, кто в борьбе за свободу и справедливость отдал жизнь!
Нет! Она не права.
* * *
Должно быть, наступившие рано морозы победили, наконец, холерных микробов. К зиме эпидемия начала утихать: страшные кареты и черные фуры все реже появлялись на безлюдных московских улицах и постепенно исчезли совсем.
Начали понемногу оживать опустевшие особняки, и, наконец, всем стало ясно: опасность миновала.
В Татьянин день Московский университет открыл, наконец, двери аудиторий после четырех месяцев бездействия.
Открылся сезон балов. На «вторники» Благородного собрания съезжалась вся Москва.
С того вечера, когда Лермонтов впервые увидел прелестное лицо Натали, он думал о ней постоянно. Теперь он знал, что она его не понимает, – и это было мучительно. Но когда он приходил в их шумный гостеприимный дом, где хозяин, веселый, известный всей Москве театрал, устраивал оживленные собрания любителей театра и литературы, его охватывало еще более мучительное беспокойство и ревнивое чувство.
В нем росла непреодолимая потребность смотреть на нее и быть вблизи нее, но каждый раз он уходил с омраченной душой и уязвленной гордостью, сам удивляясь той власти, которую приобрела над ним эта девушка, всего на один год старше его.
ГЛАВА 29
Нет, нет! Ему не нужно больше бывать у Ивановых!
Прошло уже много времени с тех пор, как он дал себе это слово.
Но почему же в тот весенний день, когда он узнал от знакомого студента, посещавшего дом Ивановых, что они на днях уезжают из города, сердце его снова сжала тоска?
Почему после мучительных дней ему снова неудержимо захотелось увидеть ее, чтобы только проститься, чтобы на одно мгновенье, прощаясь, взять ее руку в свою?
И вот он все-таки идет к ней, идет в последний раз…
Сколько раз он чувствовал себя униженным! Но, дав себе слово не встречаться с ней, он ездил зимой на балы только потому, что надеялся увидеть там ее.
Может быть, сегодня, в этот последний раз, ему посчастливится застать ее одну?
У Ивановых было шумно и людно, как всегда.
Он увидел Натали, и лицо ее, обернувшееся к нему с легким удивлением, показалось ему прелестнее, чем когда-либо.
Ее голос, когда она отвечала на его приветствие, был ласков; и ему показалось, что ее нежные щеки порозовели, когда он к ней подошел. И оттого весь вечер он чувствовал себя счастливым, как никогда, и веселым, как в детстве.
Улучив минуту, когда она осталась одна, и глядя ей в лицо испытующим взглядом, он сказал, что пришел в последний раз, и вздрогнул: ему показалось, что глаза ее посмотрели на него печально и лицо омрачилось, когда она с грустью, точно не веря, повторила:
– В последний? И вы не приедете к нам? Вы нас оставите?
Ему захотелось броситься к ее ногам и крикнуть в ответ:
– Нет, нет, никогда!..
Был уже поздний час, и оставаться дольше других было неудобно.
Он низко склонил голову, прощаясь.
Натали провожала его до передней. В широком коридоре, где горели матовым светом стенные бра, никого не было. И когда она остановилась перед стеклянной дверью, протягивая ему руку на прощание, он, сам не зная как, с какой-то безудержной радостью поцеловал ее в губы.
Он обезумел от радости. Шел, напевая свою любимую арию из «Фенеллы», и на углу Малой Молчановки столкнулся с Поливановым.
– Мишель! – крикнул Поливанов на всю Молчановку. —
Я Пушкина встретил! Своими глазами видел! Он гулял сначала по Тверскому, а потом по Пречистенскому!
Лермонтов схватил Поливанова за плечи.
– Это правда? Ты его видел?
– Ну, конечно, правда! Он, наверно, к Нащокиным шел! А я все время за ним, все время за ним!
– Пушкин был на Пречистенском? – повторяет Лермонтов, остановившись посреди улицы перед дворником в тулупе, с удивлением наблюдающим за господами студентами. – Значит, и я могу его там встретить! Возможно ли?.. – шепчет он, глядя на звездное небо над головой. – Столько счастья в один день!..
* * *
За три следующих дня студент Лермонтов сделал не один десяток верст, прохаживаясь то по Пречистенскому, то по Тверскому бульвару. Сердце его замирало каждый раз, когда вдали на дорожке показывалась какая-нибудь фигура в крылатой шинели с Цилиндром на голове.
Но поэта он так и не встретил. А скоро, говорят, Пушкин и вовсе уедет в Петербург. Ну что ж, и он тоже поедет когда-нибудь в Петербург и станет, как на часах, у его дома и дождется Пушкина, хотя бы пришлось стоять целые сутки!








