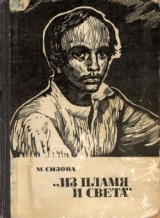
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 35
Молодежь лопухинского дома и молодежь арсеньевского, что на Малой Молчановке, и верещагинского, и поливановского была связана теснейшей дружбой.
Но центром ее был, конечно, дом Арсеньевой, где Миша Лермонтов, юный поэт, художник и музыкант, был всех изобретательней и всех горячее в дружбе.
С Алексеем Лопухиным и с Колей Поливановым он делился всеми мыслями, планами, стихами. Лопухинские барышни и Сашенька Верещагина, его кузина и друг, тоже знали и любили его стихи. Умная и добрая, но насмешливая Сашенька была неутомима на выдумки и вносила много веселья в их дружеский кружок. Такой же веселостью веяло от Софи Бахметевой. Ее подвижная фигурка с пушистой кудрявой головой целый день мелькала то на лопухинском дворике, то в доме ее воспитательницы Арсеньевой, то в саду.
В праздничное утро она влетала в дом с какой-нибудь новой затеей, и Лермонтов, выслушав ее, очень серьезно, с поклоном отвечал:
– Я согласен, ваше Атмосфераторство! – И, взяв маленькое перышко и дунув на него, добавлял: – Вот это – вы.
«Перышко» смеялось и улетало.
Зайдя в один из осенних дней к Лопухиным, Лермонтов сразу окунулся в шумное веселье.
Сашенька Верещагина и Софи Бахметева, Коля Поливанов, Варенька, Мари и Алексей – все окружили его и забросали множеством новостей и вопросов. Варенька была весела и прелестна в своем светло-зеленом легком платье.
Вдоволь наговорившись, играли в petits jeux, а потом все просили Мишеля прочитать стихи, но он не согласился. И тогда все попросили Софи и Вареньку спеть что-нибудь на два голоса, и они тотчас согласились и спели «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», а потом, после ужина и коротенькой кадрили, все разошлись, очень веселые, до следующего дня.
Но когда Лермонтов, уходивший последним, прощаясь, подошел к Вареньке, она внимательно посмотрела в его лицо.
– Вы много смеялись, но вы невеселый. И смех ваш невеселый тоже. С вами что-нибудь случилось? Да? Очень, очень плохое? Или ничего себе?
– Нет, не очень плохое, Варенька: ничего себе.
– Это правда? Ну, тогда я рада. А знаете, меня уж больше не увезут в деревню, как увозили раньше. В эту зиму я начну выезжать! И платье у меня – видите? – уже длинное! – Она нагнулась и указала ему на край своего светло-зеленого платья. Когда она подняла глаза – легкий румянец покрыл ее нежные щеки.
– Вижу, Варенька, вижу. И тоже очень рад тому, что вы останетесь в Москве.
Он пожал ее тонкие пальчики и, все еще улыбаясь и удивляясь ее проницательной чуткости, пошел домой.
* * *
Ночь уже кончалась, когда он отошел от стола.
Он пересмотрел все написанное им.
Он мог бы быть доволен: свыше двухсот стихотворений, больше полутора десятков поэм, три драмы, наброски, заметки, планы… Но он никогда не был доволен собой. Вот перед ним его тетради: строчки бегут по страницам, то исчерканные поправками, то набросанные торопливой рукой в те мгновенья, когда стремительно складывались стихи и как-то сами собою рождались рифмы.
Вокруг него большой мир, где люди и страсти сталкиваются, борются… Преступления и высокие стремления, любовь и коварство, низкий обман и святая правда – все сплелось в одном клубке… Это и есть жизнь!
А кто же он сам? Может быть, просто «странный человек» среди людей неверных и коварных? Он только что написал драму и так ее и назвал: «Странный человек». Герой погибает. Но в жизни так быть не должно. Нет!
Он думает о том, чье имя для него с детства священно. Пушкин! В Пушкине – солнечная ясность, утверждение жизни.
Нет другого имени на земле, которое он произносил бы с таким трепетом поклонения, как это. Пушкин для него утренняя звезда, возвещающая зарю нового дня для всей России, и недосягаемое совершенство поэзии.
Ребенком он с восторгом вслушивался в гармонию пушкинского слова.
. . . . . . . . . .
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень Великого героя…
А это он написал сам.
ГЛАВА 36
– Мишенька, – тихо позвала бабушка, входя в его комнату в одно осеннее холодное утро. – Ты не волнуйся, дружок мой, но я должна сообщить тебе невеселые вести.
Он молча ждал. Только сердце стукнуло сильно и словно покатилось куда-то…
– Мне не хотелось будить тебя, но сегодня ночью приехал приказчик из… из Кропотова. Твой отец…
– Умер?!. – холодея от страха, прошептал он.
– Нет, он жив, успокойся, но очень болен и ждет тебя.
– Что же вы не сказали мне об этом ночью? Боже мой, я могу опоздать!..
– Я уже сказала, Мишенька, чтобы тебе закладывали лошадей. Сейчас и выедешь.
Через час дорожная кибитка уже выезжала с Молчановки. И хотя быстро летели мимо знакомые дома, и узкие улицы, и дворики, поливаемые осенним дождем, ему казалось, что лошади еле двигаются.
Это чувство не оставляло его и тогда, когда замелькали перед глазами верстовые столбы, деревенские улицы, березы, отряхивающие с облетевших веток дождевые капли.
Минутами это чувство было таким мучительным и его охватывал такой страх опоздать, что ему хотелось бежать по этой казавшейся бесконечной дороге, бежать, не останавливаясь, до тех пор, пока не покажется на лужайке знакомый дом с широким крыльцом и в конце длинного коридора он не увидит дверь, за которой послышится знакомое покашливание.
…Когда, наконец, он на самом деле пробежал этот коридор, где на него смотрели испуганные глаза женщин, и открыл знакомую дверь, он остановился на пороге, пораженный тишиной комнаты. Эта тишина холодом ударила ему в сердце. Он понял, что опоздал…
На похороны съехалась многочисленная родня, почти неизвестная сыну покойного.
Он глядел на малоизменившееся, все еще красивое мертвое лицо отца, и в памяти его вставали все их встречи и немногочисленные дни, прожитые вместе.
Да, их было очень немного, таких дней!
«Жил со мной в разлуке и умер без меня!» – думал он. И в памяти его встал первый день, оставшийся ясным в его детском сознании: день смерти матери, когда эти теперь неподвижно лежащие перед ним руки подняли его с пола, прижали крепко к груди, и голос, которого он больше уже никогда не услышит, сказал: «Простись с матерью, Мишель…»
Он наклонился близко-близко к его лицу и, чувствуя, что не может быть его судьей, простил ему все, что знал и чего не знал и чего бабушка так и не простила.
Ночью он сидел в кабинете отца, разбирая его бумаги. Осенний дождь бушевал за темным окном.
В комнате еще сохранился знакомый ему с детства и с детства любимый запах отцовских духов и ароматного табака.
Он распечатал переданный ему теткой пакет, прочел первые строчки – и заплакал, уронив голову на стол, на завещание Юрия Петровича, полное любви и благодарности к нему, к сыну.
Рано утром к широкому крыльцу подали лошадей.
Он уселся в дорожную кибитку и, окинув долгим взглядом весь дом и завешенные окна отцовского кабинета, смахнул рукой слезу тем же жестом, каким делал это, бывало, Юрий Петрович, уезжая от сына.
– Ужасная судьба… Ужасная судьба!.. Я был причиной всех его мук, я! Неужели же его огромная любовь больше не существует, исчезла без следа?!.
Дрожащая от дорожной тряски рука на случайно найденном в кармане листке писала строку за строкой…
Бабушка встретила его молчаливым сочувствием, но не расспрашивала ни о чем. И за это он был ей благодарен.
В тот же вечер у себя в комнате, наверху, он вынул тетрадь и бережно переписал в нее то, что было написано в дороге.
Утром он положил тетрадь перед бабушкой.
Бабушка вопросительно посмотрела на него: никогда до сих пор он не давал ей читать своих тетрадей.
– Прочитайте последнее стихотворение, я написал это по дороге в Москву, – сказал он почти сурово и вышел.
Она подсела ближе к окнам, потому что день был тусклый и ненастный, и медленно начала разбирать знакомый почерк внука.
Ужасная судьба отца и сына
Жить розно и в разлуке умереть, —
прочла она и остановилась.
…Я ль виновен в том,
Что люди угасить в душе моей хотели
Огонь божественный, от самой колыбели
Горевший в ней, оправданный творцом?
. . . . . . . . . .
Мы не нашли вражды один в другом,
Хоть оба стали жертвою страданья!
Не мне судить, виновен ты иль нет…
Она прочитала последние строки:
Ужель теперь совсем меня не любишь ты?
О, если так, то небо не сравняю
Я с этою землей, где жизнь влачу мою;
Пускай на ней блаженства я не знаю,
По крайней мере я люблю!
Когда Миша вернулся, были уже глубокие сумерки, но бабушка сидела без огня.
Он подошел к ее столу, в сумерках разглядел свою тетрадь и взял ее.
– Вы прочли?
– Да, друг мой. – Она помолчала и точно с трудом закончила: – Очень хорошие стихи, Мишенька…
Больше они ничего не сказали друг другу.
ГЛАВА 37
Октябрь поливал улицы потоками холодного дождя, и, бабушка, всегда державшая хороших лошадей, каждый день уговаривала Мишеньку не ходить пешком в Университет.
Но он упорно ходил под дождем, подставляя лицо осеннему ветру. Он шел по хмурым, мокрым улицам, не замечая прохожих и стараясь забыть о тоске, охватившей его сердце после двух утрат: разрыва с Натали и смерти отца.
По вечерам он появлялся в гостиных или на балах и хмуро глядел на танцующих. Были минуты, когда он переставал что-либо слышать, потому что набегали строки стихов, и он уходил, торопясь записать их.
Грусть об отце и воспоминания о нем сменялись воспоминаниями о мучительной любви к Натали.
Сумрачный день переходил в сумрачный вечер, когда он возвращался с лекции к себе на Малую Молчановку. В окнах их дома уже горели свечи. И у Лопухиных тоже… Он подошел к их дому и остановился.
Варенька, которую он еще не видел после похорон отца, быстро шла ему навстречу.
В короткой бархатной шубке, с двумя длинными косами, падавшими из-под маленькой шапочки, она показалась ему в сумраке совсем девочкой. Но ее выразительное лицо было так сосредоточенно-серьезно и полно участия, что в сердце его что-то дрогнуло. И он стоял неподвижно, глядя на ее лицо, на губы, которые в этот раз не улыбались.
– Я знаю, – проговорила она с какой-то тихой осторожностью, точно боясь своих слов, – я знаю о вашем горе. И оно очень… очень большое. И это, конечно, непоправимое горе. Но все-таки… все-таки вам скоро будет легче! Право, это так! Я знаю!.. – Она ласково коснулась рукой, затянутой в тонкую перчатку, рукава его шинели. – И приходите поскорее к нам! Алексис вас ждет. И мы с Мари – тоже.
Она кивнула ему на прощание, и тяжелая дверь закрылась за ней.
В этот вечер ему захотелось послушать музыку, и он пошел на концерт. И там, на концерте, он продолжал видеть перед собой нежное лицо Вареньки, ее греющий взгляд и с благодарностью вспоминал простые слова сострадания, произнесенные ее милым голосом.
ГЛАВА 38
В день Варенькиных именин, в самый разгар зимы – 4 декабря, вдруг точно повеяло весной. Оттепель с ветром, низкие облака неслись откуда-то с юга.
С веток тополя, который рос у Варенькиного окна, падали капли. А когда Варенька открыла форточку, оттуда пахнул влажный теплый ветер, и она подставила ему горевшее от волнения лицо. В руке Варенька держала только что полученный подарок Мишеля. Это были, конечно, стихи, написанные к сегодняшнему дню. Ей принесли их утром вместе с подарком Елизаветы Алексеевны – веером из белых страусовых перьев. Разве можно было, прочитав стихи, оставаться спокойной? Даже Мари, рассудительная Мари, была бы взволнована, если бы эти стихи были посвящены ей! И разве могла Варенька даже помыслить когда-нибудь, что он так думает о ней, и разве можно было сказать об этом прекраснее?..
Она положила листок со стихотворением на стол и постаралась повторить его на память. Но запомнила только четыре строчки:
Я не могу ни произнесть,
Ни написать твое названье…
Для сердца тайное страданье
В его знакомых звуках есть…
– Варенька, – раздался голос сестры, – почему ты стоишь у открытой форточки и смотришь на мокрую галку, когда внизу уже собираются гости к обеду?
– Ах, Мари, – обернулась к ней Варенька, – посмотри, прочитай! Это мне написал Мишель…
Мари взяла со стола листок и прочитала. Лицо ее стало серьезным, и она сказала:
– Да, это прекрасно написано, Варенька. Спрячь эти стихи и береги их.
– Еще бы!.. – Варенька прижала холодные ладони к горящему лицу.
– А теперь закрывай форточку и пойдем за Алешей, он еще у себя. И знаешь, я вспомнила, – сказала Мари, любуясь Варенькиным веером, – Алексис списал вчера у Мишеля еще какие-то стихи и в восторге от них. Он говорит, что так написать мог только настоящий, большой поэт.
– Мишель и есть самый настоящий и самый большой поэт.
* * *
Алексей торопливо приглаживал перед зеркалом свои волосы.
– Алексис, – робко сказала Варенька, – покажи мне те стихи Мишеля, которые ты вчера списал.
– Завтра покажу и тебе и Мари.
– Нет, нет, мне очень хочется именно сегодня, – умоляющим голосом попросила Варенька. – Пожалуйста, дай, Алешенька, – ну ради моих именин!
– Ну что же делать, именинницам не отказывают, – покорно сказал Алексей.
– Но нам пора идти вниз, – решительно заявила Мари.
– Идите, идите. Я сейчас, сию минутку вас догоню!
Когда они оба ушли, она наклонилась над строчками, написанными знакомым почерком:
Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон;
Но образ твой в душе моей
Все жив, хотя бессилен он…
Варенька остановилась и перевела дыхание.
«К кому же обращены эти слова?..»
Она дочитала до конца:
Другим предавшися мечтам,
Я все забыть его не мог;
Так храм оставленный – все храм,
Кумир поверженный – все бог!
Внизу уже слышались веселые голоса и шум. А Варенька все еще стояла с листком в руке все с тем же немым вопросом: «К кому это стихотворение? Но тут еще стихи!.. На обороте».
Варенька торопливо начала читать:
Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты…
«Кто ж это? Кто?!»
– Варенька! – вскричала Мари, заглянув в комнату. – Что же это такое?
Варенька положила стихи и пошла за сестрой.
Когда она сошла вниз к гостям, она была очень бледна.
Лермонтов пришел вечером. Он сказал Вареньке, что она выглядит прелестней, чем когда-нибудь, и сказал правду, потому что белое платье и впервые убранные по моде, в длинные локоны, золотистые волосы делали ее очаровательной.
Она поблагодарила его за стихи. Они прекрасны, как и все, что он пишет, сказала она.
– Но мне кажется, что вы чем-то огорчены? – спросил он встревоженно.
– Нет, ничуть! Мне очень весело, – сказала Варенька и раскрыла свой новый веер. – Поблагодарите вашу бабушку за подарок. Он такой прелестный!
И больше в этот вечер она не говорила с ним. Она разговаривала и танцевала с какими-то молодыми людьми.
Но с ним, с ним она не говорила! Он ушел рано – обиженный и недоумевающий.
Когда разъехались все гости, Варенька еще долго стояла у окна своей комнаты, не зажигая свечей. Ей было видно, как расходились медленно облака в холодеющем небе.
Так храм оставленный – все храм,
Кумир поверженный – все бог… —
повторяла Варенька.
Выйдя от Лопухиных, Лермонтов дошел до конца тихой улицы. От подъезда Лопухиных отъезжали кареты и сани.
Оттепель кончилась. Под ногами, как в мартовские весенние ночи, ломался тонкий ледок, а легкий мороз уже покалывал щеки.
«Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиною страдания?»
Так записал он в своем дневнике ночью 4 декабря после невеселого вечера Варенькиных именин.
ГЛАВА 39
В обширных залах Благородного собрания готовились к пышной встрече нового, 1832 года.
И Лермонтов нетерпеливо ждал этой новогодней ночи, зная, что встретит Натали.
Но и Варенька там будет.
От этой мысли светлело на душе.
Ему казалось иногда, что его чувство к Натали борется с тем, что заронила в его душу Варенька.
До новогодней ночи оставалось всего три дня и три вечера, и волнение Лермонтова росло.
Аким Шан-Гирей был всегда посвящен во все его планы и всегда был от них в восторге. И в этот раз он деятельно, даже с вдохновением, помогал их осуществлению. Они вырезали из черной бумаги огромные китайские буквы, скопировав их с чайного ящика, и в течение двух вечеров наклеивали эти черные буквы на страницы необычайных размеров книги. Она должна была изображать книгу астролога, а буквы – те таинственные знаки, по которым астрологи предсказывают судьбу. Аким озабоченно рассматривал костюм астролога, который шил старый бабушкин портной по фасону, срисованному Мишелем из книги восточных сказок.
Примерив в последний раз костюм и убедившись в том, что буквы в таинственной книге прилипли надежно, они оба почувствовали себя вполне готовыми к встрече Нового года и, несмотря на вьюгу, половину вечера проездили по оживленным улицам.
Метель гонялась за их легкими санями, летящими мимо освещенных окон.
Вместе со снежными вихрями дважды проносились их сани мимо невысокого дома с облупившимися колоннами. И каждый раз Лермонтов по непонятной Шан-Гирею причине с напряженным вниманием всматривался в его светлые окна. А увидав неподалеку от этого дома встречные сани и в них чье-то девичье лицо рядом с военной шинелью, судорожно схватился рукой за медвежью полость и долго смотрел вслед этим саням.
* * *
…Чуть касаясь блестящего паркета носками атласных туфелек, пролетает в вальсе Варенька Лопухина. Нет, не Варенька, а розовая маркиза в черной маске и напудренном парике. В прорезях маски, обшитой черным кружевом, блестят ее глаза, и радостный взгляд их ни на чем не останавливается.
Вальс окончен. Варенька низко и легко приседает перед своим кавалером и возвращается на место. Ее сестра кончает танец в противоположном конце огромного зала и, так же присев перед кавалером, бежит, скользя по паркету, к Вареньке.
Они усаживаются рядом и под охраной брата, отдыхая, рассматривают толпу.
– Это не он? – шепотом спрашивает Мари, вглядываясь в какого-то испанца в сомбреро и плаще.
– Нет, что ты, Мари! Мишель не такой! – уверенно отвечает Варенька, и вдруг глаза ее расширяются от изумления; в зал легкой походкой входит новый гость – на нем необыкновенный восточный костюм и большая книга в руках.
Его мгновенно окружают любопытные маски, но он, оглянувшись по сторонам, пытливо всматривается в толпу, разыскивая кого-то.
Сопровождающее эту странную фигуру пестрое домино громко объявляет, что в перерыве между танцами приехавший из дальних стран знаменитый астролог будет предсказывать желающим судьбу.
Маски со всех сторон устремляются к «знаменитому астрологу».
Варенька и Мари, схватив за руки Алексея, спешат туда же.
Какой-то юный паж, очень маленького роста, с предательской ямочкой на подбородке, чрезвычайно напоминающей всем Верочку Бухарину, подбегает первым.
– Вам угодно задать вопрос? – очень любезно спрашивает домино.
– Нет, – уже робея, говорит паж, – я просто так…
Но приехавший из дальних стран астролог уже протягивает руку к таинственной книге. Он перевертывает огромную страницу, всматривается в ее черные знаки и через минуту каким-то удивительным голосом громко произносит:
Не чудно ль, что зовут вас Вера?
Ужели можно верить вам?
Нет, я не дам своим друзьям
Такого страшного примера!..
Растерявшийся паж стоит несколько мгновений неподвижно. Вокруг раздаются веселый смех и аплодисменты. Паж убегает.
Слегка подталкиваемая в спину своими друзьями, на место убежавшего пажа становится маска в пестром костюме шута со звенящими бубенчиками на колпаке.
– Смотри сюда! – грозно говорит астролог.
Маска заглядывает в книгу, но не видит в ней ничего, кроме нескольких черных знаков.
Предсказатель перевертывает страницу и строгим голосом читает:
На вздор и шалости ты хват
И мастер на безделки.
И, шутовской надев наряд,
Ты был в своей тарелке…
Гром аплодисментов награждает астролога, и тогда от веселой толпы отделяется новая маска. Легкое покрывало падает из-под маленькой грузинской шапочки, украшенной золотыми монетами, окутывая тонкую фигуру в восточном костюме, а на лбу выбиваются из-под покрывала завитки каштановых волос. Она что-то шепчет, смеясь, своему кавалеру и, смеясь, подходит к книге.
Астролог молча смотрит в глаза, сверкающие сквозь отверстия черной маски.
Потом медленно перевертывает страницу и тихо говорит:
– Положите на нее руку.
Маска колеблется, но через мгновенье маленькая рука ложится на черные знаки книги. Потом рука исчезает, а астролог все еще молчит.
И наконец, склонив голову над раскрытой книгой, на которой только что лежала маленькая женская рука, он говорит:
Я не достоин, может быть,
Твоей любви: не мне судить;
Но ты обманом наградила
Мои надежды и мечты,
И я всегда скажу, что ты
Несправедливо поступила.
Он умолкает, опустив голову, и легкое замешательство пробегает по толпе масок.
Тогда астролог поднимает голову и с самой непринужденной веселостью обращается к стоящей перед ним маске в грузинском костюме:
Дай бог, чтоб вечно вы не знали,
Что значит толки дураков,
И чтоб вам не было печали
От шпор, мундира и усов.
Такое всем понятное предостережение встречается уже общим весельем, распорядитель объявляет последний вальс перед ужином – и через минуту, убрав куда-то свою книгу, таинственный астролог проносится по залу с розовой маркизой.
– Я вас узнала, Мишель, сразу узнала! – говорит розовая маркиза. – Но кто эта маска в грузинском костюме?
– Царица Тамара, которая живет в замке в Дарьяльском ущелье. Когда в детстве я был на Кавказе, я слышал рассказы о ней. И наверно, она носила именно такой костюм.
– А какая это царица, Мишель? Она добрая? Или злая?
– Ее нельзя было назвать доброй царицей, Варенька. Она губила тех, кто ее любил. Кроме того, она была колдунья.
– Вы это серьезно?
– Очень серьезно, Варенька. Так говорят. И эта маска в грузинском костюме похожа на царицу Тамару.
– А вы не будете отрицать, если я скажу, что ваша царица Тамара и ваша «Н. И.» – одно и то же лицо?
– Не буду, Варенька.
– Ну, я так и знала. А скажите, царица действительно губила всех любивших ее?
Он помолчал. Оркестр играл медленней, вальс кончался.
– Был один случай, когда ей это не удалось.
Когда за ужином над рядами столов вспыхнули ровно в полночь блестящие нити, протянутые между колоннами, и осветились причудливым светом пестрые костюмы и оживленные лица гостей, снявших маски, свет упал и на розовую маркизу, которая сидела неподвижно, крепко сжимая пальцы похолодевших рук.
Сидящий напротив Мишель смотрел на девушку в грузинском костюме. Это Варенька видела ясно. Но она не заметила ни холода, ни упрека в его взгляде, скользящем по лицу этой девушки. Она сидела недалеко от Вареньки, и розовой маркизе был хорошо виден ее мягкий профиль и завитки волос, выбившихся из-под откинутых складок легкого покрывала. Но когда она чуть-чуть насмешливо улыбнулась Мишелю, он отвернулся.








