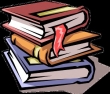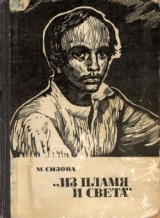
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 32
Белинский торопился к Панаеву. Еще не успев снять пальто, он закричал хозяину из передней:
– Я провел с ним три часа! Теперь я все понимаю, все!..
– С кем вы провели три часа? Что вы поняли? – спросил Панаев, вставая гостю навстречу.
– Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство! Какой у него тонкий и неоспоримый вкус изящного! И какая простота, какое чувство прекрасного! И глубокая, скрытая от всех душа. О, это будет русский поэт с Ивана Великого!
– Вы говорите о Лермонтове?
– Да, о нем! Я был у него на гауптвахте. Он изумителен!
Белинский долго взволнованно ходил по комнате и рассказывал Панаеву о всех подробностях встречи.
Когда он кончил, Панаев спросил его:
– Лермонтов не говорил вам, когда надеется оттуда выйти?
– Он не успел мне об этом точно сказать, но он, как и я, уверен, что на днях получит полную свободу и прочитает нам все то, что написал на стенах своей камеры.
– Где? – переспросил Панаев.
– На стенах своей камеры, – печально повторил Белинский.
– Боже мой, боже мой, узнаю нашего гусара! – воскликнул Панаев, поднимая руки к небу, точно призывая его в свидетели.
* * *
Но и Белинский и сам Лермонтов ошиблись. Прошло еще много дней, прежде чем он простился со своей камерой. Все продолжались допросы и письменные показания. Лермонтов сообщил, что выстрелил в воздух. Узнав об этом, де Барант заявил, что по выходе Лермонтова из-под ареста он «накажет» его «за хвастовство».
Лермонтов вызвал француза на гауптвахту и спокойно ему сообщил о своей готовности тотчас по освобождении снова стать к барьеру, после чего француз изъявил свое полное удовлетворение поведением русского офицера и от второго поединка отказался.
Но Лермонтова обвинили в новом вызове де Баранту, сделанном тайно.
И после этого был над ним суд.
И наконец, пораженный пристрастием, с которым велось все дело, и теми размерами, которые придали этому происшествию, оскорбленный заискиванием начальства перед французской аристократией и несправедливостью к нему, офицеру, защищавшему честь русского военного, он узнал свой приговор: он переводился в Тенгинский полк и получал несколько дней в свое распоряжение, дабы проститься с родными и друзьями.
Он узнал, что определение генерал-аудитора о том, чтобы «выдержать» его «в крепости на гауптвахте» три месяца, отменено по высочайшему повелению: царь приказал отменить трехмесячный арест и отправить его теперь же в пехотный Тенгинский полк. В особый полк…
Когда он вышел из своей камеры на Литейный, он увидал, что наступила уже окончательная весна, что с улиц сошел снег и воробьи восторженно радуются солнцу и воде.
Был апрель 1840 года.
ГЛАВА 33
– Эй, эй!….гись!…ги-ись!.:
Так долетало сюда слово «берегись», относимое куда-то в сторону морским ветром и прибоем.
Кричали солдаты, стоявшие на сторожевом посту Михайловского укрепления, своим товарищам, которые, собравшись у стен укрепления неподалеку от бруствера, в полном молчании, согнувшись, рыли землю, работая заступами и лопатами.
В ответ на достигший их слуха предостерегающий крик они подняли головы и посмотрели вокруг. На их лицах лежала землистая тень.
«…гись!» – долетело до них еще раз, уже громче, и, побросав лопаты и заступы, эти люди с изможденными лицами быстро легли на землю, припав к ней всем телом. Несколько пуль просвистело над их головами, и все опять затихло, и опять только ветер пронесся где-то в кустах да мерно разбивался о камни тяжелый прибой.
Когда люди, быстро копавшие землю, кончили свою работу, они подняли на руки два грубо сколоченных длинных ящика и медленно опустили их в вырытую яму. Потом все обнажили головы и постояли молча перед этой свежей могилой. Через несколько минут новый холмик пополнил цепь таких же невысоких холмов, расположенных невдалеке от стены.
Был сырой мартовский вечер, и холодный туман медленно полз к самым стенам Михайловского форта, где находилась часть Тенгинского полка. Последовавшая за этим вечером ночь стала последней ночью в жизни его героического гарнизона, который, не сдавшись врагу, взорвал свою крепость и погиб вместе с ней. И тот, кто вечером готовил могилу своим товарищам, теперь нуждался в той же услуге от немногих оставшихся в живых.
. . . . . . . . . .
9 апреля в весенний светлый вечер в Зимнем дворце только что начался бал в честь иностранных гостей.
Государь в прекрасном расположении духа открыл бал, пройдясь в «польском» со своей царственной супругой, и теперь остановил благосклонно-величавый взгляд своих холодных глаз на прелестном лице жены итальянского посла, очевидно намереваясь в следующем туре быть ее кавалером. Но в эту минуту дежурный адъютант приблизился к нему и, видимо робея, оставаясь на почтительном расстоянии, доложил, что военный министр граф Чернышев ожидает его величество со срочным донесением.
– Как, во время моего отдыха?! – Император гневно взглянул на своего адъютанта. – Неужели он не мог подождать до утра?
– Со срочным донесением, – повторил смущенный адъютант.
С раздражением пожав плечами, император покинул бальный зал. Он вернулся к началу мазурки, когда пары только что выстроились на паркете в ожидании первых звуков оркестра.
С первого взгляда было видно, что от прекрасного настроения императора не осталось и следа. Лицо его было нахмурено, а взгляд обычно холодных глаз принял жестокое и злое выражение.
Он подошел к графу Бенкендорфу.
– Очень плохие вести с моего Черноморья, – отрывисто проговорил он вполголоса. – Тенгинский полк продолжает меня огорчать: он оказался не в силах защитить черноморские укрепления и губит весь мой план! Только недавно мы узнали о взятии Лазаревского укрепления; кажется, это было седьмого февраля? В ночь на двадцать девятое пал Вельяминовский, а сейчас граф Чернышев доложил о падении Михайловского форта в ночь на двадцать второе марта!
Через несколько минут государь прошелся в мазурке, но взгляд его оставался суровым и озлобленным, и он не поддержал разговора со своей дамой. По окончании бала, прощаясь с Бенкендорфом, который остановился перед ним, низко склонив голову, император сказал со сдержанным гневом:
– Генерал Граббе, по-видимому, задался целью доказать мне и всем, что весь мой план занятия черноморского берега никуда не годен. Это ясно проглядывает во всех его донесениях. А нынче я имел удовольствие прочесть его последнее донесение, в котором он сообщает мне со свойственной ему любезностью, что взятие Михайловского форта будет служить сигналом общего нападения на все форты. Что вы на это скажете?
– Я надеюсь, ваше величество, что это предсказание слишком мрачно.
– Генерал Граббе, – жестко закончил государь, – должен понять, что учреждение черноморских укреплений продумано мною всесторонне и что от своих намерений я не отступаю.
Он, несомненно, знал, что делал, когда через три дня, то есть 13 апреля, милостиво отменил определение об аресте Лермонтова, ограничив наказание поэта срочной отправкой в Тенгинский полк.
«Счастливого пути, господин Лермонтов», – написал он в письме к императрице вскоре после отправки Лермонтова на Кавказ – фразу, оставшуюся для его супруги непонятной. Ведь далеко не всем узнавшим о царской «милости» было известно, что как раз пехотный Тенгинский полк был в это время тем кавказским полком, которому грозило поголовное истребление.
ГЛАВА 34
День отъезда приближался со стремительной быстротой, а сделать нужно было еще так много!
Нужно заказать новую форму… Которую же по счету?
Была форма юнкерская, потом гусарская, была нижегородская драгунская, была Гродненского полка и снова гусарская – и вот армейская, скромная, с красным воротником без всякого шитья – армейский сюртук поручика Тенгинского полка.
Ехать в Тенгинский полк – это значит снова увидеть вершины дорогих сердцу кавказских гор. И может быть, удастся немного побродить с ружьем за спиной, и ночевать у костра, доедая засохший чурек да запивая его кахетинским из бурдюка, и, засыпая, глядеть на лучистые, мохнатые звезды, переливающиеся огнями над горбатыми предгорьями…
Но как горько, как горько расставаться с родными и друзьями!..
Что же больнее всего? Горько оставить бабушку, которая медленно оправлялась после удара. Бабушка теперь в каждую свободную минуту звала Мишеньку к себе и просила посидеть около, чтобы ей на него наглядеться.
И из редакции, и после прощальной пирушки, и после бала он спешил к ней и, подсев к ее кровати, рассказывал для ее развлечения все, что придет на ум, вглядываясь с тревогою в ее изменившееся лицо.
– Ах, бабушка, – говорил он, взяв ее здоровую руку в свою, – был бы у вас другой внук вместо меня – и жили бы вы спокойно!
– А мне, Мишенька, кроме тебя, никого не надо, – отвечала она.
Бабушка вызывала в нем мучительную жалость и желание что-то исправить и изменить, хотя ни того, ни другого он уже не мог сделать. Одна надежда на Акима: оставаясь с ней, он все-таки согреет ее старость.
Горько было сознавать, что «кружок шестнадцати», где так много часов прошло в пламенных спорах, в свободных речах, в дружеском обмене мнениями, перестанет существовать. Но как он был поражен, когда узнал, что главные его участники намереваются по доброй воле ехать вслед за ним туда же, где будет он.
Зато от бесстрастных лиц и фигур в расшитых золотом мундирах веяло на него ледяным холодом. И часто, уловив обращенный на него ледяной взгляд, он чувствовал, что обречен.
И оттого хотелось минутами безудержного, бездумного веселья, хотелось еще раз – в последний раз! – по-юному в кого-то влюбиться и с кем-то пронестись в упоительном вальсе! А потом с утра прибежать в редакторский кабинет Краевского и разбросать там все, что только возможно, разбросать, и привести в беспорядок, и опять с радостным волнением поговорить о своем романе, который, наконец, выходит в свет: первые экземпляры «Героя нашего времени» у него в руках!
Ему хотелось перед отъездом наглядеться на все, что было дорого, на всех, кого он любил, и он объезжал друзей и знакомых.
Смирнова-Россет, в доме которой точно всегда присутствовал образ Пушкина, встретила его строгим выговором, под которым скрывалась тревога.
– Ну что это?! Ну как вас после этого назвать?! Я только что писала Жуковскому и умоляла его похлопотать за вас, хотя ваш язык еще навлечет когда-нибудь на вашу голову новую беду. Везде только и говорят, что о вашей новой ссылке, все находят, что это несправедливо, и жалеют вас, а я на вас сержусь. Пожалели бы хоть Карамзиных, если бабушку вам не жаль! – Она улыбнулась и посмотрела на него: – Это я нарочно говорю; ведь я знаю, как вы к ней привязаны. Но Софи Карамзина, конечно, за вас горой стоит и огорчена до слез. Мы с ней недавно так и провели целый вечер вместе в разговорах о вас: она в слезах, а я в гневе.
– За что же в гневе? – спросил он.
– Не «за что», а «почему», – поправила она строго. – Потому, что теперь все мы обречены на беспокойные ночи в тревоге за вас. Потому, что вы, как совершенно верно говорит Краевский, сумасшедший и обязательно натворите на Кавказе каких-нибудь безумств. Ну, словом, мы вас любим и страдаем потому, что вас отнимают у Петербурга, – закончила она уже ласково, целуя его голову, склоненную к ее руке.
ГЛАВА 35
В день отъезда с раннего утра они занялись с Шан-Гиреем разборкой рукописей.
– А ведь все-таки порядочно написано, Аким, как ты скажешь? – спросил Лермонтов, перевязывая шнурком подобранные листы.
– Еще бы! Одних поэм тридцать, – с гордостью сказал Шан-Гирей, завязывая свою пачку. – Но скажи, пожалуйста, зачем ты опять подарил Краевскому пять стихотворений? Он рад, конечно, – еще бы! – но я не понимаю, почему ты не берешь с него гонорар? Ведь брал же Пушкин и даже назначал сам цену своим стихам, а ты что делаешь? Раздариваешь издателям, которые твоим именем привлекают подписчиков!
– Андрей Александрович на меня, как на живца, ловит, – усмехнулся Лермонтов. – На «Думу» скольких поймал! А пришлось – и Соллогуба напечатал…
А что до Пушкина, так у него, Аким, семья была, да еще жена-красавица, да родители – и все им кормились. А мне на что деньги? Ты забыл слова Гёте: «Песня – вот лучшая награда для певца», а я этого никогда не забываю. Странно, – продолжал он, окидывая взглядом все, что они разобрали, – когда стихи закончены и особенно если они напечатаны, они уже начинают жить своей собственной жизнью, хотя и связаны с самой сердцевиной твоего существа. Когда я писал «Мцыри» – хотя это слово, в сущности, здесь не годится, потому что я его не писал, а видел, пел, кричал, носил в себе, становился им, – мне казалось, я точно исчезал в нем! Я исстрадался за него, за этого беднягу, он меня измучил, как живое существо, как мой товарищ, друг и современник. И я думал тогда часто, что так работать больше не смогу и что никакой другой образ не будет так больше мучить меня.
– А «Демон»?
– Да, «Демон»! Вот о нем-то я и хочу тебе сказать. Белинский прав, говоря, что это еще незрелая вещь.
– Белинский всем говорит, что это одно из лучших созданий русской поэзии! – горячо возразил Шан-Гирей.
– «Демон» еще не кончен, – твердо сказал Лермонтов. – Но я не могу отделить его от себя или себя от него. Он мой главный учитель, который сопутствует мне всю жизнь и настоятельно, постоянно требует от меня все новых и новых улучшений и перемен. Не помню, кто сказал, кажется Бальзак, что писатель – добровольный носильщик: только снимет с себя одну ношу – и уж берет другую.
Так что «Демона», Аким, мы пока отложим. Печатать его целиком, конечно, еще нельзя. Вот когда вернусь с его настоящей родины, с Кавказа, начну его заканчивать, если только мне дадут… – он остановился и закончил просто: – Еще хоть немножко пожить.
– Что за мысли, Мишель, зачем ты это говоришь?!
– Затем, что это правда, Аким. С бабушкой об этом не поговоришь, а с тобой можно и нужно.
– Нет, нет, не думай об этом!
– Ну, пожелай мне, чтобы я в этом ошибся, – тихо проговорил Лермонтов, глядя в глаза Шан-Гирея долгим взглядом.
Шан-Гирей посмотрел в эти печальные темные глаза и молча обнял его.
* * *
Бабушка долго плакала, припав к его плечу. Она едва держалась на ногах, и он уговорил ее лечь, обещав, пока не подадут лошадей, посидеть около нее.
Но Ваня, одетый в дальнюю дорогу, уже докладывал:
– Михаил Юрьич, лошади поданы.
В последний раз он прижал к своим губам морщинистую бабушкину руку, в последний раз повторил ей слова утешения и надежды, взял слово с Шан-Гирея не оставлять ее и, разняв старческие слабые руки, обнимавшие его, сел в дорожную кибитку.
ГЛАВА 36
Был нежно-золотой вечер любимого им времени в Петербурге – начала весны, преддверия белых ночей. Легкие с розоватыми краями тучки медленно проплывали в небе.
Его ждали у Карамзиных, с которыми он еще не простился.
В этот последний вечер сильнее, чем когда-либо, он чувствовал, как дорог ему этот гостеприимный дом, как печально сказать ему «прощай».
Сколько бывало в нем выдающихся, замечательных людей! Глинка здесь играл свои произведения. Когда-то, всего три-четыре года тому назад, бывал здесь Пушкин… Здесь рассказывал блистательный Брюллов о солнце и о море Италии. Здесь встречали с восторженным сочувствием и его стихи и переживали вместе с ним волнения и радости его судьбы.
Он совсем не ожидал, что в этот вечер на его проводы соберется столько народу.
Глаза Софи Карамзиной были заплаканы.
Его окружили друзья, и для него заиграл Виельгорский, музыку которого он всегда любил. Его охватило глубокое волнение, и, чтобы скрыть его, он отошел к наполовину открытому окну и слушал Виельгорского, глядя на Летний сад, еще не одевшийся зеленью, на проплывавшие над ним легкие облака. Но когда женщина в легком светлом платье подошла к роялю и запела его стихи, кем-то уже положенные на музыку, он не мог больше сдерживать себя, и слезы радости и грусти, умиления и благодарности наполнили его глаза.
После ее пения все стали просить, чтобы он прочел на прощание что-нибудь свое – то, чего еще никто не знал.
Из кармана своего скромного тенгинского мундира он вынул листок бумаги.
– Этого уже действительно никто не знает, потому что я написал это только сейчас, здесь, слушая музыку Виельгорского.
«Тучки небесные, вечные странники», – начал он, но вдруг умолк и, быстро свернув вчетверо листок, вложил его в худенькую руку Софи: – Я плохо прочту. Но я буду думать, что я все еще с вами, здесь, – сказал он, – если вы прочитаете это, когда я буду уже на Московской дороге.
* * *
Ах, эти тройки и долгая дорога с верстовыми столбами, то поливаемая дождем, то занесенная снегом, то палимая солнцем! Сколько раз уносили его тройки, уводили бесконечные дороги в дальний путь, а сердце звало назад и не хотело расставаться с тем, что оставалось позади!
Тройка уже несла его по ровной дороге, а в гостиной Карамзиных были открыты большие окна, выходившие на Летний сад, и Софи Карамзина подошла к самому окну, чтобы легче было разобрать оставленные Лермонтовым стихи.
Должно быть, уже совсем наступил вечер, потому что она сказала:
– Прикажите, мама, чтобы принесли свечи. Сумрак мешает мне разобрать эти строчки.
Но и после того, как принесли свечи, она все еще держала этот листок перед глазами и что-то все еще застилало ей глаза.
Потом она вытерла их платочком и прочла:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
– Мама, это прекрасно, не правда ли? – спросила Софи, останавливаясь.
– Читай дальше, Софи!
Софи дочитала до конца.
– Да, это прекрасно, – повторила, прерывая царившее молчание, ее мать.
– Какую чудесную музыку можно бы написать на эти слова! – сказал Виельгорский.
Софи молча смотрела в окно.
– Мама, – спросила она, помолчав, – скажите мне: вы уверены, что он вернется?
– Я надеюсь на Жуковского, – ответила Екатерина Андреевна.
– Как это ужасно! – продолжала Софи, точно отвечая самой себе. – У России отняли Пушкина, а теперь хотят – я знаю это – отнять и Лермонтова!
. . . . . . . . . .
Тройка почтовых коней бежала по Московской дороге.
А над дорогой, над равниной, поросшей соснами, проплывали с севера на юг легкие облака – «вечные странники», открывая чистое весеннее небо с бледным лунным серпом.
ГЛАВА 37
Нет, до чего же уютна была в эту весну Москва! С каким удовольствием он смотрел, как на майском солнце отогревались ее особняки, окруженные садами, а еще голые деревья приветливо махали весне ожившими мягкими ветками! В высоких пролетках, на верховых лошадях и в открытых колясках можно было видеть знакомых москвичей, уже сбросивших тяжелые шубы и одетых по-весеннему.
Блестели цилиндры, синели, поблескивая золочеными большими пуговицами, весенние пальто модного темно-лазурного цвета, и развевались от теплого ветра прозрачные вуали на маленьких шляпках амазонок.
Дом на Малой Молчановке, где когда-то жили они с бабушкой, перекрасили в белую краску. В скворечник прилетели скворцы. А на лопухинском дворике уже пробивалась свежая травка, бегали дети, играя в прятки. Был пуст в это время дом Лопухиных, и Сашенька Верещагина жила в чужих краях.
Грустно было смотреть на опустевшие дома с окошками, замазанными мелом или плотно завешенными тяжелыми складками штор.
Над тихим переулком звонили в свой час колокола и перекликались на разные лады голоса разносчиков.
– Вот уголь! Уголь!.. – зычно хрипел бас с тарахтящей телеги.
И звонко из-за угла зеленого забора отвечал ему тенорок:
– Редиска молода-а-ая!..
И верещали над головой скворцы.
Как непохоже все это на подтянутый, чистый и просторный, строгий в своей красоте Петербург!
Лермонтов побродил по знакомым переулкам, посмотрел издали на Собачью площадку, усеянную детьми, прошел мимо дома Соболевского, где когда-то останавливался Пушкин.
В Английском клубе кончили топить печи, и в широко открытые окна вливался нагретый солнцем воздух, просушивая залы.
Да, опустела Москва, поразъехались друзья… К счастью, не трогались еще с мест московские писатели. И в первый же вечер Лермонтов отправился к Павловым, узнав еще в Петербурге, что они на лето обычно оставались в городе. Он был глубоко тронут тем радушием, с каким встретили его Николай Филиппович и Каролина Карловна.
– Привезли «Героя нашего времени»?
С этими словами обратился к нему Павлов, не дождавшись даже, пока Лермонтов снимет шинель.
– А вы дадите мне свои новые повести? Я знаю, вышли в свет и «Ятаган» ваш и «Маскарад». У меня тоже был свой «Маскарад», но с ним вышло иначе. А «Ятаган» ваш прелесть, недаром Пушкин вас хвалил.
Лермонтов отвечал ему, все еще стоя в передней.
Но Каролина Карловна уже спешила ему навстречу, и скоро за неизбежным в Москве чаем начались разговоры о литературных новостях. И как об одной из новостей рассказал Лермонтов о перемене судьбы своей и о новой ссылке.
– То-то мне сразу показалось, что на вас форма совсем другая, – грустно сказала ему хозяйка. – Да ведь не мастерица я полки-то разбирать, точь-в-точь как грибоедовская героиня. Кстати, вы теперь опять увидите, наверно, в Цинандали Нину Александровну Грибоедову… Мы будем ждать с нетерпением трилогию вашу, о которой вы говорили нам еще в тридцать восьмом году, и описание трагической гибели Грибоедова.
– Война с Персией должна у меня быть в последней части, а мне бы хоть как-нибудь до первой добраться. Да и не уверен я, что в этот раз попаду в Кахетию. Я ведь в Тенгинский полк.
– Как? В Тенгинский? – переспросил Николай Филиппович. – О нем привозят офицеры, возвращаясь с Кавказа, не очень-то хорошие отзывы. Смотрите, Лермонтов, берегите себя, потому что вас там беречь не станут.
– Я уверен в этом, – ответил Лермонтов и переменил разговор, попросив Каролину Карловну прочесть что-нибудь из ее новых переводов русских поэтов на немецкий или французский язык.
– Я теперь вашу «Думу» хочу перевести, – сказала она. – Это замечательное по силе и глубине, по зрелости мысли стихотворение! Но наши славянофилы на вас сердиты за него – и Хомяков и даже немного Погодин. Говорят, что это Чаадаев заразил вас своим отношением к России.
– Чаадаев? – быстро переспросил Лермонтов. – Я чту его высокий ум, но никогда не разделял его взглядов на Россию, и «Дума» моя обращена не ко всему нашему поколению, а только к представителям той молодежи, которой я был окружен и которая почему-то носит лестный титул «золотой». Какая разница с уходящим уже поколением действительно золотых, великих людей! Борцов!
* * *
– Михаил Юрьевич, ну пусть вы другого толка, – примирительно сказал явившийся к чаю Самарин, сразу приступив к делу. – Но зачем вам эти «Отечественные записки» и этот Краевский, когда вы наш? Печатайтесь в «Москвитянине», вы же москвич и не можете променять нас на холодный Петербург!
– Вы забываете, Юрий Федорович, что я уже и не москвич и не петербуржец. Через четыре дня я еду на Кавказ, а скоро ли вернусь, да и вернусь ли вообще, неизвестно.
– Вернетесь, и скоро, – уверенно ответил Самарин.
– Если бы вы знали, как я мечтаю об отставке и как был бы счастлив вернуться в Москву совсем! Но я уже ни о чем просить не могу. Даже Василий Андреевич Жуковский не может больше помочь, – закончил Лермонтов со вздохом.
Поздним вечером того же дня в доме у Павловых было у него сражение с Погодиным. Добродушный Николай Филиппович веселился, слушая, как все горячее и горячее нападал Лермонтов и как, слабея в неравном бою, отступал Погодин перед этим совсем еще молодым человеком с пламенной душой и зрелой мыслью.
С легкой и острой иронией он так высмеял утверждение Погодина, что цель истории русской – быть хранительницей общественного спокойствия, что даже Каролина Карловна, забыв о своей головной боли, смеялась вместе со всеми.
– Вы должны сдаться, Михаил Петрович, – заявила она Погодину. – Лермонтов побил вас окончательно.
– Ну, голубчик, – сказал Павлов, обнимая Лермонтова, – если вы будете так же сражаться и с чеченцами, им плохо придется!
– Огонь направлять он умеет, это я признаю, – ответил Погодин, прощаясь. – Я на него вот Хомякова напущу. Он ему докажет, что, не в пример Европе, Россия как не знала, так и не будет знать революций!
– А это покажет ее будущая история – ваша «хранительница общественного спокойствия», – сурово сказал Лермонтов. – И может ли быть, чтобы «страна рабов, страна господ», «немытая Россия» не узнала революции?!
– Как, как вы говорите? – встрепенулся Погодин. – Хорошенькое обращение к отчизне: «Немытая Россия»!
– Постойте, Михаил Юрьевич, постойте, – вмешался Павлов. – Мое охотничье чутье подсказывает мне, что «страна рабов, страна господ» – строчки из стихотворения. Если вы его нам не скажете – значит, вы плохой друг.
– Михаил Юрьевич! Мы ждем!..
Лермонтов смеющимися глазами посмотрел на Погодина:
– Прочту, прочту кусочек, но только с тем условием, что Михаил Петрович напечатает его в «Москвитянине».
– Почту за честь, – быстро сказал Погодин. – Давно жду!
– Ну, слушайте, Михаил Петрович!
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
– Боже правый… – всплеснул руками Погодин. – Столько времени ждать ваших стихов для страниц «Москвитянина» и, наконец, получить такие, каких печатать нельзя! Невозможно! Потому что это и не стихи, а какая-то бомба, от которой может взлететь на воздух и «Москвитянин» и все иже с ним!
Смеялись Павловы, и весьма растерянный ушел Погодин.
После этого Лермонтов был удивлен, получив от Погодина приглашение на торжественный традиционный обед по случаю именин Гоголя, жившего у него в доме. Но, узнав, что приглашение исходило от самого Гоголя, стал с волнением ждать этой встречи – встречи с писателем, чье имя было тесно связано с бессмертным именем Пушкина.