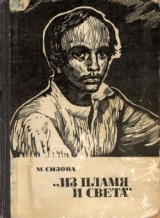
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 23
Столыпин шел по аллее.
Ему навстречу, держа за руку маленькую девочку, тащившую за собой большую куклу, быстро шла молодая женщина в наброшенном на голову легком кружевном шарфе. Ее походка, поворот ее маленькой головы, все ее движения, тревожные и быстрые, точно она, волнуясь, искала кого-то, поразили Столыпина и сходством с кем-то знакомым и какой-то особенной легкостью.
Она повернула голову в его сторону, взглянула и остановилась.
– Варвара Александровна! Это в самом деле вы? Я не узнал вас сразу, в чем прошу прощения.
Он с нежностью поцеловал ее руку и посмотрел на девочку, которую она вела с собой.
– Боже мой, какое счастье, что я вас встретила! – с трудом переводя дыхание, торопясь и волнуясь, сказала Варенька. – Я ничуть не удивляюсь, что вы не узнали меня… Мы так давно не видались! У меня уже выросла дочь за это время. Вы видите?
Она с милой гордостью указала ему на ребенка и, все так же торопясь и еще больше волнуясь, сообщила ему, что они с мужем здесь всего один день, проездом на север, домой. И что ищет она Мишеля, потому что узнала, что он здесь был, и боится – ах, как ужасно боится! – что он уже уехал куда-нибудь отсюда.
– Вы можете увидеть его сейчас же у окна здешней ресторации, где он сидит в полном одиночестве.
– Это правда? О, благодарю вас!
* * *
Страница была заполнена строчками. Он уронил на этот исписанный лист бумаги свои смуглые руки и сидел не шевелясь, глядя на далекие горы. Вдруг чья-то рука с узкой ладонью легла на его руку. Он поднял глаза и увидел Вареньку.
Легкое кружево падало прозрачными складками на ее плечи, слегка затеняя ее изменившееся, осунувшееся лицо. Но она смотрела на него с выражением такого сияющего счастья, что он забыл все слова.
Он только смотрел в ее лицо, держа в своей руке ее узенькую ладонь.
– Варенька, да неужели это в самом деле не сон?
– И я спрашиваю себя о том же.
Она долго всматривалась в его лицо.
Потом облегченно вздохнула и села напротив него. Нет, в лице его не появилось ничего чужого: это был все тот же Мишель, друг ее юности, ее любимый поэт.
Торопясь и волнуясь, она сказала ему, что она здесь на один день. Она хотела знать о нем все: и надолго ли он здесь, и почему это на него так сердятся в Петербурге, и что нужно сделать для того, чтобы его вернули, и неужели его опять пошлют воевать, и думал ли он когда-нибудь о ней за это время, и если думал, то что именно…
– Сейчас, Варенька, я на все отвечу, – сказал он, наконец, и посмотрел на маленькую девочку, которая уселась в кресло и, не обращая на них никакого внимания, занялась своей куклой.
– Это моя девочка, которую вы видели совсем маленькой. Боже мой, как давно это было! Отвечайте же, Мишель, скорее, скажите обо всем, что с вами было и на что вы надеетесь, потому что я пришла сюда…
Она на мгновенье остановилась и, открыто встретив его внимательный взгляд, просто сказала:
– Я пришла сюда потихоньку, потому что не могла бы жить больше, не увидав вас еще раз!
– И может быть, последний, – прибавил Лермонтов тихо.
– Последний?!. Разве это возможно?
– Это очень возможно, Варенька, потому что я обязан убивать горцев, а они будут стараться убить меня, и я должен признаться, что их желание справедливо и что мне следовало бы предоставить им эту возможность. Но я же не говорю, что я хочу этого, – сказал он, улыбнувшись. – Я люблю жизнь и хотел бы сделать бессмертным каждый день, если бы… если бы я был немного счастливее.
– А вы не чувствуете себя счастливым?
– А вы?
Варенька помолчала и посмотрела на свою маленькую дочь.
– Вот это мое счастье, – сказала она шепотом, – и еще… еще воспоминания, и мысли о вас, и музыка, и ваша растущая слава, которой я так горжусь!
Мне нужно уходить, но прежде чем я уйду, дайте мне слово, Мишель, что вы будете беречь себя. Если б вы знали, как я боюсь за вас! Как часто ночью просыпаюсь и думаю о том, что вы ранены, что вы убиты, что лежите окровавленный в какой-то пустыне! Скажите мне, вам очень трудно… очень страшно на этой войне?
– Нет, это не то слово, страха я не испытывал и, право, так привык к пулям, что больше внимания обращал на комаров. Трудно – да. Эта так называемая «служба» бывает часто кромешным адом. Таким адом была битва при реке Валерик, и вы должны простить меня за то, что поэму об этой страшной битве я посвятил вам. Это потому, что я ждал тогда смерти и думал о вас.
– Благодарю вас за «Валерик», благодарю вас за то, что вы думали обо мне тогда. Благодарю вас за то, что вы не забыли меня, и больше… больше я не спрашиваю ни о чем. Я счастлива и этим. А теперь прощайте!
– Варенька! Друг мой, подождите еще одну минуту! Я должен вам это сказать: я был не прав, когда говорил вам, что счастья не может быть. Я знаю теперь: оно пришло бы, если бы вы были со мной. Останьтесь, не уходите больше никуда! Вы же знаете, что вы моя и что, кроме вас…
Она положила руку на его губы и медленно покачала головой:
– Теперь слишком поздно, Мишель. Для жизни слишком поздно! Сердцем же я с вами… всегда.
– Боже мой, – сказал он, – что это я говорю?! Куда зову вас? Ведь я опять буду в том же аду, пока не придет и мой черед!
– Нет, нет! Судьба не может быть так жестока ко мне! Ведь я прошу у нее так немного! Я прошу только о том, чтобы судьба сохранила вас, а вы – память обо мне!
Она поцеловала его в лоб и взяла за руку свою девочку.
– Неужели мне нельзя проводить вас?
– О нет, Мишель, это невозможно! – испуганно ответила Варенька. – Совсем невозможно!
– И нельзя посмотреть еще раз на ваше лицо?
– Это можно.
Варенька повернула к нему голову, и Лермонтов долго смотрел в ее лицо.
* * *
Утром горничная Вареньки подала ей письмо, которое принес посыльный.
– Его почерк почти не изменился, – прошептала Варенька, вскрывая конверт, – как и он сам.
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь сочилася моя.
Она дочитала до конца и долго сидела молча, опустив руки и устремив куда-то перед собой неподвижный, потемневший взор.
– Вы так бледны сегодня, как будто чем-то расстроены, – сказал Николай Федорович Бахметев, усевшись в карету рядом с женой.
– О нет, – сказала Варенька, – я очень спокойна… и совершенно счастлива.
– Я надеюсь, – ответил Бахметев слегка обиженным тоном и велел кучеру трогать.
ГЛАВА 24
Июльское солнце заливает Пятигорск зноем и светом. В ресторации почти весь день пусто, и только из открытых окон бильярдной слышится по временам стук шаров.
В воскресенье – это было 13 июля – душное марево зноя стояло над городом с самого утра.
Вдали за горами медленно ползли облака и потом расплывались в туманную пелену.
Где-то за вершинами Бештау медленно собирались тучи.
К вечеру они плотно закрыли сначала Бештау, а потом и Машук. В большие, открытые во всю ширь окна верзилинского дома можно было видеть, как где-то далеко-далеко вспыхивали беглые зарницы.
Вечер не принес прохлады, и Надин Верзилина решительно объявила, что в такую духоту у нее нет ни малейшего желания куда-то идти и лучше потанцевать дома. Она попросила князя Трубецкого:
– Вы нам сегодня сыграете, хорошо?
Трубецкой поклонился и сел к фортепьяно.
– Чем прикажете открыть бал? – улыбаясь, спросил он Надин. – «Польским», как на придворных балах, или вальсом?
– Вальсом, конечно, вальсом! – весело крикнула она. – Впрочем, подождите! – Надин остановилась и оглядела гостей. – Я так и знала: Мишеля еще нет! Всегда по воскресеньям приходит за нами, а сегодня как нарочно его нет! Нельзя же начинать наш бал без Мишеля!
Мартынов стоял у фортепьяно.
– Как хороша ваша новая черкеска, Николай Соломонович! – проговорила Мария Ивановна, усаживаясь в кресло, чтобы посмотреть на танцы.
– Я удивлен! – воскликнул Мартынов. – Вы обратили внимание на меня, человека, не блещущего никакими талантами. В последнее время, после того как в вашем доме появились гении, моя скромная особа перестала вас занимать, а равно и ваших дочерей.
– Это вы на Мишеля намекаете? – простодушно спросила Мария Ивановна. – В таком случае вы не правы. Мишель сейчас, конечно, в центре нашего внимания, и, можно сказать, им интересуется весь Пятигорск. Но это потому, что он здесь редкий гость и скоро опять отправится на войну, и, кроме того, он всеми признан нашим лучшим поэтом. А ему всего двадцать шесть лет! Ах, что за чудный возраст!
– Я замечаю, Мария Ивановна, что, когда вы говорите о Лермонтове, у вас даже меняется выражение лица.
– Бог с вами, Николай Соломонович, – Мария Ивановна укоризненно покачала головой. – Лучше уж вы, голубчик, замечайте то, что есть на самом деле, а не то, что вы себе вообразили. Вот и мои дочери! Пора вам танцевать, хотя просто не представляю себе, как можно танцевать в такую жару. Мне и без танцев нынче дышать нечем.
А как вам нравятся их туалеты? Не правда ли, как мило? Особенно эти цвета – белый и голубой – идут моей Надин!
– Она прелестна, как всегда. Но почему сегодня такое обилие белого и голубого? Уж не являются ли эти цвета знаком какого-нибудь тайного общества? – иронически усмехнулся Мартынов.
– Какое тут тайное общество! – добродушно засмеялась Мария Ивановна. – Просто эти два цвета – любимые цвета Мишеля, вот все дамы наши и нарядились так, чтобы ему понравиться. Ну и мои дурочки – первые затейницы.
– Это великолепно, – сквозь зубы проговорил Мартынов.
– Алексей Аркадьевич! Где же ваш кузен? – спросила Эмили появившегося в дверях Столыпина.
Столыпин пожал плечами.
– Я думал найти его здесь, потому что дома его кет.
– Ну что ж, Лермонтов может быть доволен, – сказал с усмешкой Мартынов, – пятигорские дамы так мечтают о его расположении, что даже оделись по его вкусу.
Эмили сказала с упреком:
– Ах, мама, ну зачем говорить такие пустяки! Вы всем рассказали об этой басне!
Но ее сестра весело заявила:
– А я не скрываю! Мы оделись так для Мишеля, хотя знаем, что ему это совершенно безразлично, и все же не сердимся на него. Но ждать его больше не будем. Вальс начинается!
– Valse s'il vous plâit! – возгласил по всем правилам Трубецкой, и пары закружились.
* * *
Мартынов подал руку Надин.
– Я считал своим долгом предупредить вас.
– За что вы его так не любите? – пожимает плечиком Надин. – Ведь он ваш старый товарищ!
– Он перестал им быть с тех пор, как я узнал его образ мыслей, – говорит Мартынов. – Я вовсе не желаю ему зла, я только хочу вас предостеречь – вот и все.
– Благодарю вас, но мне не грозит никакая опасность!
В дверях появляется Лермонтов – запыхавшийся, бледный, усталый.
– А, пропавший явился! – говорит хозяйка. – Кто же это вам позволил так опаздывать?
– Опоздавшие будут наказаны! – весело кричит Надин.
– Помилуйте, Надин, ведь я из Железноводска примчался! Я туда уже с неделю как кочую, ванны брать. И опоздал только на первый вальс, зато достал вам эти розы. Раздайте их, Надин, всем дамам, и давайте покружимся, я надеюсь на второй вальс.
– Ты задержался в Железноводске? – удивляется Столыпин.
– Нет, Монго, в других местах.
– Николай Соломонович, ты великолепен! Если бы я был дамой, я непременно влюбился бы в тебя. Главное – какой кинжал! Твой вид поражает воображение.
Мартынов резко поворачивается к нему спиной и отходит от рояля.
– Не шути над ним больше, Мишель, он совсем не так добродушен, как ты думаешь, – тихо говорит Столыпин. – А я пойду домой и, вместо того чтобы танцевать в такую духоту, лягу спать.
Лермонтов приглашает Надин.
– Нет, нет! – говорит она. – Сначала платите за опоздание! Стихами! Стихами! Скажите сейчас же экспромт!
– Ну разве я способен сейчас на экспромт? Я устал, я хочу холодной воды, и потом…
Надежда Петровна,
Отчего так неровно
Разобран ваш ряд,
И локон небрежный
Над шейкою нежной…
На поясе нож.
Он на минуту останавливается:
– C'est un vers qui cloche.[47]47
Вот стих, который хромает (франц.).
[Закрыть]
Вы прощены! – говорит громко Мария Ивановна. – И сейчас я велю дать вам холодной воды и мороженого.
– Благодарю! – весело отвечает он. – А потом немедленно вальс с Надин!
– Ты опоздал, – громко говорит Мартынов, – он уже обещан мне!
– Нет, я не буду танцевать вальса ни с вами, ни с Лермонтовым, – неожиданно отвечает Надин и выходит на балкон.
– Ну что же, Николай Соломонович, – обращается к нему Лермонтов, – у нас с тобой одна судьба: обоих Надин оставила. Я думаю, между нами говоря, – добавляет он вполголоса, – что ее пугает твой кинжал. Она смотрит на тебя с испугом.
– Не нахожу этого, – резко отвечает Мартынов, – Я замечаю в ее глазах и другое, более теплое чувство.
– А ты не думаешь, что это действие теплых вод?
– Что за бес в этом человеке! – вскрикивает Мартынов и отходит от него.
– Перестаньте дразнить его, – говорит Эмили. – Он сердится серьезно.
– Пустяки, Роза Кавказа, пустяки! – принимаясь за мороженое, беззаботно отвечает Лермонтов. – Мы через полчаса уже снова будем друзьями.
Мария Ивановна что-то шепчет своей племяннице, приехавшей из Киева.
– Ах, ma tante, он чудный! – восторженно шепчет Машенька.
– Сейчас я вас познакомлю, Машенька!
– Нет, нет, тетушка, мне страшно!
Но Мария Ивановна смеется и зовет Лермонтова.
– Мишель! – кричит она. – Подите-ка сюда, я познакомлю вас с моей племянницей! Она приехала из Киева. И знает наизусть ваши стихи!
В большие открытые окна видны темное небо и кое-где тусклые звезды, прикрытые тонкой мглой. Где-то там, за невысокими предгорьями, над серебряной бахромой далеких горных вершин, собираются тучи.
– Так жарко, что я больше не танцую! Объявляется перерыв! – Надин падает в кресло и обмахивается маленьким веером. – Нет, в такую жару лучше всего стихи слушать! Попросим Лермонтова! Пусть читает!
– Но, право же, – говорит он, – я очень не люблю читать свои стихи. Кроме того, мои последние стихи омрачат веселье, а в моей голове сейчас нет других.
– Все равно! – решительно заявляет Надин. – Сегодня здесь повелевают дамы. А мы хотим вас слушать.
– Молодые поэты, – говорит Мартынов, – как певицы, любят, чтобы их просили.
– Ну, что за вздор! – устало отзывается Лермонтов.
– Николай Соломонович, – вспоминает Эмили, – вы говорили, что у вас тоже есть стихи. В таком случае мы сначала послушаем вас. Читайте немедленно!
– Читайте, читайте!
– Да, – небрежно ответил Мартынов, – и я когда-то писал стихи, в юности. Но потом, поумнев, бросил.
– А может быть, Николай Соломонович, – крикнул ему Лермонтов, – это твоя муза поумнела и бросила тебя?
– Я прошу вас не забываться!
– Да рассадите их, как петухов, в разные стороны! – вступилась хозяйка. – Вечно ссорятся друг с другом! Мишель, мы ждем ваших стихов без всяких возражений.
– Я предупредил вас, что мои сегодняшние стихи невеселые. И к тому же все это сон.
– Сон? – переспросил только что появившийся в зале Васильчиков. – Это интересно! Кто же его видел? Ты?
– Нет, – очень серьезно ответил Лермонтов, – одна женщина.
– Ну, послушаем, что ей снилось.
– И снилась ей, – тихо начал Лермонтов, – долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.
Нет, больше не могу!..
– Это, вероятно, лучшие из ваших стихов, я чувствую! – сказала Мария Ивановна, вздохнула и добавила: – Вы непременно в следующий раз дочитаете это мне до конца!
– Непременно, – сказал он рассеянно и подошел к окну. – Неужели же, наконец, соберется гроза? Вот это было бы прекрасно! Я должен признаться, что если бы мне пришлось умирать во время грозы, мне было бы жаль расстаться с жизнью.
– Это, кажется, Байрон уже сказал! – резко сказал Мартынов.
– Это кажется тем, кто его не читал. – И, наклонившись к только что приехавшему в Пятигорск и впервые появившемуся у Верзилиных Левушке Пушкину, показал ему тучную гостью в ярко-розовом платье.
Признанный остряк и шутник, Левушка Пушкин немедленно отозвался.
Томно склонив голову набок и стараясь придать своему взгляду, обращенному на Надин, мечтательное выражение, Мартынов остановился около фортепьяно, скрестив руки на груди.
– Трубецкой, милый, сыграй этот вальс еще раз сначала, – умоляющим голосом попросил Лермонтов, – ведь этакая прелесть этот грибоедовский вальс!
Надин слушала, стоя у фортепьяно. В эту минуту взгляд Лермонтова упал на Мартынова, который смотрел теперь на Эмили, положив руку на рукоять своего кинжала.
– Роза Кавказа, берегитесь! На вас смотрит дикий горец с огромным кинжалом!
Мартынов услышал. Побледнев, с искаженным от злобы лицом, он быстро подошел к Лермонтову и проговорил, отчеканивая каждое слово:
– Я, кажется, уже просил вас оставить ваши шутки в присутствии дам! – и удалился так быстро, что Лермонтов не успел ничего ответить.
Эмилия Александровна посмотрела на Лермонтова и тихо, покачав головой, сказала:
– Язык мой – враг мой!
– Ничего! – улыбнулся ей Лермонтов. – Мы быстро помиримся.
Лермонтов вышел последним. Он остановился на маленьком крылечке и долго всматривался в темный горизонт. Когда он сошел со ступенек, то увидал Мартынова, стоявшего на дороге.
– Я вас жду, – негромко сказал Мартынов.
– Меня? – удивился Лермонтов. – В чем дело?
– Дело в том, что ваши шутки и ваше поведение перешли все границы дозволенного.
– С каких это пор ты стал говорить мне «вы» и читать нравоучения?
– С тех пор, как считаю вас человеком опасного образа мыслей и моим личным врагом.
– Ах, вот что! – устало ответил Лермонтов, медленно вытирая лоб платком. – Ну что же, Николай Соломонович, с врагами надо сводить счеты, – ты, верно, это хочешь сказать?
– Вы угадали. Именно этим я и хочу заняться, и нынче же ночью, если успею. Буду иметь честь прислать к вам своих секундантов для выяснения условий.
– Очень хорошо. А мои секунданты будут иметь честь принять их.
Мартынов поклонился.
– Мартыш! – окликнул его Лермонтов.
Мартынов остановился и, не глядя на Лермонтова, ждал молча.
– Нельзя ли, чтобы уж после грозы? Жаль будет, если один из нас ее уж не услышит!
Но Мартынов только пожал плечами и ушел.
Тяжелые тучи встали над домами спящего Пятигорска. Далеко-далеко над окутанными туманом предгорьями пробежала зарница.
ГЛАВА 25
В эту ночь Алексей Аркадьевич вернулся домой один.
– Михаила Юрьевича, – сказал он, – нынче ждать не надо, он там, в гостях, остался ужинать.
А Ваня все-таки ждал: кто его знает, может, и спросит чего-нибудь Михал Юрьич?
Ваня вставил в настольные канделябры новые свечи – может, еще часок-другой и посидит Михал Юрьич за столом, поставленным так, как он любит: у самого окна.
Бело-розовые лепестки цветущих черешен, которые облетали в первые дни их приезда, падали прямо на стол. Михал Юрьич даже не велел, бывало, их трогать.
Теперь они давно отцвели, и ягоды сошли, а сколько было черешни в это лето! Михалу Юрьичу и подавать ее не приходилось – рвал прямо с ветки, свисавшей в окно.
И еще любит Михал Юрьич сидеть на подоконнике, свесив ноги в сад.
Поджидая его, Ваня открыл балконную дверь, приготовил халат и туфли.
И (так он и знал!) нашел под столом бумажку со стихами: Михал Юрьич обронил.
Он поднял ее и слово за словом разобрал:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
– Ведь до чего хорошо! Чисто песня! – проговорил он шепотом и принялся разбирать дальше, но строчки все были так перечеркнуты, что он разобрал только четыре последние:
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
«Только здесь дуб не так шумит, – подумал он. – Вот в Тарханах у нас – это действительно шумят дубы!»
Отдать надо нынче же этот листок Михал Юрьичу. Да хорошо бы спросить, что вот, дескать, Михал Юрьич, ежели отпустит нас царь, поедем тогда в Тарханы или как?
Ну вот и Михал Юрьич! Чуть не под утро вернулся – говорит, на Машук ходил ночью гулять. И как только не боится!.. Чудной какой-то пришел, как именинник. Все хвалит, всем доволен, даже груши похвалил, а они как камень жесткие. Радуется всему: и что дверь на балкон открыта и что в саду цветы пахнут, ну точно в первый раз все увидал! Про Алексея Аркадьевича спросил и не лег спать, а сел свои бумаги разбирать и тихонько песню поет.
Лермонтов поднял голову. С балкона шли Глебов и Васильчиков.
– Мы не постучались, Мишель, – сказал Глебов, – чтобы никого не пугать, и прямо из сада через ограду – на балкон.
– Входите, входите, я ждал: садись, князь Ксандр, сейчас покурим. Ваня, трубки! И там где-то кахетинское было!
Когда Ваня вышел, Лермонтов тщательно закрыл за ним дверь и уселся на подоконник, лицом к тучам, свесив ноги в сад.
– Ну, я вас слушаю!
– Ты что же это, так и будешь говорить о деле? – с усмешкой спросил Васильчиков.
– А что? Мне так очень хорошо: и вас слышно и тучи видно. Тучи сегодня все горы закрыли. Как, по-вашему, будет завтра гроза?
– Ей-богу, не знаю, Михаил Юрьевич, не все ли равно? Ты выслушай условия и скажи, согласен на них или нет.
– Конечно, согласен заранее. Об условиях договаривались вы оба – значит, все будет как полагается.
– Мы надеемся, что да, Михаил Юрьевич, – смущенно проговорил Глебов. – Вот, слушай, как мы решили: дуэль, по требованию Мартынова, пятнадцатого, послезавтра, в семь часов вечера. Место найдем у подножия Машука, где-нибудь около той площадки, куда недавно пикником ездили, помнишь?
– Помню. Дальше?
– Последний барьер на десять шагов, – заканчивает за Глебова Васильчиков. – Сходиться по команде «марш».
– Все ясно.
– Мы с князем уверены, – не очень уверенно добавляет Глебов, – что эта дуэль кончится ничем.
– Обменяетесь для соблюдения приличия парой выстрелов, – добавляет Васильчиков, – и поедем все ужинать в колонию к Гашке. Мы уж и столик заказали.
– Ты серьезно так думаешь? – Лермонтов посмотрел в бесцветные глаза Васильчикова. – А что говорит Мартынов?
Васильчиков ответил не сразу.
– Он не согласен на примирение.
– Вот как!
– Я пытался его уговорить, – сказал Глебов, – но он ходит по комнате, скрестив руки, как Наполеон какой-нибудь, и ничем его не проймешь. Но ты, Михаил Юрьевич, непременно уезжай пораньше утром в Железноводск – с глаз долой, а мы тут без тебя еще раз постараемся Мартынова образумить и тебе в Железноводск дадим знать. Мартынов упрям, но в конце концов и ему эта дуэль не нужна всерьез-то! Так, ради эффекта вызвал.
– Ну, что ж поделаешь! Значит, стреляемся с Мартышкой… Ты мне скажи, Миша, вот что: ежели он танцевать без кинжала не приходит, так сколько же он их наденет, собираясь меня убить? А я не могу!..
– Что ты сказал? – обернулся к нему Михаил Глебов.
– Нет, ничего, это я так, про себя.
– Ну, тебе нужно выспаться и быть бодрым. Идем, Миша!
Васильчиков встал и, сухо поклонившись, направился к балкону.
Глебов, проходя мимо письменного стола, остановился и взглянул на лежащие на нем листы.
– Неужели ты писать собираешься, Михаил Юрьевич?
– А что?
– Да не знаю, кто еще, кроме тебя, мог бы перед дуэлью писать стихи.
– А я за час до дуэли мог бы писать, – весело сказал Лермонтов. – Вот видишь ли, здесь я начал…
– Ну, если ты начал говорить о стихах, то не скоро кончишь, – прервал его Васильчиков. – Я пойду, – сказал он Глебову. – Ты догоняй меня, если не задержишься. А тебе выспаться надо, Михаил Юрьевич!
– Завтра в Железноводске успею! – отозвался Лермонтов, разыскивая что-то среди листов. – Вот смотри. Здесь в нескольких строках – план будущей работы моей, о которой я все время думаю.
– Новая поэма? – спросил Глебов.
– Нет, проза, дорогой мой, чистейшая проза! Трилогию буду писать из, нашей русской истории.
– Вот как! – отозвался рассеянно Глебов, стараясь не думать о предстоящей дуэли.
– Да нет, ты послушай! – уже увлеченно заговорил Лермонтов. – Я задумал целых три романа, исторических, обнимающих собой огромный период из жизни России и по времени и по важности разыгравшихся событий. Трилогия должна рассказать и о Пугачевском восстании, о времени Екатерины, и об Отечественной войне с французами в двенадцатом году, и, наконец, о нынешней кавказской войне. Ее я порядочно узнал за последние годы, и не только как поэт. И очень хочу я показать роль Грибоедова в кавказских событиях! Но во всех трех романах хочу дать того героя, о котором у нас очень мало говорят, – народ наш. Ну, что ты скажешь? И как ты думаешь, – горячо спросил он, – справлюсь я с таким большим полотном?
– Я уверен в этом. – Глебов быстро пожал ему руку. – Я опять покороче – через заборчик. Итак, завтра уезжай в Железноводск!
– Ваня, – тихо сказал Лермонтов, – ты вино не уноси!
– Слушаю, Михал Юрьич.
– Налей мне!
Взяв наполненный Ваней стакан, он в раздумье спросил:
– Ты мне вот что скажи: как тебе Николай Соломонович, нравится?
– Я так полагаю, – с расстановкой ответил Ваня, – что для дамского полу они занимательны… черкески это всякие, кинжалы… Кому и занятно!
– А как, по-твоему, может он меня убить?
– Сохрани бог! Это за что же?
– А вот смеюсь я над ним часто.
– Да нешто за это убивают? А вы и смеетесь не со зла, а так себе, для ради веселья… Сохрани бог!
– Ну, тогда выпей и ты – за мою долгую жизнь!
Лермонтов, улыбаясь, поднял высоко свой стакан.
– Так точно! Многая лета!..
– А еще за то выпьем, что оба мы с тобой любим: за Россию, за родину, за Тарханы наши! И за весь народ!
– Так точно, Михал Юрьич! За Россию, за весь народ. Многая лета!..
Он выпил, поставил стакан и хотел уйти.
– Я тебе уже говорил, кажется: завтра – это будет, впрочем, уж нынче, потому что ночь скоро кончится, – словом, как встану, так в Железноводск уеду, ванны брать.
– Слушаю, Михал Юрьич.








