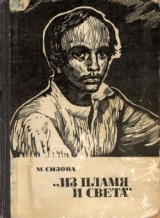
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 29
В редакции «Отечественных записок» весь день было людно и шумно. Журналисты и сотрудники с утра приходили к Краевскому, обсуждая последний, февральский номер журнала, в котором были помещены «Тамань» и «Казачья колыбельная» Лермонтова, расспрашивали о новом, мартовском, который уже готовился к печати.
– Не понимаю, – недоумевал журналист у окна, только что восхищавшийся «Колыбельной», – «Отечественные записки» – вдруг без Лермонтова! Да ведь его произведения – приманка для твоих изданий!
– Так-то оно так, – нехотя ответил издатель. – Да ведь и то сказать, такой успех только у Пушкина бывал.
– Между прочим, Андрей Александрович, – понизив голос, спросил журналист, – сколько ты платишь Лермонтову за строку, если не секрет? Вероятно, так же, как Пушкину Смирдин: строка – червонец?
– Не совсем, – после некоторой паузы смущенно ответил Краевский.
– Меньше? – спросил настойчивый журналист.
– Да, значительно меньше. Дело в том, что Михаил Юрьевич… никогда ничего не берет за свои произведения.
Услыхав такой ответ, журналист громко рассмеялся, потом хитро подмигнул Краевскому и протянул ему свою широкую ладонь.
– Поздравляю, издатель, вы блестяще устраиваете свои дела!
В эту минуту новое лицо появилось в дверях редакции, и взоры всех присутствующих обратились к нему.
– Виссарион Григорьевич?! – вскричал Краевский, удивленно оборачиваясь к вошедшему. – А мне ваш посланный сказывал, что вы опять захворали и доктор велел вам лежать.
– Помилуйте, Андрей Александрович, как могу я лежать, когда вы своею рукой подписываете гранки с этим дрянным пасквилем Соллогуба!
– Да что случилось? – удивился журналист.
– А вот, извольте взглянуть, – «Большой свет», «Повесть о двух танцах»! Здесь граф Соллогуб по заказу императрицы и ее дочерей издевается над Лермонтовым. Только слепой не увидит карикатуры на поэта в его Леонине.
Белинский с гневом смотрел на Краевского.
– Как согласились вы напечатать это?! Неужели вы не видите, что в литературе русской взошло новое светило, появилась звезда первой величины, имя которой – Лермонтов!
– А что же мне делать, дорогой мой Виссарион Григорьевич? – тихо сказал Краевский, когда они остались одни. – Ведь я ночей не сплю от страха и за него, и за себя, и за журнал. Спасать мне журнал надо, спасать!..
ГЛАВА 30
Это была небольшая камера с голыми оштукатуренными стенами и жесткой койкой напротив окна. Окно выходило прямо на стену соседнего дома, и оттого сумерки начинались в этой камере рано.
В хмурые дни начала петербургской весны – в дождливые и снежные дни – даже сторожу, привыкшему к темноте своей каморки, подумалось, что молоденькому поручику, который сидит в камере третьего этажа и который так щедро дает ему на водку, скучновато долго сидеть без света.
Он, кряхтя, зажег сальную свечу в фонаре и понес ее поручику.
Старик решил порадовать его, принеся ему свечу на целый час раньше положенного срока.
Но, отперев дверь и взглянув в камеру, он остановился на пороге и очень сердито сказал:
– Ваше благородие, нешто можно такими делами заниматься? Почитай, третью стенку словами испортили! Придет начальство – увидит этаку срамоту, что я скажу? И чего писать? Раз вам бумага не дадена – значит, так посидеть можно. Сидеть не хочется, взяли да полежали – и милое дело! А то вон гляди-ко: всю стену – только летось мы ее штукатурили – исписали словами, а какие эти слова ваши, нешто я разберу?
Арестованный поручик прервал свое занятие, для которого он, по-видимому, хотел воспользоваться последним светом потухающего дня, и, посмотрев на сторожа и на его фонарь, со вздохом ответил:
– Слова, слова… Ты прав, дед, их слишком много на свете. А вот за фонарь спасибо. С ним все же веселее.
– А то как же!
Сторож поставил свой фонарь на стол и ушел.
Арестованный вынул из-под подушки книгу, подсел к фонарю и так занялся чтением, что не слыхал, как опять отворилась его дверь.
– К вам гость, ваше благородие, – сказал, входя, сторож.
– Гость? – встрепенулся, вскочив со своей табуретки, молоденький поручик. – Впусти его! Вот на тебе, выпей за наше здоровье…
– Да я и так уж маненечко… – неторопливо ответил сторож, охотно принимая то, что ему дали. – Вот они, уж тут. Пожалуйте, ваша милость, только чтобы ненадолго.
В неясном свете, падавшем от тусклого фонаря, виднелось изжелта-бледное, почти белое лицо вошедшего. Глубоко запавшие сверкающие глаза смотрели с выражением растерянности и смущения, и видно было, что еще минута – и он готов будет уйти обратно.
Но Лермонтов так искренне воскликнул: «Боже мой, как я вам рад! Входите, входите, прошу вас!» – что гость шагнул вперед и смущенно проговорил:
– Если я вам помешал, Михаил Юрьевич, или если… вообще не вовремя… то я, ей-богу, не обижусь и зайду в другой раз. Я бы сам и не решился, если бы не Краевский. Ведь это он меня затащил…
– Да что вы, что вы?! – вскричал Лермонтов, пожимая ему руку. – Помните нашу встречу в Пятигорске, у Сатина? – Лермонтов придвинул гостю свой единственный табурет. – Насколько я помню… мне кажется… – Он вдруг доверчиво и просто рассмеялся. – Мы мало хорошего сказали друг другу в тот раз.
– Да… в самом деле… у Сатина, – слегка запинаясь, ответил гость. – У нас был тогда, так сказать, случайный разговор… Теперь я пришел, чтобы исправить эту ошибку. – Он посмотрел вокруг. – Ваше пребывание в этих стенах, ваше положение арестованного я переживаю как оскорбление, нанесенное не только лично мне, но всей русской литературе.
– Ах, что вы это! Садитесь же, прошу вас! – повторял Лермонтов, усаживаясь на свою койку и глядя на своего гостя с такой подкупающей простотой, что тот невольно подумал: «Бог мой, что за обаятельный человек!..»
Белинский сел, и оба пристально и молча посмотрели друг на друга.
– Скажите же, за что вы здесь? – спросил, наконец, Белинский. – Неужели за дуэль с де Барантом?
– Формально за это.
– Не поговорить ли об этом с Жуковским?
– Нет, нет, прошу вас! – быстро сказал Лермонтов. – Он, конечно, все знает. И я сам, как только выйду отсюда, поеду к нему. Я уверен: теперь меня скоро выпустят.
– В это и я верю, – проговорил Белинский, продолжая всматриваться в лицо Лермонтова. – В чтении, я вижу, у вас тут недостатка нет. – Он указал на стопку книг, лежавшую на столе.
– Читать разрешают, вот я и занялся моим любимым Фенимором Купером. Я ведь – не удивляйтесь! – люблю его больше, чем Вальтера Скотта.
– Я вас понимаю. Я сам его очень люблю.
– Рад это слышать, – Лермонтов взял со стола книгу. – Вот откроешь любую главу – и уже все забыл!.. Это удивительное сочетание романтики и в то же время полной и яркой передачи действительности. Я бы сказал, что романы Вальтера Скотта – это чудесные акварели, иногда они напоминают старинный фарфор. Но Купер – это живопись, созданная уверенной мужской рукою. А муза Вальтера Скотта, по-моему, женщина. Ну, может быть, она амазонка, – закончил он, улыбаясь.
Белинский встал и подошел к стене, на которую давно посматривал.
– Хотел я перевести здесь два-три шекспировских сонета, – вздохнул Лермонтов, – да не позволяют писать, не дают ни бумаги, ни чернил. Поневоле к стене прибегнешь.
Он кивнул головой на стенку, покрытую смутно видневшимися строчками.
– Нет! Тут и фонарь не поможет, – Белинский тщетно старался что-нибудь разобрать. – Ничего не вижу! Михаил Юрьевич, как же так можно, батюшка? Ведь этого на стенке не оставят. Ведь забудется, пропадет!..
– Я вам, если хотите, обещаю, – улыбаясь, посмотрел на него Лермонтов, – что постараюсь все это запомнить и для вас записать.
– Не для меня только, а для всей русской литературы.
Вернувшись на свое место, Белинский медленно промолвил:
– Я считаю вас настоящим и единственным наследником Пушкина. А когда это говорит вам человек, для которого Пушкин был полубогом, это, поверьте, немало значит… Теперь я хочу сказать вам о том, что явилось главной побудительной причиной моего прихода. Недавно я пережил глубокий душевный перелом во всех моих устремлениях. В это трудное для меня время я часто думал о вас и слушал всем сердцем мятежный голос вашей лиры.
Он встал, прошелся по полутемной камере и остановился около Лермонтова, откидывая худою рукою прядь волос, упрямо падающую на лоб.
– Я не совсем понимаю… – промолвил Лермонтов, поднимая на Белинского глаза, – каким образом я…
– Подождите одну минуту, – перебил его Белинский, – сейчас вы поймете.
Он прислонился спиной к стене и, скрестив руки, глядя в маленькое решетчатое окошко, откуда сквозь мутное стекло пробивался слабый свет молодого месяца, заговорил с такой сосредоточенной простотой, точно обращался к самому себе, и не просто к себе, а к самой сокровенной глубине самого себя:
– Я проповедовал созерцательный, индийский покой вместо борьбы и примирение с существующей действительностью. Вы об этом знаете.
Лермонтов смотрел в задумчивости на худое, изможденное лицо этого удивительного человека, точно сжигаемого внутренним огнем.
– Разве можно, – спросил он тихо, – живя в России, проповедовать примирение с действительностью?
По лицу Белинского пробежало выражение острой боли. Левая рука судорожно прижалась к груди, точно унимая боль или биение сердца.
– Вот в том-то и дело! – горячо и быстро заговорил он. – Я видел многое и о многом знал – и вот, столкнувшись с философией Гегеля, я потерял на время самого себя. Но заметьте, что это было неправильно понятое гегельянство, совсем неправильно! Его утверждение о том, что все действительное разумно, подлежит иному толкованию.
Белинский говорил быстро, иногда останавливаясь около Лермонтова и опять начиная ходить по тесной камере – от двери к окну и обратно.
– Здесь, в Петербурге, я увидел всю силу темного произвола самодержавия – и ужаснулся всей нашей жизни.
Лермонтов молча слушал этот взволнованный голос, следя глазами за худой, слегка согбенной фигурой Белинского, за его точно светившимся в темноте лицом. Ему казалось мгновениями, что этот человек, ставший ему вдруг близким и понятным, высказывает его собственные, глубоко таимые мысли.
Белинский остановился и потер лоб рукой.
– И вот что я хотел вам сказать. Это – главное… Нет в мире призвания выше призвания поэта, ибо поэзия – это огонь и солнце мировой жизни. Вы понимаете это так же, как и я. Ваше стихотворение «Поэт» исполнено высоких чувств, гражданских и общечеловеческих, которые делают голос ваш в наши дни вечевым колоколом России. А это обязывает ко многому…
Он кончил и, отвернувшись от Лермонтова, подошел к окну. Мутноватый свет высоко поднявшегося месяца, став ярче, упал на его лицо, и Лермонтову, молча смотревшему на него, был хорошо виден тонкий профиль, словно высеченный острым резцом.
– Я вам сказал уже, – тихо продолжал Белинский, – что Пушкин для меня был полубогом. Лира Пушкина звучала на всю Россию. Теперь, без него, звучит ваша. Отсюда великое значение и великая ответственность ваша перед нашим народом и перед всей Россией. Вот то, что я должен был вам сказать.
Он быстрым движением повернулся к Лермонтову и, стоя в своей привычной позе – скрестив руки на груди, молча смотрел в его лицо.
Лермонтов встал и подошел к нему.
– Боюсь, – сказал он, – очень боюсь, что нет во мне всех качеств, нужных для этого. Эту миссию лучше выполнит тот, кто придет после меня.
Белинский сделал протестующее движение. Лермонтов заговорил быстрее:
– Подождите. Выслушайте меня. Я, как мой Печорин, давно уже живу не сердцем, а головой. И без участия, а просто с любопытством – может быть, со строгим любопытством – наблюдаю за самим собою, за своими страстями и поступками. Во мне два человека: один живет и действует, другой судит его. Что ж поделаешь? Эта тяжелая ноша была моим уделом с самого детства. Еще ребенком я страдал от несоответствия своих надежд и мечтаний с окружающей меня жизнью.
Глубоко запавшие горящие глаза Белинского смотрели с таким согревающим сочувствием, что Лермонтов сказал ему то, чего не сказал бы никому другому:
– Всю жизнь я мечтал о каком-то… совершенстве – в людях, во всем мире. И всю жизнь, с самого раннего детства, меня окружал разлад – сначала в моей семье, а потом вообще в людях и в самой жизни. Я рано понял – скорее почувствовал, что несовместима никакая справедливость, правда и человечность с крепостным бытом. Мой любимый гувернер, пленный француз Капэ, рассказал мне как-то о взятии Бастилии. И я заболел от волнения – так мне показалось это величественно и прекрасно. С тех пор я всегда мечтал о подвигах, о действии – но ничего не сделал!
Он замолчал, прислушиваясь, как где-то внизу проходил сменяться караул, неслась тихая и тоскливая солдатская песня и слышалась барабанная дробь.
– Новой жизни начать я не смог, – невесело закончил он. – Я только написал два-три приличных стихотворения да две-три повести… Но, может быть, еще начну. Жить – значит действовать, а действовать – значит бороться… За то, что лучше, за то, что прекрасно, – за совершенство. И в этом смысл искусства и поэзии, – закончил он тихо и вдруг улыбнулся, точно стыдясь того, что так неожиданно высказал и что обычно – от стольких людей! – прятал, прикрываясь то бравадой, то удалью школьника или гусара.
Белинский слушал его, всматривался в характерные черты этого лица, на котором горели темные огромные глаза, и думал, терзаясь раскаянием: «И в этом человеке под маскою светского легкомыслия я не разгадал тогда великого сердца!»
– Вот те, – продолжал Лермонтов, – кто вышел четырнадцатого декабря на площадь, они боролись!.. Ах, если бы я родился раньше!.. Для меня, как и для них, жизнь без борения скучна и мертва… Но и без творчества также…
– Ну, вот видите! – торжествуя, прервал его Белинский. – Вы все-таки до конца не знаете себя. И вот что я вам скажу: мне кажется, что скоро вы будете относиться к людям вообще – не только к тем, кого вы любите, – с бо́льшим доверием.
– Дай бог, – очень серьезно ответил Лермонтов. – Я вам скажу по секрету: мне иногда кажется, что я устал жить. Но дело не в этом. Это – пустое. Дело в том, что мне не дадут долго жить.
– Ах, боже мой, что вы?! Зачем вы об этом? Что вы такое говорите?! – Белинский крепко сжал руки Лермонтова, взяв их в свои. – Зачем так думать, зачем?! И то, что вы говорите о себе, с самого начала неверно. А ваши произведения говорят о вашем кровном родстве с народным духом. Во всем, начиная от «Бородина» и кончая «Думой», слышится жалоба на наше поколение, дремлющее в бездействии, тогда как ваша душа полна жажды действия. И все, что вышло из-под вашего пера, – это зов к великой борьбе и свободе.
Глухой, режущий кашель не дал ему говорить. Он поднес платок к губам и, когда кашель затих, долго не мог отдышаться.
Лермонтов налил ему воды. Но, уже приближаясь к дверям, стучали грубо и резко шаги, и загремел тяжелый замок. Старый сторож, приоткрыв дверь, просунул в нее голову и торопливо сказал:
– Ваша милость, давно уходить пора. Вздремнул я тут чуток, на дежурстве-то, и не заметил, что вы еще тут. Нешто можно так долго говорить? Ваше благородие, как бы не вышло чего!..
Сторож торопил гостя. Но Белинский, сунув ему в руку чаевые, остановился и твердо сказал:
– Михаил Юрьевич, я хочу вам еще сказать, что, по моему глубокому убеждению, пережитые человечеством великие моменты его истории не исчезают, как звук в пустыне. Я твердо верю, я знаю, что они навсегда делаются законным достоянием его сознания. Вы знаете, о чем я говорю.
– Знаю… – медленно ответил Лермонтов.
– До скорой встречи! – крикнул Белинский.
Лермонтов смотрел на тяжелые закрывшиеся за ним двери, и ему казалось, что в полуосвещенной камере еще звучит взволнованный, надорванный кашлем голос этого удивительного человека, который высказал его собственные мысли, таимые от всех.
После ухода гостя он подошел к окну и долго с тоскою глядел в темноту вечера и на темную стену с единственным светлым окном, где иногда можно было разглядеть тонкий силуэт девичьей фигуры.
Когда он отвернулся от этого светлого пятна, он увидел перед собой сторожа.
– Ваше благородие, – сказал сторож сурово, – забирай свою кладь, переводим тебя в другую камеру. Потому здесь, с исписанными стенками, на которых слова, быть вам не разрешёно.
Лермонтов вздохнул и, забрав свои книги, пошел за сторожем в новую камеру.
ГЛАВА 31
В новой камере, куда провел Лермонтова сердитый сторож, гремя ключами и ворча, было еще темнее, чем в первой. К тому же настал вечер, так что ни читать, ни писать было уже невозможно. Тусклый фонарик, оставленный сторожем, чуть озарял верхний угол у входа.
Но Лермонтов был весь еще полон впечатлениями от беседы с Белинским, и темнота в этот раз ему не мешала. Он ходил до позднего часа от угла к углу по диагонали своей камеры и упорно думал о Белинском. Его взволнованная речь и горящие глаза не выходили из головы. Вот с кем хорошо бы создать журнал! С таким редактором и критиком можно весь мир завоевать.
Ах, ежели бы государь дал отставку!..
Лермонтов расхаживал из угла в угол и думал о том, что Белинский предназначает ему роль общественного деятеля, тогда как он сам уже не верит в эту возможность. Белинский придает такое огромное значение литературному слову, а он видел, как мало оно меняет людей…
Но Белинский журналист и по духу и по профессии. Как неустанно и пламенно борется он за то, во что верит, своим пером, отточенным, как кинжал! А он – поэт, который теряет надежды на будущее, стихи которого будут читать немногие тайком, по ночам, как когда-то читал он сам с друзьями стихи старших поэтов. И читатель, может быть, встретит усмешкой его речь, даже пророческую.
Да и можно ли писать теперь на Руси, можно ли свободно излагать свои мысли?!
И, как это часто с ним бывало, незаметно для самого себя он начал думать стихами:
Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретет язык простой
И страсти голос благородный?
А пока этого нет, удел лучших умов – молчание.
О чем писать?
Он ходил из угла в угол в тоске, не находя ответа. И вдруг остановился и посмотрел уже засиявшими глазами на слабый свет месяца, который пробивался сквозь мутное стекло. Он вспомнил что-то другое… Его лицо словно озарилось внутренним светом, и без бумаги, без карандаша и даже без помощи стенки, на которой можно все-таки писать, он стал повторять одну за другой слагающиеся строки. Потому что все же
…Бывает время,
Когда забот спадает бремя,
Дни вдохновенного труда,
Когда и ум и сердце полны,
И рифмы, дружные, как волны,
Журча, одна вослед другой
Несутся вольной чередой.
Он подошел ближе к мутному окну и снова посмотрел на лунный свет, который вот-вот собирался скрыться за крышами домов. Но душа его уже озарилась другим светом.
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.
Наутро, едва рассвело, он очень обрадовался, найдя листок бумаги, вложенный Белинским в книгу Купера, и к вечеру закончил стихи, надписав сверху заглавие – «Журналист, читатель и писатель».
«Что же поделаешь, – говорил он себе, складывая и убирая листок. – Надо же человеку говорить правду, если этот человек имеет за плечами уже четверть века – двадцать пять, даже двадцать пять с половиной лет! Страшно вымолвить – четверть века!..»
Как все-таки правильно, как прекрасно сказал бессмертный Пушкин: «Ты сам свой высший суд!» Да, да, лишь очень немногое, только самое лучшее из того, что написано в тридцать седьмом и позднее, даст он в готовящийся сборник.
И Шан-Гирей и даже Раевский, бывало, сердились на него за якобы безразличное отношение к своим стихам, которые он подчас дарил тому, кто попросит. Но ведь это не так.
Он мог подарить кому-нибудь одно из лучших своих стихотворений, но, прежде чем оно стало таким, он работал с величайшим упорством, добиваясь предельной простоты и силы, отбрасывая все лишнее, доступное только его глазу и его слуху, как ваятель отбрасывает каждую лишнюю частицу мрамора, нарушающую чистоту формы.
И даже Шан-Гирей, увидав однажды весь перечеркнутый, весь испачканный помарками лист стихотворения «Видение», написанного еще в Середникове, в котором не перечеркнутым только и осталось самое начало, переменил свое мнение. Он с удивлением рассмотрел, что в перечеркнутом конце этого стихотворения все строчки переделаны дважды и над первым, зачеркнутым, вариантом надписано мелкими буквами «второй», а над иными словами – «третий», и заявил, что это просто ювелирная работа.
Нет, работая в любых условиях и очень мало в спокойной обстановке кабинета, он никогда не работал небрежно. Оттачивая и отделывая стихи, совершенствуя рифмы, он всегда старался достигнуть живой яркости образов и картин – и уж потом действительно беспечно и бескорыстно дарил свои создания тому, кто попросит.
Но все-таки не все, далеко не все… Многие из своих стихов он никому не дарил и не давал в печать. Слишком ясно, слишком очевидно были они его жизнью. Их первые строчки звучали чаще всего как начало беседы с самим собою, со своей совестью, со своим другом, со своим сердцем.
«Не смейся над моей пророческой тоскою…», «Расстались мы, но твой портрет я на груди моей храню…», «Слышу ли голос твой…» – нет, не все, конечно, не все из таких стихов можно дать в печать!..








