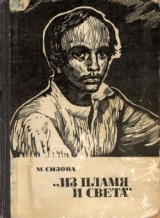
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 20
– Удивляюсь тебе, Мишель! – сказал Аким Шан-Гирей, войдя в кабинет своего кузена, когда на его столе уже горели свечи, и застав его за этим столом над той же тетрадкой, над которой видел его утром. – Иногда можно подумать, что ты небрежно относишься к своим стихам, часто пишешь их на чем попало и раздаешь кому попало, а вот посмотришь – нет!
– Все поэты, Аким, от начала мира неисправимые чудаки…
Лермонтов встал и, убрав свою тетрадь, посмотрел в окно.
– Неужели уже вечер? Я и не заметил. Ну что ж, пожалуй, поедем сегодня смотреть Каратыгина?
– Я готов. А что дают?
– «Разбойников». Его поклонники, и особенно поклонницы, считают, что он в этой роли неподражаем. Но разве можно сравнить его холодное мастерство с вдохновенной игрой Мочалова? Этот блестящий артист создан для придворного искусства. Здесь, в Петербурге, большего и не ищут. Но у меня вкус отсталый, московский, – засмеялся он, вставая. – Ну, что же, поедем за билетами?
Вечером, Глядя на Каратыгина в роли Карла Моора, он вспоминал Мочалова.
Трудно было найти двух актеров, столь различных по своим творческим характерам. Неровный, играющий порывами, Мочалов в минуты творческого подъема потрясал, захватывал, владел душами. Каратыгин был лишен и минут упадка и высоких взлетов мочаловского гения. Он одинаково и неизменно владел своим голосом, знал свой жест и обращал главное внимание не на чувство, а на интонацию. Оставаясь великолепным и холодным, он произносил свои монологи с громким пафосом, с изящным или величественным жестом, но, не загораясь сам настоящим чувством, не зажигал его и в зрителях.
– Нет, – сказал Лермонтов, выходя из театра, – не хотел бы я, чтобы этот блистательный актер играл моего Арбенина.
– Кого? – переспросил Шан-Гирей.
– Арбенина, героя моего «Маскарада». Это новая драма, которую я задумал писать.
* * *
Гусару лейб-гвардии, да еще единственному наследнику богатой бабушки Столыпиной, – ему были открыты теперь все двери салонов и аристократических домов.
Вырвавшись на свободу и избавившись от мертвящей душу юнкерской муштры, Лермонтов на первых порах бросился в новую жизнь с радостью и надеждами. Он надеялся узнать новых, интересных людей, но «большой свет» предстал пред ним как один большой маскарад, где все простое и чистое, все подлинно человеческое обречено на одиночество и гибель.
Тогда задумал он написать драму из светской жизни. И «Маскарад» дал выход кипевшим в нем чувствам гнева, досады и горькой иронии.
ГЛАВА 21
Ваня старательно раздувал огонь, сидя на корточках перед печкой в кабинете Михаила Юрьевича. Нынче опять похолодало, и ветер гудел в трубах. Последив за жарко разгоревшейся печкой и спросив у Михаила Юрьевича, игравшего в шахматы с Шан-Гиреем, не нужно ли чего, он побежал на звонок в прихожую, к Прохору Ивановичу. Пришла из Москвы почта с оказией: два журнала и два письма. Он положил их около Михаила Юрьевича на маленький столик.
– Хорошо, Ваня, я посмотрю потом, – рассеянно ответил Лермонтов, обдумывая ход. – Смотри, Аким, через три хода тебе мат!
– Постой, постой! – всполошился Шан-Гирей. – Я возьму этот ход обратно. Можно?
– Можно. Только, вообще говоря, запомни, что в жизни этого никогда не нужно делать. Ну, думай, а я пока взгляну на письма.
Взяв в руки синий небольшой конверт, он вдруг поспешно стал его вскрывать. Почерк, которым был написан адрес, был ему хорошо знаком.
Шан-Гирей, погруженный в обдумывание хода, ничего не замечал. Наконец он взял в руку фигуру и, торжествуя, сказал:
– Готово, Мишель. Я ставлю сюда коня под защитой пешки и тем самым спасаю ладью!
Но так как его партнер ничего не ответил, он поднял глаза от шахматной доски и посмотрел на него.
– Мишель, что с тобой? Что случилось?
Лермонтов усмехнулся и ответил:
– Она выходит за Бахметева – в мае. Вот новость! Свадьба уже объявлена. Она будет не Варенька Лопухина… а Бахметева. – Он произнес медленно фамилию, словно стараясь понять эту непонятную новость. – Она будет уж не Варенька. Конец… Конец!.. – повторил он с легкой усмешкой. – На, прочти!.. – Он протянул письмо Шан-Гирею и быстро вышел из комнаты.
* * *
На следующий день Аким Шан-Гирей был сначала удивлен, потом всерьез перепуган: его кузен пропал!
С утра он исчез из дому, и даже Ваня не знал, когда он вернется.
Пришел он поздно и, не зайдя к Акиму, поднялся к себе и запер дверь.
Войдя к нему утром, Аким увидал, что он спит одетым или притворяется спящим, отвернув лицо к стене. Так пролежал он до самых сумерек.
А в сумерки теплого и сырого петербургского дня встал и, крикнув: «Едем, Ваня!» – умчался в Царское.
ГЛАВА 22
Лермонтова любили за удаль, за неисчерпаемое остроумие и веселость.
А спокойная рассудительность Столыпина создала ему в полку репутацию беспристрастного и безупречного судьи, к совету которого прибегали во всех спорных случаях. Лермонтов даже с укором говаривал ему:
– Твое хваленое «беспристрастие», Монго, есть просто бесстрастие, а это, по-моему, очень плохо. А главное, очень скучно. Бесстрастным в жизни быть нельзя! Надо все делать со страстью.
Но Столыпин с полным спокойствием отвечал на такие нападки:
– Опомнись, друг мой! Зачем же я буду создавать себе такие неудобства в жизни?
На первый взгляд Лермонтов мало чем отличался от своих товарищей по полку, разве только тем, что его гусарская удаль не знала страха и была изобретательней на выдумки, чем у всех остальных.
Но, живя с ним вместе, Столыпин прекрасно видел его другое лицо, которое делало его не похожим ни на кого.
Бывали дни, когда он часами лежал на своем диване, устремив перед собой потемневший, точно углубившийся во что-то и ничего не видящий взгляд.
В такие часы Монго старался не обращаться к нему с разговорами: все равно он или ничего не ответит, или ответит так, что Столыпин только вскинет удивленно плечами.
А после длительного и упорного раздумья Миша приказывал подать лошадь и уносился, несмотря ни на какую погоду, на своем скакуне. В конце такого дня, перед сном, Столыпину иногда читалось маленькое шуточное стихотворение – одно из тех, которые потом каким-то образом попадали в петербургские альбомы; и нередко, подобрав к ним подходящий мотив, кто-нибудь пел их то с гитарой, то с фортепьяно, то в гостиной, то… на гусарской вечеринке, как лет двадцать тому назад пели песни Дениса Давыдова. Именем Дениса Давыдова обычно утешали Лермонтова друзья в те дни, когда находило на него сомнение в возможности быть и поэтом и гусаром. Но Столыпин уже знал, что гораздо лучше были те стихи, которых Лермонтов не показывал никому, даже ему.
А бывали дни, когда его буйное веселье, заражая всех посетителей дома на Манежной улице, где жил Столыпин, наполняло этот дом шумом, смехом и громкой песней.
На другой день после получения письма из Москвы даже Монго Столыпин веселился, забыв свою обычную сдержанность. Он управлял хором, он говорил какие-то речи. И в конце концов, соблюдая старый гусарский обычай, зажег жженку на скрещенных саблях под звуки гусарских песен.
А когда было все спето и все выпито, к крыльцу подкатили две тройки, и гусарская братия помчалась в Петербург.
– Мишель! – крикнул Столыпин, когда лермонтовские кони с черными гривами обогнали его на повороте. – Сейчас будет застава, спросят наши имена, распишись за всех!
– Зна-а-ю! – донесся, улетая, голос Лермонтова.
На заставе он спросил книгу, куда вносились имена всех прибывающих в город, быстро расписался за всех, потом поставил в конце свою подпись, и дежурный еще не успел сосчитать щедрые чаевые, как тройка черногривых коней и тройка буланых уже исчезли в зимнем тумане.
– Федосеенко, проезжие все расписались? – спросил через несколько минут старший офицер, подходя к дежурному.
– Так точно.
– А ну-ка, дай книгу.
– Пожалте, ваше благородие.
Старший офицер небрежно раскрыл книгу с фамилиями въехавших в город и привычным взглядом окинул сразу всю страницу. В то же мгновенье лицо его выразило величайшее удивление:
– Что это такое? Кто это писал?
– Так что, господин офицер, который с белым султаном.
– Да ты видел, что тут написано?
– А мне ни к чему. Я неграмотный.
– Иван Семенович, – обратился офицер к своему помощнику, – не угодно ли вам послушать, какие лица проследовали только что в Санкт-Петербург через нашу заставу?
– Я слушаю вас. Надеюсь, ничего опасного?
– А шут их знает, опасные они или нет! Вот, не угодно ли! Дон Скотилло… лорд Дураксон… маркиз Глупиньон… паныч Дураленко… А подписался за всех российский дворянин Скот Чурбанов. Как вам это понравится?
Иван Семенович был еще очень молод, и, вероятно, поэтому расписки ему, несомненно, понравились. Он прикрыл рот рукой и довольно долго кашлял, чтобы скрыть свой смех.
Старший офицер посмотрел на него очень строго и вдруг, хлопнув себя по толстым ляжкам, зычно захохотал.
– Ну и озорники!.. – повторял он, вытирая слезы. – Вот они теперь радуются, поди, в Петербурге-то! А уж если кто-нибудь здесь Дураленки, так это мы с вами, Иван Семеныч, честное слово, мы!
ГЛАВА 23
«Я никого не люблю и никому не верю». Он чувствовал себя постаревшим, как будто за этот год своей жизни пережил то, что другие не переживают за десять.
Прошли весна и лето, наступила сырая осень, пришла зима – шло время, мелькали лица, появлялись и пропадали куда-то люди, шумела вокруг жизнь. А в душе были горечь и усталость.
С чувством этой душевной усталости медленно шел он, запахнувшись в шинель, по набережной еще не вполне замерзшей Невы. Он отпустил свои сани у Летнего сада и шел, как на службу, на званый бал, который давным-давно начался.
В метели кружились вихрем снежинки, здесь обнажая камень, там наметая сугроб.
По бокам подъезда занесенные снегом кариатиды поддерживали балкон. Как, должно быть, хорошо выйти на этот балкон, обведенный железным кружевом решетки, ранним летним утром! Какой легкий ветер долетает тогда с моря, чуть трогая рябью еле заметную речную волну! Но обитатели этого дома совершенно равнодушны к утренней чистоте неба и воды и не любят морского ветра.
В весенние ночи и в зимние вечера одинаково делится здесь жизнь на часы приемов и часы визитов, на дни обязательных балов и обязательных маскарадов – и вся жизнь проходит, как утомительный и опустошающий душу маскарад, где никто не открывает своего настоящего лица.
Он подошел к подъезду, около которого ждали кареты с кучерами, дремавшими под падавшим снегом, и посмотрел на большие окна.
Как много масок двигалось за ними! Как мало настоящих человеческих лиц!
Но вот, выйдя на лестницу, крикнул зычно в толпу карет швейцар с булавой:
– Карету сочинителя Пушкина!
Никакие силы не могли бы заставить теперь Лермонтова отойти от этих ступенек!
Он стоял в толпе любопытных, заглядывающих в двери ярко освещенного подъезда, не замечая, что его толкают, стараясь оттеснить, и смотрел жадными глазами на двери.
Они открылись еще раз, и одновременно с каретой, подъехавшей к самым ступенькам, из широко раскрывшихся дверей вышла женщина такой красоты, что вид ее причинял страдание, как слишком сильный свет.
За ней, в небрежно наброшенной на плечи шубе, держа цилиндр в руке и не обращая внимания на снежинки, которые, пролетая, падали на его кудрявую голову, шел Пушкин.

Невольным движением Лермонтов поднял руку, чтобы снять кивер, но Пушкин уже прошел. Он спустился со ступенек и, помогая жене сесть в карету, тихо сказал со вздохом:
– Устал я, мой друг, устал от балов, от всей этой жизни. Нет! Пора в деревню, в тишину!..
Дверцы захлопнулись. Карета быстро отъехала, оставляя следы колес на мягком снегу.
Лермонтов смотрел ей вслед, пока она не исчезла в снежном тумане где-то за Летним садом.
Тогда он плотнее запахнул разлетающиеся полы шинели и медленно пошел домой.
ГЛАВА 24
По накатанному зимнему пути скрипели полозья кибитки. Мелькали запорошенным снегом ельники, а вечером вдали проплывали тусклые огни попутных деревень. Дробно стучали копыта лошадей.
Лермонтову вспоминался прошедший год, когда он окончил школу юнкеров и вступил в жизнь. Так называемый свет открыл перед ним свои двери, и он узнал его. Он видел там людей, которые, встречаясь изо дня в день, по-настоящему не знали друг друга. Он видел там под личиной дружбы холодность, под маской добродушия – жестокость. Он видел кругом только маски, под которыми скрывались и лица и души, и вскоре после своего вступления в свет начал он писать «Маскарад»…
Он пытался получить разрешение на постановку драмы в Александрийском театре. Для этого надо было представить пьесу в драматическую цензуру при Третьем отделении императорской канцелярии. Он представил… и «Маскарад» запретили: Бенкендорф усмотрел в образе Арбенина прославление порока. И Лермонтов должен был переделать «Маскарад». И вот теперь перед самым отъездом представил через Раевского новый вариант в драматическую цензуру.
Ровно бегут кони. Проехали Клин… Вот хорошо знакомый поворот с Петербургского шоссе на Середниково… Скоро Москва!
* * *
Сугробистой, ухабистой встретила Лермонтова морозная Москва.
К Новому году обязательно надо к бабушке в Тарханы – бедная, совсем заждалась его! – а до Нового года остается всего несколько дней, и нужно еще в Тульскую губернию в отцовское имение заехать. А он все еще в Москве. Третий день в Москве – и до сих пор не был у Лопухиных, не был, не мог себя заставить…
Он поехал к ним в первый же вечер, но, увидев перед домом несколько саней и карет, понял, что у них много гостей, и повернул обратно – к Малому театру.
А вчера… вчера он тоже поехал на Молчановку и, не доезжая, отпустил сани – пошел к их дому пешком.
В морозном небе огромными дрожащими алмазами горели звезды над лопухинским садом.
Вот и подъезд их… вот знакомый дворик… Он шагал по сугробам, глядя на освещенные окна… Вот сюда, к саду, выходят окна столовой.
Увязая в снегу, он подошел ближе к большому окну с откинутой шторой. Боже мой! Там была Варенька!.. Она сидела почти спиной к нему, но, разговаривая с кем-то из соседей, повернула голову так, что Лермонтову был виден ее нежный профиль. Через минуту в окне появилась чья-то мужская фигура. Вареньки не стало видно, и, не вглядываясь, Лермонтов угадал, что это был Бахметев. Наклонившись, он что-то говорил ей – ей, Вареньке, которая была теперь его женой!..
Больше Лермонтов не стал смотреть. Шагая по тем же сугробам, он прошел через знакомый дворик – и за ворота, дальше, дальше от этого дома, бывшего для него когда-то родным.
О, какими яркими огнями переливались морозные звезды над лопухинским садом!
Он твердо решил, что в следующий вечер – в третий вечер своего пребывания в Москве – придет сюда и войдет в этот дом.
В сумерках этого третьего московского дня он зашел на Кузнецкий мост, во французский книжный магазин, и, выходя оттуда, столкнулся лицом к лицу с родственником Лопухиных, почтенным и добродушным, убежденным москвичом. Лермонтов хотел проскользнуть мимо, но было поздно.
– Ба-ба-ба!.. – кричал убежденный москвич, остановившись посреди Кузнецкого моста и раскрыв свои объятия. – Да тебя и не узнать, братец! Ведь этакий блестящий гусар, столичная штучка! Надолго ли к нам?
– Завтра же еду к бабушке в Тарханы.
– Так, так. А у наших был?
– Надеюсь быть нынче же, а ежели не успею, так на обратном пути.
– Навести, Мишель, обязательно навести. Покажись во всем блеске. Только ты, братец, опоздал: Вареньку-то Бахметев перехватил!
– Как же, как же! Я еще из Петербурга послал свои поздравления.
– Да, ведь я знаю, вы большими друзьями были. А теперь опустел лопухинский дом. Молодые-то сегодня в вояж отбыли.
– Как? Уехали? Когда же?
– Нынче, нынче рано поутру. И чего им в Москве не сидится, не понимаю. Бахметев по всей родне Варвару Александровну возит! – Он засмеялся добродушным беззвучным смехом. – Он ведь Варенькой нашей гордится! Ну что ж, я хоть и родственник, а должен признать: девушка она прелестная.
– Несомненно, – ответил Лермонтов с легким поклоном. – Я уверен, что Варвара Александровна так же гордится своим молодым супругом.
Его себеседник расхохотался и погрозил Лермонтову пальцем.
– Ах, шутник, шутник! Ты всегда пошутить любишь, я знаю. Однако морозно тут стоять, не зайдем ли в ресторацию?
От ресторации Лермонтов отказался и в тот же вечер, сговорившись с ямщиками, несмотря на мороз, уехал из Москвы.
ГЛАВА 25
Парадные комнаты топились редко – только бы не отсырели, но в прежнем кабинете Юрия Петровича, из которого теперь сделала бабушка Мишенькин кабинет, старательно накаливали большую печь: на всякий случай. Бабушку не оставляла надежда, что внуку ее удастся выпросить отпуск из полка. Хоть на праздники-то дали бы отдохнуть!
Но вот прошло без него рождество, когда-то такое шумное в этом доме, наполненном товарищами Мишенькиных игр и занятий. Бабушка все-таки велела поставить в гостиной большую пустую елку и садилась около нее в кресло, вдыхая смолистый запах хвои, наполнивший вдруг всю комнату освежающим и уютным воздухом леса.
В большом доме пусто. Воспоминания оживают в бабушкиной памяти и часто, очень часто с укором смотрят ей в глаза…
С самого сочельника зарядили морозы.
День разгорался холодным ярким светом, пламенея к вечеру багряным диском сквозь морозную мглу, и смеялся сначала зеленой, потом кубово-синей небесной чистотой.
Ночью потрескивало от мороза сухое дерево стен и во всем доме было слышно, как в столовой, шипя, отбивают время старые стенные часы.
Елизавета Алексеевна долго не засыпала, прислушиваясь ко всем шорохам и звукам большого пустого дома. Но тот звук, которого она так ждала, звук приближающегося колокольчика, все не раздавался. Не пускал Мишеньку Петербург. Да и то сказать: что тут веселого для молоденького мальчика после гусарской-то жизни в столице? Ничего! Снег да бабушка. Грех и звать-то его сюда!.. Лучше уж, прожив здесь еще с неделю, тронуться самой назад, в Петербург, и уж больше не разлучаться с Мишей.
В ночь на 30 декабря Елизавета Алексеевна долго ходила по комнатам мерным, тяжелым шагом. Проходя мимо портретов дочери и Юрия Петровича, она останавливалась и подолгу всматривалась в их лица. Да, он, конечно, был красивым мужчиной – этот незнатный, мелкопоместный дворянин. Мари его любила со всей глубиной и чистотой первой и единственной любви. И может быть, она, мать, была слишком жестока к ее мужу и… да и к ее сыну тоже?.. Может быть, лучше было бы для всех, ежели бы Юрий Петрович жил здесь, а не в Кропотове, и Мишенька не страдал бы так все годы детства от непонятной ему разлуки с отцом?..
Но разве можно было объяснить ребенку, что отец его совершил непоправимый, неизгладимый грех перед его матерью? Пусть все – и он сам – говорили, что мимолетное увлечение, которому он поддался, прошло бесследно, улетучилось как дурман, что его сердце принадлежало всецело жене, – это мимолетное увлечение отняло у нее жизнь…
Горе ее погубило, а не чахотка.
Но, может быть… может быть, все-таки нужно было бы внять его мольбам и раскаянию и простить?.. Это она, Елизавета Алексеевна, говорила тогда, что простить его невозможно, она, уехавшая когда-то от своего мертвого мужа, не похоронив его, потому что он покончил с собой из-за другой женщины.
Но у ее дочери было другое сердце, и это сердце могло прощать. И может быть, Елизавете Алексеевне не нужно было говорить Мари, что она должна расстаться с мужем?..
Она мечтала о счастье своей дочери и не хотела видеть, что жизнь ее кончалась. Может быть, было бы лучше… Нет, нет, довольно себя мучить! Мари, ее дорогая дочь, скончалась от болезни легких, оставив ей Мишеньку, свет ее очей.
До поздней ночи проходила бабушка по комнатам, и только под утро тяжелый сон отогнал от нее все мысли и все сомнения.
Еще не начинался день, и не сошел еще с ясного неба лиловый предутренний сумрак, когда истопник, коловший перед крыльцом дрова, услыхал далекий перезвон бубенчиков. Ближе… ближе… И вот уже вся девичья бежит к воротам, и несутся вперед тархановские мальчишки, а сенная девушка, опрометью вбежав в бабушкину спальню, кричит, всплескивая руками и хватая себя за щеки:
– Барыня, едуть! Матушка, едуть!
Елизавета Алексеевна, кончавшая в это время свой туалет, остановившись, посмотрела одно мгновенье на румяную с мороза вестницу, перекрестилась, сказала: «Слава тебе, царица небесная!» – и, накинув большой платок, быстро-быстро, как только позволяли ее отяжелевшие ноги, прошла через комнаты и почти выбежала на парадное крыльцо.
Она увидела дворню, ставшую у ворот по обе стороны. И наконец, громыхая бубенцами, влетела во двор тройка и раскатисто осадила у крыльца. Черноглазый гусар в широкой шинели вихрем взлетел по ступенькам и, целуя бабушкины руки, громко, весело крикнул:
– Отпустили, бабушка! Сам полковой командир отпуск дал! Отпущен, бабушка, на целую вечность – на шесть недель!
Бабушка прижала к груди его темноволосую голову и заплакала.
Через пять минут уже летел Прошка на птичник, Фроська – в кладовую, Тишка – на кухню, уже тащили на стол парадную скатерть и серебряный самовар, а совсем одряхлевший Фока, едва ступая на слабых ногах, топтался на одном месте, повторяя:
– Барин пожаловали! Мишенька пожаловали! Привел господь поглядеть!
И, припав к плечу Мишеньки, которого все еще почитал маленьким, всхлипнул, поцеловал «в плечико».
Лермонтов, увидав вокруг себя взволнованные лица, светившиеся неподдельной к нему любовью, почувствовал, как в детстве, что горло его сжимается.
А Ваня уже тащил в его комнату чемодан и принес горячей воды для умывания, а на столе стояло столько всякой всячины, будто бабушка решила угостить весь лейб-гусарский полк.
Митька был отправлен верхом к соседям, чьи сыновья когда-то учились с Мишенькой, сказать, что по случаю его приезда все, все приглашаются на эту ночь в Тарханы, потому что эта ночь – первая ночь нового, 1836 года, который нужно как следует встретить.
* * *
Горели в канделябрах свечи теплым оранжевым светом. И в той комнате, которая была всегда закрыта и которая была для маленького Миши полна печального очарования, тоже зажгли большой канделябр, поставив его на рояль.
Его свет тепло освещал бледное лицо на большом портрете, и лицо оживало. Пахучие ветки вечнозеленых деревьев окаймляли его венком.
– Ты бы сыграл нам, Мишенька, – сказала бабушка, вставая из-за стола, когда первая ночь нового, 1836 года уже подходила к концу. – Давно я тебя не слыхала!
Когда все стали его просить о том же, он подсел к роялю и начал вспоминать музыку из любимой им оперы «Фенелла», негромко себе подпевая.
После «Фенеллы», развеселясь, перешел к французским и русским песенкам. Пришлось за иные просить у бабушки прощения, потому что содержание их было не столько в бабушкином, сколько в гусарском вкусе.
Песни Дениса Давыдова, подхваченные всей молодежью, закончили эту новогоднюю ночь.








