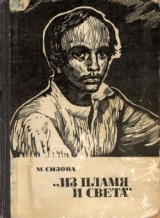
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 38
С первого появления «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Лермонтов подпал под обаяние Гоголя, о дружбе которого с Пушкиным и Жуковским он слышал от Смирновой и от Владимира Федоровича Одоевского. Заходя в кабинет Одоевского, он любил смотреть на висевший там портрет Гоголя кисти неизвестного итальянского художника. С тонко очерченного острого и мудрого лица смотрели задумчиво блестящие глаза, искрясь скрытым юмором и скрытой печалью.
«Ревизор» сначала оставил его холодным. Ему были ближе приемы Грибоедова – тоже сатирика, но обладавшего исключительным чувством меры. У Гоголя же все казалось ему вначале чрезмерным и необъятным, и он говорил, что иному зрителю, посмотревшему «Ревизора» на сцене, вся Россия могла представиться скопищем уродов.
Позднее он понял, что в этом впечатлении от спектакля во многом были виноваты неудачные актеры, а повести Гоголя покорили его окончательно. Он слышал о том, что начаты «Мертвые души», тему которых дал Гоголю Пушкин, и сожалел, что уезжает, так и не узнав о них ничего.
Подходя к огромному саду Погодина у его дома на Девичьем поле, Лермонтов понял, что немного опоздал: из сада уже доносились голоса споривших и между густыми деревьями были видны фигуры гостей. Он узнал гравера Иордана, профессора Армфельда, Дмитриева, знаменитого Щепкина, Вяземского, Загоскина…
Незнакомый ему голос, какой-то певучий и мягкий, говорил полунаставительно, полушутливо:
– Ай-ай-ай! Так нельзя, голубчик, никак нельзя! Ежели вам в какой-нибудь день писать не хочется, так вы, значит, и не пишете?! А вы, сокровище мое, возьмите перышко, бумажку и в такой именно день этим перышком и напишите на этой бумажке: «Сегодня мне что-то не пишется… сегодня мне что-то не пишется», – а дальше уж все как по маслу пойдет. Непременно запишете.
Лермонтов вышел из-за деревьев и увидел Гоголя, который беседовал с каким-то еще очень молодым человеком.
– А, вот он наконец! – громко сказал Самарин. – Михаил Петрович, велите подавать обед – Лермонтов пришел!
Гоголь повернул к нему свое характерное лицо, показавшееся Лермонтову значительно старше, чем на памятном ему портрете.
Он посмотрел на Лермонтова любопытным, серьезным взглядом и, встав, протянул ему руку.
– Сколько о вас слышал, – сказал он просто, – и от Василия Андреевича и от Одоевского, а видеть, вот подите же, не довелось! Впрочем, мы с вами, кажется, на одном месте мало сидели: ваша судьба связана, насколько я знаю, с Кавказом, моя – с Италией. Здоровье мое плохое. Только там ко мне возвращаются силы. Садитесь же, прошу вас.
Во время обеда и весь этот памятный ему вечер Лермонтов видел только Гоголя. Погодин пытался продолжить вчерашний спор. Самарин второй раз рассказывал ему о том, что журнал «Москвитянин» еще в тридцать седьмом году получил разрешение печататься, и теперь никаких препятствий уже не может быть, и потому все то, что он будет присылать с Кавказа, появится немедленно на страницах журнала. А Хомяков, узнав от Погодина, что Лермонтов открытый вольнолюбец и ярый враг крепостного права, мечтающий о перевороте в русской общественной жизни, сразу бросился с ним с спор, доказывая, что России нужно всенародное представительство, которое должно быть сословным, а никак не конституция, и что ежели и можно будет когда-нибудь освободить крестьян, то надлежит помнить об интересах помещиков. Он слушал все это, но в тот вечер душа его была полна Гоголем – и только им одним.
Проницательно-острый и мягкий взгляд Гоголя, его мимолетные фразы и по пути брошенная мысль, сожаление или вопрос – вот что осталось от этого вечера и вставало опять и опять в его памяти потом, в дороге, под мерное покачивание кибитки.
– Живой или мертвый, но через неделю и я уеду, – сказал ему Гоголь, узнав о том, что Лермонтов едет через два дня. – Нигде мне так хорошо не думается и не пишется, как в дороге. Сколько образов, сколько верных мыслей рождается в сердце и в голове под равномерный стук копыт о пыльную дорогу или под скрип полозьев и под звон бубенцов! Пользуйтесь дорогой для работы. Это много дает, потому что отрешает от обычной жизни и освобождает мысль.
– Я много писал в горах, – сказал Лермонтов.
– В горах, о да, я это понимаю, – вдруг задумался Гоголь. – Но знаете, что мне еще необходимо для работы? Присутствие человека, с которым можно поделиться ее плодами. Всегда удивлялся я, на Пушкина глядя: как засядет один в своем Болдине, так и жди его оттуда с чем-нибудь замечательным.
Он вдруг умолк. Лицо его потемнело и точно вдруг осунулось, нос удлинился, прядь волос упала на опущенный, поникший лоб.
– Ах, боже мой, – сказал он тихо, – как можно привыкнуть к этому, как можно примириться с тем, что Россия – без Пушкина?!. И кто еще может так выслушать, поддержать, так все понять! Моя жизнь утратила все наслаждение свое, все внешние радости вместе с этой утратой.
Он посмотрел на Лермонтова:
– И вас я… за стихи ваши о нем принял в свое сердце… Да, я благодарен вам за них, как вся та Россия, которая их знает.
Ах, вот вспомнил о ком! – встрепенулся он вдруг. – В Риме познакомился с одним народным поэтом, подлинно народным. Он сонеты пишет на… транстеверинском наречии… И поэмы пишет. – Гоголь помолчал. – Пушкин им заинтересовался бы. Да, везде он, и всегда я о нем помню! Что бы ни услышал, что бы ни увидел прекрасное, вижу и слышу Пушкина перед собой…
Он еще раз поднял на Лермонтова глаза, полные глубокой тоски.
– И вот сейчас, – продолжал он, – когда я буду вас слушать, потому что я надеюсь послушать сегодня ваши стихи, перед тем как мы расстанемся с Москвой, – я буду думать о нем и о том, что он сказал бы, если бы слушал вас в этот вечер вместе со мной. – Он незаметно смахнул слезу.
В саду уже стемнело, и Лермонтов все равно не разобрал бы рукопись, да и не было у него с собой ничего: все уложил Ваня в чемодан. Но он думал в последние дни о некоторых переделках «Мцыри» и потому, что в памяти его жила сейчас именно эта поэма, решил прочитать те места, которые не подлежали изменениям.
Он встал и, прислонившись к старому тополю, начал с той строфы, которой был более доволен:
Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
С первых слов Гоголь точно преобразился. Он весь потянулся к Лермонтову и слушал, как слушают дети, – не спуская с поэта расширенных глаз, с полуоткрытыми, точно от удивления, губами.
Лермонтов кончил, но никто ничего не говорил. Молчал и Гоголь. Потом с какой-то торжественной медлительностью он встал и подошел к Лермонтову.
– Если бы он был здесь и если бы слушал вас вместе со мной, он сказал бы вам то же, что говорю я – от всего сердца: что вы его наследник, идущий за Пушкиным великий русский поэт.
Гремели за заборчиком сада далекие московские пролетки, и чей-то голос пел за открытым окном.
Было уже поздно. Лермонтов обнял Гоголя, простился с остальными и пошел к себе – готовиться к отъезду.
* * *
Он наступил, наконец, этот вечер, как ни хотелось ему в этот раз, чтобы он подольше не приходил.
С неба сеялся теплый и мелкий дождь, от которого раскрывались в садах набухшие почки. Затерявшийся где-то в вышине серебристый обрывок дождевой тучки, освещенной луной, тихо угасал, закрываясь легким весенним туманом.
Вокруг тройки, поданной к крыльцу дома Павловых, стояло небольшое число провожавших Лермонтова московских друзей.
– Ну, Михаил Юрьевич, – сказала Каролина Карловна, когда он уже сел в кибитку, – я видела во сне, что вы вернулись: значит, так и будет. Мы ждем вас скоро назад со славой и со стихами!
Он грустно улыбнулся:
– Какая же может быть слава у опального офицера? Что вы!
– Я говорю о вашей растущей славе русского поэта, – сказала она очень серьезно.
Он приподнял фуражку, потому что лошади уже тронулись.
– Не забывайте! – И, посмотрев на остающихся, крикнул: – Самое ужасное – это забвение!..
Они стояли и смотрели вслед его тройке, пока она не скрылась в конце длинной улицы в вечернем сыром тумане.
Когда тройки уже не было видно, Николай Филиппович с тяжелым вздохом сказал Каролине Карловне, которая, не шевелясь, стояла все на том же месте.
– Вся жестокость царя сказалась в этом деянии: ему мало того, что он послал его, кавалериста, в пехоту. Он послал этого гениального юношу в самый опасный полк, почти на верную гибель…
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Быстрое время – мой конь неизменный,
Шлема забрало – решетка бойницы,
Каменный панцирь – высокие стены,
Щит мой – чугунные двери темницы.
Мчись же быстрее, летучее время!
Душно под новой бронею мне стало!
Смерть, как приедем, подержит мне стремя;
Слезу и сдерну с лица я забрало.
ЛЕРМОНТОВ«Пленный рыцарь», 1840 г.

ГЛАВА 1
И опять бегут мимо полосатые версты, и все те же поля, и все те же уходящие к горизонту леса. Дальше… дальше… – «с милого севера в сторону южную».
Теперь уже не встретят его дружеские объятия Одоевского.
Дороги… Дороги… Сколько он их изъездил!
Он вспомнил 1837-й. Смерть Пушкина!.. Свою болезнь, и арест, и первую ссылку, и ту же самую дорогу. Так же мелькали полосатые версты, поля убегали за горизонт или поднимались там, у края неба, острые верхушки еловых лесов…
Тогда тоже была весна. И наверное, так же блестел молодой месяц и деревья шумели у обочин.
Он стал слушать тихий их шелест, пока, наконец, не заснул.
Когда он проснулся, месяца уже не было видно. В свежем, прозрачном воздухе слышался явственно лай собак и били часы где-то на сельской колокольне.
Лермонтов добрался до Ставрополя поздно. Ночь была душной: начинался июнь. Небо, покрытое тяжелыми облаками, предвещало грозу. Изредка налетал порывами ветер, и тогда высокие тополя шелестели тревожным коротким шумом – и опять замирали.
Домик, где жил Одоевский, был пуст. Здесь особенно чувствовалась утрата Одоевского… Около его одинокой могилы шумят теперь волны Черного моря…
Генерал-адъютант Павел Христофорович Граббе принял Лермонтова с сочувствием и с явным желанием быть ему полезным. Он знал историю опального поэта. Думая о Лермонтове, старый генерал вспоминал свою собственную молодость и прежнюю причастность к «Союзу благоденствия»
Улыбаясь, Граббе спросил Лермонтова:
– В Тенгинский полк? Я понимаю мысль государя. Он хочет дать вам возможность отличиться в бою. Такова, несомненно, была его цель, когда он назначал вам этот полк. Но принял ли государь во внимание, что Тенгинский полк в этом году не столько сражался, сколько его просто истребляли? Поэтому не будет ли более сообразно с высочайшей волей причисление вас к отряду генерала Галафеева для участия в экспедиции на Чечню? Бои предстоят там жаркие. Но это будет носить несколько иной характер… Вы меня понимаете? Можно послать, например, кого-либо на корабль, идущий в открытый и честный бой, из которого этот корабль, если будет хорошо сражаться, выйдет победителем. Но другое дело – послать человека на корабль, который наверняка утонет. Назначая вас на Кавказ, государь, конечно, имел в виду первое!
– Совершенно точно, ваше превосходительство!
– Ну вот и хорошо, что мы друг друга поняли. Итак, вы едете в отряд генерала Галафеева, в Чечню. А сегодня прошу ко мне домой отобедать.
Дверь в соседнюю комнату была полуотворена. За большим письменным столом сидел начальник штаба у Граббе – полковник Траскин – и напряженно прислушивался к разговору. Лицо его выражало недовольство.
ГЛАВА 2
На другой же день генерал Галафеев прикомандировал Лермонтова к своему отряду и тут же отправил в дело.
Для генерала Галафеева не оставалось секретом, что этот поручик, служивший прежде в отряде генерала Вельяминова, бывал лишь в рекогносцировках и стрельбу слышал только раза два, да и то издали. И Галафеев решил теперь показать этому Лермонтову, что служба есть служба, а ружье и сабля даются военному не для того, чтобы болтаться на его мундире как украшение. Он направил опального офицера сразу в бой, а потом приказал участвовать в походе на Малую Чечню, зная, что за десять дней горного пути петербургский офицерик хорошо узнает, как свистят чеченские пули.
Генерал не ошибся.
Но поручик Лермонтов с первых же дней похода проявил блестящие качества военного, о чем генерал получал с нарочным вполне точные сведения.
Так, ему было доложено, что перед взятием одной горной деревни этот поручик отвлек внимание неприятеля на себя и на свой отряд, чтобы дать возможность другой части продвинуться вперед.
И после того как неприятель, не дававший солдатам брать воду из реки, был рассеян, полковник барон Врангель не мог не высказать своей похвалы поручику, который, бросившись в атаку, оттеснил неприятеля.
В июле каждый день приносил новое дело: то перестрелку в ущелье, то перестрелку в лесу или на берегу горной реки, и повсюду, за каждым кустом, за каждой скалою, подстерегала смерть. Но и в перестрелках, и в штыковой атаке, и в переправах через горные бурные реки под неприятельским обстрелом Лермонтов был впереди всех в самых опасных местах. И самое строгое начальство, полагавшее до сих пор, что этот поэт умеет только писать стишки своим возлюбленным, не могло не удивляться его хладнокровному мужеству, находчивости и бесстрашию.
После ежедневных боев, всего через три дня после штыковой атаки близ Гойтинского леса, отряду предстояла жестокая битва у реки Валерик, протекавшей в высоких и совершенно отвесных берегах.
* * *
Светало. На смутно розовеющем востоке выступали очертания крепостных стен.
…Я жизнь постиг;
Судьбе как турок иль татарин
За все я ровно благодарен;
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Он писал при слабом свете занимавшейся зари, сидя на пустом ящике от снарядов. Неподалеку, на берегу Валерика, мирный татарин, обернувшись лицом на восток, совершал свой утренний намаз…
Лагерь еще спал – перед боем, и спали на другом берегу враги.
Лермонтов посмотрел на восток. Там из-за гор вырвались первые лучи восходящего солнца и золотом и нежным пурпуром окрасили снежные вершины. Так прекрасно было это благоухающее горной свежестью, безмолвное и ликующее утро, и земля, покрытая зеленью, и речка, дымившаяся вдалеке утренним туманом!..
Он смотрел и не верил, что сейчас здесь раздадутся крики и стоны, что окрасятся кровью чистые воды этой речки…
Наступил час того сражения при Валерике, которое долго стояло потом перед его глазами.
Он описал его в стихах, которые начал еще в начале сражения.
* * *
11 июля. Багровое солнце в мареве густой пыли, еще не осевшей после сражения, медленно погружалось в тучу. И когда оно опустилось за ее волнистые гребни, над краями ее брызнули и торжественно поднялись в вышину сверкающие алым блеском лучи, осветившие и горы, и небо, и землю, и лицо молодого поручика Лермонтова, сидевшего на пробитом пулями барабане, с тетрадкою на коленях, в распахнутой на груди красной шелковой рубашке и в куртке, наброшенной на плечо. Он смотрел, как тихо потухает вечер, и наслаждался прохладой сумерек. После криков, стонов и дикого шума сражения казалась странной царившая вокруг тишина. Тела убитых были убраны, раненые отнесены на врачебный пункт. Несколько убитых лошадей валялось на крутом берегу горной речки, и степные орлы уже описывали над ними круги.
Кашевары подвесили котелки над кострами, и несколько солдат, переговариваясь, полоскали в речке одежду.
Медлительный ритм их речи, поднимающийся дымок, торжественные лучи вечернего солнца напоминали Лермонтову строчки Гёте, которые он не так давно перевел:
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы..
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
Эти слова дышали таким глубоким, таким величественным покоем! А сейчас он писал о том диком и нечеловеческом, что только что видел.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?»
Его мучила жажда. Он сошел по крутому обрыву к реке и, нагнувшись, зачерпнул воду пригоршней. Зачерпнул и выплеснул на землю: вода была красной от крови…
В этот день, 11 июля, он был в самых опасных местах, носился вихрем под неприятельскими пулями, удивляясь в глубине души тому, что они его не задевали.
ГЛАВА 3
Лермонтову начинало казаться, что он всегда так жил: в боях, переходах, с постоянным чувством опасности и подстерегающей на каждом шагу смерти.
Все прошлое стало вдруг точно историей какого-то другого человека, которую он хорошо знал, но сам не переживал никогда.
Но и в этой тяжелой сумятице дней судьба послала ему радость – человека в солдатской шинели, явившегося по назначению в отряд Галафеева в один из жарких летних дней. Лермонтов увидел новенького, когда тот жадно пил воду. Солдат поднял голову, глаза их встретились – и Лермонтов узнал Лихарева, живого, настоящего Лихарева, с которым он так сблизился в Ставрополе в 1837 году!
С этого мгновенья при каждом удобном случае оба спешили встретиться.
Как хорошо бывало, прислушиваясь к редким выстрелам, поспорить о философии Гегеля, вспомнить музыку пушкинских строф!
Как-то в сумерки они шли по вытоптанному полю.
– Скажите, Михаил Юрьевич, зачем вы так жизнью не дорожите? – спросил Лихарев, остановившись и всматриваясь в обросшее небольшими баками худое, загорелое лицо Лермонтова. – Я наблюдал за вами: где опасно – там и вы. Одоевский вас за это сильно бы побранил.
– Нет, Владимир Николаевич, узнав причину, он не бранил бы.
– А в чем же причина?
Лермонтов усмехнулся.
– Во-первых, пуля меня не берет. А я люблю жизнь и чту ее. Вот потому и стараюсь в каждом деле быть в опасности.
Лихарев молча с удивлением посмотрел на него.
– Я вам скажу, друг мой, – продолжал Лермонтов, – то же самое, что сказал, прощаясь с Карамзиными: ежели хотите мне счастья, пожелайте мне получить рану, конечно, не слишком тяжелую. Авось хоть за нее дадут отставку!
– А вы хотели бы?
– Ох, еще бы! – ответил Лермонтов, взяв Лихарева под руку. – У меня столько планов в голове и столько стихов в сердце! Да еще трилогия из истории русской, которую я непременно должен написать!
– Михаил Юрьевич, честное слово, больше, чем для себя, хотел бы свободы для вас!
– Спасибо, голубчик, – мягко ответил Лермонтов.
Невдалеке щелкнул выстрел, и Лермонтов почувствовал, что Лихарев падает.
Он бросился поднимать его. Пуля, попав в спину, прошла навылет, и сердце уже не билось.
Лермонтов бросился в сторону выстрела.
Он никого не нашел. А вернувшись к телу Лихарева, не нашел и тела – только обезображенная груда изрубленных останков лежала в луже крови.
В ту ночь он ушел один в горы и вернулся на заре.
ГЛАВА 4
Летний поход в Чечню закончился. Побывав в Пятигорске, Лермонтов через некоторое время вновь вернулся в отряд Галафеева. 26 октября отряд выступил из крепости Грозной через Ханкальское ущелье к реке Аргуну – во вторую экспедицию. Лермонтов был прикомандирован к кавалерии отряда.
После окончания одного из переходов, в октябрьский, еще совсем теплый вечер Лермонтов писал в своей палатке, торопясь кончить до наступления темноты, и не заметил волнения, внезапно вспыхнувшего среди солдат.
Ваня, служивший теперь его денщиком, подбежал к нему.
– Ваше благородие, Михал Юрьич, к генералу вас!
Когда Лермонтова провели в палатку, генерал Галафеев, лежавший на своей койке, устланной кошмами, указал ему на складной стул около себя.
– Садитесь, поручик.
Лермонтов сел.
– Я вами отменно доволен, поручик. Вы проявили редкое мужество и столь же редкую распорядительность и хладнокровие в самых трудных условиях и в самых опасных боях.
– Благодарю вас, генерал, – ответил Лермонтов.
– Я намерен дать вам одно назначение.
Лермонтов ждал.
– Сегодня у нас выбыл из строя тяжело раненный юнкер Дорохов. Вам это известно?
– Так точно, ваше высокопревосходительство.
– Под его командой находился особый отряд охотников, в своем роде партизан этой сумасшедшей войны, в которой приходится давать сражения в горах или в лесу, не видя противника. Знаете вы этот отряд?
– Кое-кого узнал, ваше высокопревосходительство.
– Так вот: с завтрашнего дня вы имеете назначение заменить Дорохова и принять на себя командование его отрядом волонтеров. Можете увеличить их число до сорока, но больше этого не набирайте.
– Слушаю, ваше высокопревосходительство.
* * *
Уже после двух стычек с горцами генерал Галафеев сказал полковнику Голицыну:
– Не находите ли вы, полковник, что, поручив отряд Дорохова поручику Лермонтову, я сделал самый удачный выбор, какого только можно было желать?
– Совершенно согласен с вами, генерал, – ответил полковник. – Этот поручик, который, говорят, до сих пор занимался только стихоплетством, обладает какой-то особой храбростью. Нынче он с горстью людей кинулся на вчетверо превосходящего его численностью неприятеля и – представьте! – отбил наступление, заставив врага отступить.
– Да, – проговорил с некоторым замешательством генерал Галафеев. – Я полагаю, что необходимо представить его к высокой награде. Я считаю, что за Валерик он должен получить Владимира, а за осенние бои – золотую полусаблю с надписью: «За храбрость». И нужно просить о переводе его обратно в гвардию.
– Удастся ли это? – спросил задумчиво Голицын. – Ведь государь…
Но, не кончив, пристально посмотрел в суровое лицо генерала и вышел.
Генерал Галафеев нисколько не интересовался заслугами поручика Тенгинского полка Михаила Лермонтова перед литературой, но он был честным воякой и, представляя отличившихся участников экспедиции к награде, просил о награждении поручика Лермонтова орденом Владимира 4-й степени с бантом и золотым оружием за храбрость, проявленную в сражении при Валерике.
Не в пример генералу Галафееву флигель-адъютант полковник Траскин, состоявший начальником штаба Кавказской линии и Черноморья у генерал-майора Граббе, литературой интересовался: он ненавидел всех литераторов.
У полковника Траскина была весьма примечательная внешность. Круглая большая голова сидела на широченных плечах; шеи у полковника Траскина не было. Приземистая, расплывшаяся фигура заканчивалась короткими ногами, которыми полковник Траскин имел обыкновение топать, давая тем выход своему гневу.
Полковник сидел у себя в штабе за письменным столом, перебирая пухлыми пальцами донесения, отношения и рапорты, поступающие от командующих отрядами на левом фланге Кавказской армии.
В трех или четырех рапортах сообщалось об отменной храбрости и мужественном хладнокровии, находчивости и бесстрашии поручика Тенгинского полка Лермонтова и представлении его к награждению.
Полковник Траскин снова просмотрел рапорты, побарабанил пальцами по столу и усмехнулся.








