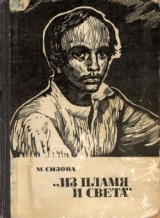
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 20
После короткой оттепели наступил ясный жесткий мороз, и мсье Капэ, мучительно кашляя и кутаясь в свой шарф, жался у натопленных печек и хмуро поглядывал на морозные узоры окошек.
Неожиданно перед обедом подлетели к дому большие сани, и из них вышел закутанный в медвежью шубу дядя Афанасий. Миша быстро сбежал по лестнице, чтобы первому встретить его в передней, – и остановился, пораженный переменой в лице, в фигуре, во всех движениях своего дяди. Показалось Мише, что это не дядя Афанасий, а какой-то очень похожий на него человек, только очень старый.
А Афанасий Алексеевич, увидев удивленное лицо Миши, взглянул на него каким-то чужим, потухшим взглядом и чужим голосом сказал:
– Да, брат… такие-то дела… – и пошел к бабушке.
Миша, точно притянутый странным, почти страшным видом дяди Афанасия, неслышно пошел вслед за ним.
Были сумерки, но у бабушки еще не зажигали свечей. Она сидела у маленького столика перед окном и раскладывала свой обычный пасьянс.
Удивленная и обрадованная, она встала навстречу брату.
– Афанасий Алексеевич, ну и обрадовал, батюшка! И как это только ты нас навестить собрался?.. – начала она весело и вдруг умолкла, точно у нее горло перехватило. – Ты что же это? Болел?
Афанасий Алексеевич отрицательно покачал головой и обнял бабушку.
– Садись, друг мой, ведь на тебе лица нет… – захлопотала, усаживая его, бабушка.
* * *
– Говори, братушка, – сказала она, садясь подле него, – говори, что случилось. Не томи, так хуже…
И Миша, стоявший в уголке, увидел, как она выпрямилась вся и глаза ее стали строгими и тревожными.
– Семья-то здорова? – спросила бабушка.
– Да.
– А брат Димитрий?
Дядя Афанасий закашлялся.
– Он… тоже… Не совсем, впрочем. Но об этом потом. – Он помолчал, потом медленно проговорил: – Четырнадцатого декабря в Петербурге восстание было – на Сенатской площади.
– Восстание, говоришь? – переспросила бабушка. – Кто же на кого восстал, мой друг? Не пойму я!..
– Восстали несколько полков, а вели их члены тайного общества. Многие, очень многие замешаны оказались.
– И как же они восстали? Служить, штоль, отказались?
– Отказались присягнуть новому государю. Но этого мало: вооруженные, они вышли на Сенатскую площадь и требовали конституции.
– Господи помилуй! – сказала бабушка, крестясь. – Что же им нужно, безумным?
И Мише показалось, что дядя Афанасий с какой-то торжественностью ответил:
– Они хотят отмены рабства в России, свободных прав для всех граждан, они хотят очень многого, но прежде всего – уничтожения крепостного права.
– А сами помещики! – вскричала бабушка.
– Они не жалеют ради этого не только своих имений, но и жизней своих.
Бабушка всплеснула руками:
– Ну и что же? Чем кончилось?
– Восстание подавлено, – медленно говорил Афанасий Алексеевич, – его руководители в крепости, и есть опасение, что их… что их не помилуют…
– Не помилуют?.. Не помилуют!.. – повторяла Елизавета Алексеевна, точно стараясь понять страшный смысл этих слов.
– А брат? А Димитрий? Что с ним? У него ведь бывали разные люди в имении-то… Последнее время он в своей подмосковной все жил. А не случился ли он в Петербурге? Чего доброго, на Сенатской площади? А? Ты что молчишь?
Афанасий Алексеевич молчал и, не двигаясь, смотрел в угол комнаты.
– Что же ты молчишь? Ведь в случае чего и ему заточение… крепость… унижение… позор… Да говори же!
– Он избежал всего…
– Избежал, говоришь? Не понимаю…
– Умер… – ответил он чуть слышно. – Третьего января… от разрыва сердца…
Бабушка уронила голову на грудь, и крупные слезы, стекая с ее лица, закапали на платье, на руки, и она их не замечала.
И Миша, похолодевший от страха, услыхал какие-то сдавленные звуки, которые точно вырвались из груди дяди Афанасия, когда он сказал:
– Димитрий и другие… так много их! Столько друзей!.. Столько замечательных людей… Лучших людей страны! И вот теперь – для скольких тюрьма на долгие годы, может, до конца дней!
– Все равно, – послышался детский голос, – тюрьму сломают, как сломали Бастилию!
Только теперь бабушка увидала своего внука; он стоял, прижавшись к ее конторке, испуганные глаза темнели на его бледном лице, но он крепко сжимал кулаки, чтобы не дать волю слезам.
Бабушка хотела рассердиться на него – и не могла. Она только сказала тихо:
– Мишенька, что же это ты, дружок?.. – И продолжала плакать.
Миша подбежал к ней из своего угла и, обняв, прижался головой к ее груди.
– Вот за то и люблю его, – сказала бабушка. – Своевольный он, а сердце у него большое, горячее.
* * *
Поздно вечером Миша сидел около кровати мсье Капэ и передавал ему, как умел, рассказ дяди Афанасия.
Голова у него горела от множества мыслей, но он чувствовал какое-то странное облегчение.
Он узнал, что есть люди, которые видят, что не все хорошо устроено на свете, и ради того, чтобы изменить и исправить это дурное, не жалеют даже своей жизни!
Они собрали войско и пошли на площадь, как те, которые взяли Бастилию!
Какие замечательные, какие великие это люди! Он хотел бы увидеть когда-нибудь хоть одного из них!
– Как вы думаете, мсье Капэ, их придут освободить? Тюрьму, в которую они заключены, могут взять да и разрушить, как Бастилию?
– Бастилию разрушили, когда пришла революсион, – медленно ответил мсье Капэ.
Миша, задумавшись, смотрел, как догорала свеча и синее-синее морозное небо темнело в окнах.
– Я понимаю, – сказал он через некоторое время, – нужны свобода, равенство и братство. И очень хорошая жизнь. И для «людей»! – закончил он решительно.
Но этого тонкого русского различия не понял уроженец свободной Франции. Он засмеялся и ласково постучал длинным пальцем по лбу своего воспитанника:
– А ти что думал: для кошка, э?
– Нет, мсье Капэ, – сказал его воспитанник. – «Люди» – это которых староста продать может.
Мсье Капэ выпрямился, сел на кровати и гневно помахал в воздухе рукой:
– Jamais! Никаких продаваль! И покупаль! Jamais![30]30
Никогда! (франц.).
[Закрыть] А теперь спать! И помни, Мишель: вот эти «продаваль» и «покупаль» и кончит революсион. Доброй ночи, мой маленький друг!
– Доброй ночи! – ответил Мишенька.
Когда мсье Капэ потушил свечу, в комнату упал бледный луч зимней холодной луны. Он осветил детскую комнату, игрушки, картинки, детский стул… Миша обвел все это рассеянным взглядом, ни на чем не остановив своего внимания. Ему показалось, что все это стало уже неинтересным, ненужным ему.
Сегодня он узнал о великом подвиге великих людей своей родины, на которых он хотел бы – о, как горячо хотел бы! – стать похожим когда-нибудь. Когда-нибудь… когда он будет совсем большим, потому что теперь он еще, как бабушка говорит, «ребенок». Но нет, нет! Еще не понимая вполне того, что с ним произошло, он чувствовал, что этот день словно провел какую-то черту в его жизни. В этот день он впервые пережил и боль и радость не за себя и не за своих близких, а за что-то огромное, полное страданий, борьбы и счастья, чему он еще не знал имени, но что называлось человечество.
ГЛАВА 21
Перед самой распутицей Миша возвращался в Тарханы из Кропотова, где прожил две недели. Изредка бабушка скрепя сердце отпускала его погостить к Юрию Петровичу. Эти дни постоянного общения и долгих разговоров так всегда сближали сына с отцом, что неизбежная разлука казалась им уже невозможной. И все-таки она каждый раз наступала.
Обыкновенно Юрий Петрович провожал сына и оставался еще день или два в Тарханах, чтобы продлить свидание.
В этот раз Миша задержался в Кропотове дольше обыкновенного из-за болезни Юрия Петровича, и приходилось выезжать уже по талому снегу, в который проваливались полозья. Но бабушка торопила с возвращением, и ехать было нужно, не откладывая.
Выехали поутру и только к полудню увидали колокольню, мельницу под горой и ограду парка рысаковского имения. Помещица Рысакова, соседка Юрия Петровича, была известна на всю губернию своим жестоким нравом. Ее несчастные крестьяне вымирали или спасались бегством.
Въехав на гору, откуда уже видны были широкий двор и дом с мезонином, кучер Никанор остановился, а Юрий Петрович с удивлением и тревогой начал всматриваться в открывшуюся перед ним необычайную картину.
Весь двор был запружен народом – от ворот до самого крыльца, и над этой толпой, то подававшейся вперед, то отливавшей назад, стоял грозный, зловещий гул, в котором не слышно было ни отдельных слов, ни отдельных голосов. Вся толпа жила каким-то единым чувством, единым угрожающим волнением, которое все росло, как растет прибой в океане, когда, не затихая ни на минуту, становятся все сильнее его гул и грозный шум.
– Трогай, трогай! – торопливо сказал Юрий Петрович своему старому ямщику, всматриваясь в толпу.
Сани приблизились к дому; и вот в этой сгрудившейся толпе уже можно было разглядеть отдельные лица. Многие держали тяжелые дубины, вилы и даже топоры. Юрий Петрович увидал испуганного приказчика, метавшегося на широком крыльце, к которому все ближе, все настойчивее подступала толпа. Пролезали вперед бабы, то одна, то другая, и, прокричав что-то, прятались за мужиков.
В окна полетели камни. Миша услыхал звон разбитых стекол, потом увидал, как толпа окружила приказчика и три рослых молодых бородача, скрутив ему руки за спиной толстой веревкой, потащили его куда-то с крыльца. Миша успел разглядеть его белое как снег лицо и услыхал громкий крик его: «Братцы!..» И снова: «Братцы!..»
Юрий Петрович крикнул что-то кучеру и, обняв сына, прижал его к себе. Никанор гикнул, лошади помчались, и из-под копыт полетели комья талого снега.
Когда замолкли в отдалении крики и смутный гул толпы и лошади начали осторожно спускаться с горы, Миша, весь дрожа, тихо спросил:
– Что это, папенька?
– Это бунт, друг мой, бунт замученных крестьян, – ответил Юрий Петрович, еще бледный от пережитого волнения. – Скорей, Никанор, скорей! – повторял он и тогда, когда, давно уже выехав на большак, крепкие кропотовские лошади уносили его и Мишу от страшного зрелища.
– Тебя испугала эта толпа? – спросил он сына.
– Нет, – ответил Миша, не желая признаваться в своей слабости, – я не испугался. Я думаю, что эта помещица и ее приказчик очень плохие и очень злые люди, еще хуже, чем наша Дарья Григорьевна. И значит, мужики эти правы, что бунтуют. А вы как думаете?
Но на этот вопрос Юрий Петрович предпочел не отвечать.
Через несколько дней перепуганный староста доложил бабушке перед обедом, что Рысачиху нашли повешенной на чердаке ее дома. Староста не умел говорить тихо, и Миша все услыхал. Когда староста сказал, что главным зачинщиком убийства Рысачихи признал себя крестьянин, которому за неуплаченные недоимки по ее приказанию вырвали всю бороду по волоску, Миша бурей ворвался в столовую и, остановившись перед старостой, поднял к нему вспыхнувшее гневом лицо.
– А если бы у тебя, дядя Еремей, стали вырывать бороду по волоску, что бы ты тогда сделал?!
Бабушка в ужасе замахала руками сначала на Мишеньку, потом на старосту, и староста поспешил уйти.
Дело это прогремело по всей губернии и быстро дошло до столицы. Многие пострадали за него. Вся деревня была подвергнута жестокой расправе. Не пощадили даже женщин.
Многие мужики были сданы в солдаты, а иных со связанными руками посадили в телеги и увезли, и они как в воду канули.
Но вскоре слухи о новых крестьянских бунтах стали доходить до Тархан.
С бунтовщиками расправлялись жестоко. Шептали по всем углам, что многих били кнутом, иных, заковав в кандалы, отправляли в Сибирь.
– Но ведь эти помещики были, наверно, такие же злые, как Рысачиха! – упорно твердил Миша. – За что же мужиков отправили в Сибирь?
– Как это за что?! – возмущалась бабушка. – Мужики такое натворили, а ты за них заступаешься? Опомнись, Мишенька!
Но он упорствовал в своих возражениях и так горячо защищал мужиков, что бабушка, наконец, не на шутку рассердилась и запретила ему говорить об этих бунтах.
Мишенька перестал о них говорить, но зато говорили другие. Приезжие из Курской губернии, которым бабушка продавала хлеб, рассказывали о бунтах и расправах с бунтовщиками.
После этих рассказов Миша будил по ночам своим криком мсье Капэ. Гувернер с тревогой подходил к его кровати и спрашивал:
– Что такой, Мишель? Спи. Спокойный сон!
ГЛАВА 22
Миша в раздумье сидел на завалинке Ивашкиной избы. Он сидел так уже много времени и давно хотел бы уйти – и не мог. Он прислушивался к голосу, который доносился из избы через раскрытое оконце. Это был даже не голос, а еле слышный стон, иногда умолкавший, словно человек окончательно обессилел, но потом опять начинавший свою бессловесную прерывистую жалобу, свою мольбу о помощи, обращенную неведомо к кому.
Стонал лежавший в избе на жесткой лавке Никита, Макаров брат. Он был крепостным помещика Мосолова и хотел бежать от него, но его поймали и запороли на конюшне – так рассказал Мишеньке дядя Макар. А Никита был хворый сызмальства… Теперь вот Мосолов сдался на мольбы Макара: велел дворне выдать ему больного брата – пускай, мол, в Тарханах помирает, проку от него все равно в хозяйстве не будет.
И Никита помирал, а Макар кланялся Мосолову в ноги, благодаря его за то, что разрешил своему крепостному окончить жизнь в родной избе…
Иногда кто-нибудь из мужиков подходил к раскрытому оконцу и, постояв, уходил, покачивая головой. А Миша все сидел, точно прикованный этим раздирающим душу стоном.
Ивашка выбежал с ковшом и, набрав свежей воды из кадки, отнес ее в избу. Потом вернулся и стал около Миши, мрачно глядя куда-то в сторону.
– Ивашка, – спросил Миша тихо, – ему больно?
– Известное дело, а то чего ж..
– А что у него болит?
– Все кости болят, а перво-наперво печенка. Отбили ее…
– Ивашка, а он может поправиться?
Ивашка на минутку задумался.
– Не, не может, – ответил он решительно. – Лекарь намедни был, сказывал – до вечера не доживет.
– Я не уйду отсюда, Ивашка, – твердо сказал Миша.
И в ту же минуту откуда-то из-за угла закричали сразу несколько голосов.
– Мишенька, Мишель! – к нему спешили Христина Осиповна и мсье Капэ.
Но прежде них прибежала Настя.
– Ты чего же не скажешь барчуку, что им здесь не место? – сказала она Ивашке строго. – Пойдемте, Мишенька, вас бабушка кличет.
Так, увлекаемый сразу двумя и сопровождаемый мсье Капэ, вернулся Мишенька домой и был доставлен прямо в сад, где бабушка сидела на скамейке около цветника и с волнением ждала своего любимца.
Но, взглянув на него, она заволновалась еще больше. Мишенька, несмотря на жару, был очень бледен и молча уселся рядом с ней на скамью.
– Что такое с тобой, Мишенька, нынче сталось? – спросила, наконец, Елизавета Алексеевна, искоса поглядывая на внука. – И не бегаешь и не воюешь ни с кем. И с гостем своим Акимушкой поврозь сидишь. Может, головка болит?
Но Мишенька молча смотрел куда-то тем самым своим серьезным и тревожным взглядом, который так пугал ее.
– Бабушка, – спросил он наконец, – ведь Никита крестьянин?
– Да, крестьянин, – ответила бабушка, насторожившись.
– И Анисья его – крестьянка?
– Конечно, Мишенька, и Анисья – крестьянка.
– А Мосолов – помещик?
– Помещик и дворянин, – сказала бабушка, чувствуя уже, что неспроста начались эти вопросы. Всегда он так: начнет вопросы подводить – и не узнаешь что к чему.
Мишенька опять умолк, а помолчав, спросил:
– А с самого начала тоже было так?
– Да ты это про что, Мишенька?
– Про Мосолова, – сказал Мишенька сурово, – который Никиту запорол. В самом начале ему бы за это тоже несдобровать.
– Это какое ж такое начало? – спросила бабушка в глубоком недоумении.
– А вот, – сказал Мишенька, – когда люди начались.
После такого ответа Елизавета Алексеевна не знала, как ей поступить – посмеяться или рассердиться.
– Чего только тебе в голову не придет, Мишенька! – растерянно посмотрела она на внука. – Когда люди-то начались, тогда и были одни леса.
– Ну что ж, – сказал на это ее внук, – все равно тогда лучше было!
И, оставив онемевшую от удивления бабушку на скамейке, пошел от нее большими шагами по аллее.
– Как большой зашагал! – рассказывала потом бабушка Марии Акимовне. – У меня даже сердце захолонуло. Вот ведь каков ребенок!
В тот же вечер Елизавета Алексеевна написала Юрию Петровичу о том, что его сын нуждается в перемене воспитания и в развлечениях и что, по ее мнению, нужно бы запретить ему ходить на деревню и разговаривать с мужиками.
* * *
После этого и бабушка и Юрий Петрович, каждый по-своему, начали думать о том, что пора Мише приниматься за серьезные занятия с учителями по разным предметам.
Бабушка сначала и не хотела этого и возражала Юрию Петровичу, уговаривая его подождать еще хоть немного: во-первых, она опасалась, что здоровьем мальчик еще недостаточно для этого окреп, а потом, по ее мнению, он знал уже очень много для своего возраста.
– Он ведь не только по-французскому да по-немецкому знает, – уговаривала она Юрия Петровича, – он и по-русскому так пишет, что за ним не угонишься.
Но внук тревожил ее все больше, и однажды, несмотря на непогоду, Елизавета Алексеевна велела кучеру Прохору закладывать лошадей и явилась в Апалиху к Марии Акимовне прямо к утреннему чаю.
– У вас ничего не случилось, тетя Лиза? – встревоженно спросила Мария Акимовна.
– Благодарение богу, ничего, – ответила гостья, усаживаясь. – Приехала к тебе за советом. Решила я Мишенькино воспитание переменить.
– Почему переменить? – удивилась Мария Акимовна. – Разве в Мишином воспитании чего-нибудь не хватает?
– Не хватает, Машенька. И учителей не хватает и товарищей. Один твой Акимушка в приятелях у него, да ведь Мишенька постарше его. Одного Акимушки мало, хоть они и большие друзья. Да! – вспомнила бабушка. – Грек-то этот беглый, которого я наняла Мишеньке в учителя, и вовсе не ученым оказался, а красильщиком.
– Каким красильщиком?
– Собачьим, матушка. Мужиков теперь собачьи меха перекрашивать учит в енотки. Вот ведь грех-то какой! Как неладно! Вот и решила я: сегодня же еду к соседям просить у них учителей и сыновей.
Мария Акимовна с удивлением посмотрела на свою тетушку.
– Каких сыновей, тетя Лиза? Что-то я вас не понимаю.
– Да ведь учителей-то хороших мне никто от сыновей своих не уступит! А с ними вместе, может быть, и отпустят ко мне в дом. У меня они стали бы вместе с Мишенькой и учиться и веселиться.
– Что же, тетя Лиза, – сказала, подумав, Мария Акимовна, – это было бы очень хорошо. Только согласятся ли учителя?
– Уговорю. У меня всем хорошо будет, а Мишеньке одному нельзя больше расти: опять думать стал…
План Елизаветы Алексеевны удался как нельзя лучше, и скоро тихий тархановский дом стал похож на шумный скворечник, где, словно молодые скворцы, наполняя воздух своими неумолкающими голосами; обучались начальным наукам, дрались, развлекались и носились по всему парку мальчики в количестве почти целого десятка, и с ними самый шумный, самый озорной – Мишенька.
И только по окончании шумного дня приезжавшая из Апалихи Мария Акимовна и бабушка отдыхали, засиживаясь вдвоем далеко за полночь в опустевшей и безмолвной столовой, прислушиваясь к доносившемуся сверху кашлю мсье Капэ да к колотушке ночного сторожа.
Но через три месяца обнаружилось, что учитель математики, по-видимому, исчерпал свои познания и застрял на одном месте. Правда, учитель русской истории чрезвычайно увлекался своим предметом, а по географии мальчики уже знали все главные города и реки своего отечества, но бабушка и Мария Акимовна ясно видели, что скоро Мише нечему будет учиться у этих наставников. Все эти начальные предметы давались ему так легко и так далеко он ушел вперед в своих знаниях по сравнению с товарищами, что бабушка решила сообщить Юрию Петровичу: для дальнейшего Образования его сына нужны московские учителя.
А пока после окончания малообременительной учебной программы каждого дня в промежутках между шумными играми Миша скрывался от своих буйных сверстников в самую далекую часть парка и там, лежа на толстом слое опавшей хвои или на траве – что строго запрещалось и бабушкой и Христиной Осиповной, – читал с горящим от волнения лицом книги, принадлежавшие когда-то его матери.
Наезжая в Тарханы с большими перерывами, Юрий Петрович не мог руководить чтением сына. Сам он довольствовался своей скромной библиотекой да журналами, случайно попадавшими в его руки от кого-нибудь из ближайших соседей. А бабушка к литературе вообще не питала интереса. И ни она, ни Юрий Петрович не знали, с какой жадностью читал их подрастающий сын и внук все книги, которые мог найти в Тарханах. Он читал и перечитывал с одинаковым восторгом и потрепанную «Илиаду» (в тяжелом переводе Кострова) и «Фауста» Гёте на немецком языке, и «Страдания молодого Вертера», и книжку по астрономии неизвестного автора, обложка которой была оторвана, и томик Фенимора Купера – все, все, что хранил в себе старый книжный шкаф.








