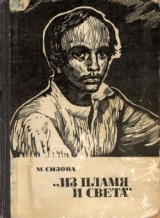
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 26
Ночь на исходе. За окном, за стеклянной дверью, открытой настежь на балкон, не видны сегодня горы. Но тучи поднялись выше, и часть их рассеялась – должно быть, где-нибудь далеко пролившись дождем.
На Пятигорск они двигаются теперь не спеша, точно нехотя, бродят вокруг. Но духота ночи уже не так томительна, и пахнет цветами из сада.
Лермонтов высунулся из окна и вздохнул полной грудью. Потом прислушался и тихо позвал:
– Монго! Монго! Ты не спишь?
– В данный момент нет, потому что ты меня разбудил.
– Ты бы на Бештау посмотрел!
– А что мне на него ночью смотреть? Я его и так каждый день вижу.
– Он нынче был в облаках и вечером курился, точно загашенный факел. Люблю горы! А знаешь, Монго, ведь завтра все-таки соберется гроза! Или послезавтра? Ты как думаешь?
– А зачем мне об этом думать? Да еще прежде времени;
– Нет, Монго, с тобой невозможно серьезно разговаривать! Спи лучше.
Он прислушивается. Еще в детстве здесь, на Кавказе, любил он слушать, как в глубокой тишине тихо проскрипит запоздалая арба да сторож крикнет гортанным криком и ему откуда-то издалека ответит другой.
– Монго! – не выдерживает он. – Скажи, что ты слышишь?
– Что ты мне спать не даешь!
– А еще ты ничего не слышал?
– С меня довольно!
– Арба проехала где-то!
– Ну, знаешь, Мишель, если тебе это событие кажется очень важным, то меня оно в данный момент не интересует.
– Да ты послушай только, как все эти звуки точно углубляют тишину! И скрип арбы, и окрики ночных сторожей, и вот еще, слышишь? Ночная птица кричит!..
– Закрой дверь!
– Ну ладно, ладно, спи, коли у тебя совести нет.
– Михаил Юрьич, – спрашивает Ваня, – не подать ли чего-нибудь закусить?
– Нет, Ваня, ничего не надо. А ты вот что: раз уж ты пришел, давай все-таки Алексея Аркадьича будить!
– Как бы не осерчали, Михал Юрьич!
– Ничего! Ты поднос оброни. Мог же ты его обронить? И перед самой дверью. Ну?
Ваня с точностью выполняет приказ. Столыпин со стоном восклицает: «О господи!..» – и Ваня, посмеиваясь, прислушивается к двум голосам, доносящимся теперь уже из спальни Столыпина.
Наконец в халате наизнанку, весьма недовольный, Монго выходит из своей спальни и усаживается на диван.
– Ваня, трубку Алексею Аркадьевичу! А теперь иди и ложись. Спокойной ночи! Поди, поди, отдохни, милый! Да, вот еще, хорошо, что вспомнил, тут в ящике стола письмо, завтра возьмешь и бабушке отправишь. В нем вольные: тебе, Фроське и деду Пахому.
– Михал Юрьич, батюшка! Дай бог вам счастья! А только мне от вас вольная не нужна, я от вас все одно никуда не уйду! А Фроське и дедушке вы бы, Михал Юрьич, батюшка, дома уж, как вернетесь, вместе бы с барыней и дали.
– А дома, может быть, дам и другим! Теперь иди, спать пора. Черкеса мне чуть свет снаряди, не забудь смотри – и будь здоров. Ты не заснул еще, Монго? – обернулся он к Столыпину, когда Ваня, наконец, ушел.
– Нет, Мишель, но я хочу спать. Для чего ты меня разбудил и поднял?
– Так, Монго, – Лермонтов подсел к нему на диван. – Просто очень захотелось на тебя посмотреть!
– Я глубоко тронут, конечно, – ответил Столыпин, зевая и пожимая плечами, – но ежели такое желание будет приходить тебе в голову каждую ночь, я от тебя съеду. Найму комнаты у Найтаки и буду там жить. Неужели ты не мог бы полюбоваться мной завтра, ежели сегодняшнего дня тебе было мало?
– Завтра, Монго? Нет, не могу. Как встану, уеду в Железноводск… Ух, как приятно снять с себя мундир!
– Ну так послезавтра налюбовался бы!
– А послезавтра и вовсе не могу, Монго. – Лермонтов подавляет зевок и со вздохом облегчения начинает раздеваться. – Потому что стреляюсь.
Столыпин отбросил трубку.
– Как? Что ты сказал?
– Как? Как все стреляются! Ты угадай с кем!
– Ну уж, милый, тут не до загадок!..
– С Мартышкой стреляюсь, ты подумай!
Столыпин быстро встал и начал стаскивать с себя халат.
– Я не допущу этого, – проговорил он торопливо и решительно, – это дико! Я сейчас же иду к Мартынову.
– Не поможет, Монго. Его уж секунданты уговаривали. Очень свиреп. Я думаю, он кинжалов пять с собой возьмет, кроме пистолета: на всякий случай!
– Не болтай вздора и пойми, что эта дуэль недопустима. Ты меня слышишь, Мишель? Мишель!..
– А ты слышишь, Монго, как ночная птица поет?.. Это она у нас в саду!
– Мишель, давай лучше о дуэли поговорим! Каковы условия?
Лермонтов посмотрел на Столыпина и усмехнулся.
– Да неужели же ты думаешь, что у меня поднимется рука на Мартышку? Я и в того французика, в Баранта, не стрелял, а в Мартышку-то, в товарища по школе?! Слышишь, теперь другая поет? Это значит, ночь кончается. Скоро утро!
– Опомнись, Мишель! – почти закричал Столыпин. – Ведь Мартынов не будет стрелять в воздух!
– Ну, Монго, ты меня просто удивляешь: даже Ваня не верит, что Мартыш может меня убить.
– Где это будет? Когда?
– Послезавтра, Мартынов назначил семь часов вечера, а место мой секундант, князь Ксандр, выберет где-нибудь на половине пути из Железноводска.
– Как? Ты выбрал своим секундантом Васильчикова, который тебя не любит, который всегда в Мартынове разжигал обиду?!
– Не все ли равно, Монго? – махнул рукой Лермонтов. – Исход дела от этого не зависит. А если искать такого секунданта, который меня любит, так за бабушкой придется съездить.
– Будет тебе шутить, Мишель!
– Нет, я серьезно говорю. По-моему, это очень даже занятно, что Васильчиков будет моим секундантом. Я его потому и просил. Ведь другим-то секундантом, милый, ты у меня будешь, а не кто-нибудь чужой. Ну? Ведь будешь?
– Буду, но сделаю все, чтобы эта дуэль не состоялась. Утром пойду к Мартынову и уговорю его. А тебе в самом деле лучше пока быть в Железноводске. Подумать только: дуэль с Мартыновым! Дико! Невозможно!..
– Да будет тебе так волноваться из-за пустяков. Ты лучше загляни в эту тетрадку: я здесь нашел старый черновик стихов, что еще Белинский хвалил, черновик «Думы». Теперь я написал бы другую. Вот досадно, если эта дуэль не даст мне написать о ней по-новому!
– Мишель, я не пущу тебя, слышишь? А если ты убежишь, я пойду за тобой и скажу Мартынову, что он не должен, что он не смеет…
– Не надо. Не надо!.. Давай с тобой лучше жженку, по нашему гусарскому обычаю, зажжем! Согласен?
И вот что, Монго, исполни, сделай милость, мою просьбу: бабушке в случае чего этот медальон передай – тут матери моей портрет, а Вареньке Лопухиной, то есть Бахметевой… Вареньке Лопухиной – поэму о битве у реки Валерик передашь. Она ей посвящена.
– Ты сам передашь все это, Мишель, когда вернешься в Петербург.
– Ты уверен в этом? Я тебе не говорил еще, как я догонял карету, в которой уезжала Варенька? Мчался за ней следом с безумным желанием увидеть Вареньку еще хоть на минуту в последний, последний раз! Но так и не догнал!.. Я третьего дня к Верзилиным потому и опоздал, что там, за Пятигорском, на дороге, был и понял там, что не увижу ее больше…
Столыпин порывисто обнял его.
– Миша, откажись от этой дуэли!
– Что ты! Что ты! Как же это я могу отказаться, если он меня вызвал, а не я его! Да и стоит ли, Монго, так бояться смерти? И разве дадут мне долго жить? Все равно не дадут. Вот тут, в бумагах своих, я нашел стихи, написанные мною еще десять лет тому назад… Да, конечно, в тридцатом году… Мне тогда шестнадцать было.
Боюсь не смерти я. О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно.
Вот что тут написано, Монго, и вот что поистине страшно. Неужели же так устроен мир? Нет, нет, невозможно! Тут еще стихи одни… Это последнее, что я написал… Ах, как прошлой ночью легко писалось! Вот если бы всегда так! Нашел! Они, оказывается, в книжке Одоевского записаны.
– Ну слава богу! Что же это? Как называется?
– Называется «Пророк». Вот возьми и спрячь.
Лермонтов положил стихи на стол.
– Жженка горит!
Лермонтов, обернувшись, пристально смотрел на синий огонь.
– «Из пламя и света…», «Из пламя и света…».
– Ты что бормочешь, Мишель?
– Да так, вспомнил про другое пламя… совсем не похожее на жженку.
– Ты еще в детстве любил огонь и синий цвет любил.
– Нет, я сейчас о другом хочу сказать. Не знаю, как это тебе передать, но пламя творчества, огонь вдохновения – вот что, по-моему, замечательно в человеке! Огонь, который рождает и подвиги, и поэзию, и слово…
– Как ты сказал?
– Я говорю, Монго, о самом таинственном для меня: о побуждении, о воле к творчеству. Это как зов, которому нельзя не внимать и невозможно противиться. Об этом я написал когда-то:
Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.
– Мишель, – сказал, помолчав, Столыпин, – я говорю тебе это не как брат, а как русский: ты наш лучший поэт.
Лермонтов покачал задумчиво головой:
– Ну, вот и жженка потухла! Но не зажигай больше свечей. Смотри, уже светает!
Он вышел на балкон и, присев на перила, посмотрел вокруг.
– Ух, какое мрачное великолепие окружает сегодня Машук! Он точно дымится, как загашенный факел! Взгляни на тучи, Монго! Они темные внизу, а по краям чуть тронуты розовой зарей… Нет, до чего это прекрасно! А гроза непременно разразится, и мы с тобой еще услышим торжественный гром ее раскатов! «Боюсь не смерти я. О нет!..» Но ведь не может же быть, Монго, чтобы я – «я» – исчез! Чтобы завтра, когда пронесется гроза и вам улыбнется чистое небо, меня уже не было в мире?! Нет, нет! Невозможно!!! Я буду! Потому что я есмь!
ГЛАВА 27
Лермонтов медленно ехал по дороге из Железноводска, Машук и место дуэли были уже недалеко. Сейчас покажется Каррас – немецкая колония, куда ездили пикником… Как недавно это было, а кажется, бог весть когда!..
Так и вся жизнь. Как будто немногие годы. А сколько пережито!.. Точно целых три жизни…
И вот только что простился с кузиной, Катенькой Быховец, с которой провел утро в Железноводском парке, – и какое было чудное это сегодняшнее утро! – а кажется, что было оно давно и что с Катенькой простились не до следующей встречи – там или в Пятигорске, – а надолго-надолго, может быть, и не увидятся никогда.
Вот слово невыносимое – «никогда»… Но почему? Да, дуэль. Кто знает все-таки, чем она кончится!
И Варенькин сон, может быть, окажется верным…
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той…
Опять и опять вспоминались эти строчки. И чередовались в памяти почему-то с другими:
Не встретит ответа
Средь шума мирского
Из пламя и света
Рожденное слово…
Вот ведь обещал в конце концов Краевскому переделать и не успел до сих пор. Придрался, чудак, к словам «из пламя». «Нужно бы, – говорит, – по грамматике – «из пламени». Да ведь уж напечатал!.. И почему-то не режет слуха это «из пламя и света».
Нет, не прав Андрей Александрович: можно оставить так.
Написать ему надо со следующей почтой, чтобы так и оставил. Или попросить Монго, чтобы переслал?
Да, конечно, попросить Монго! Кстати, листок-то с этими стихами в боковом кармане. И там же бандо. Катенькино золотое бандо.
Когда он попросил ее дать ему что-нибудь на счастье, она сейчас же сняла бандо с волос и отдала ему. Она так хорошо улыбнулась.
– Возьмите вот это, – сказала она, – и будьте счастливы!
Милая чернокудрая кузина!
А, это уже крыши колонии. Значит, скоро. «На счастье», – попросил он ее в парке. И, сам не зная почему, добавил:
– Мне кажется, что таких чудесных часов уже не будет в моей жизни никогда.
А Катенька испугалась и не велела ему больше так говорить и думать никогда…
«Никогда». Опять это слово… Невыносимое слово! И опять и опять эти строчки:
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом…
И что это вздумалось Вареньке видеть такой сон! И разве это про него?!
А до чего все-таки хороша жизнь! И горы эти… и небо! Так бы сидел и смотрел всю жизнь.
Но ему все равно не дадут.
Только пусть так и останется:
Из пламя и света
Рожденное слово.
Он приподнялся на стременах и посмотрел вокруг. Потом уселся покрепче в седле и, вздохнув, дал шпоры коню.
* * *
Перекатывался, глухо ворча, отдаленный гром. На фоне темной тучи с белым краем большой орел, широко раскрыв крылья, пролетел над Перкальской скалой и точно растаял где-то в вышине.
Низко носились ласточки, и напряженная, тревожная тишина ждала только мощного удара, от которого загудит, вздрогнет воздух, и земля, и человеческое сердце.
Лермонтов, закинув голову, смотрел на бегущие низко облака. С каким-то непонятным восторгом он вслушивался в торжественную тишину.
Глебов, бросив на середину площадки свою фуражку, считает от нее, отмеривая барьер:
– Раз-два… три-четыре…
Теперь Столыпин, сердито оттолкнув ногой брошенную Глебовым фуражку, отмеривает шаги, и его длинные ноги чуть-чуть увеличивают расстояние.
И опять прокатился в отдалении гром.
– Монго, скоро начнется, как, по-твоему?
– Как только будет точно отмерен барьер.
Это сказал Мартынов.
– Ты о чем говоришь? – спросил он.
– Я полагаю, вам ясно: о том, для чего мы здесь встретились, – о дуэли! – ледяным голосом ответил Мартынов.
– А я о грозе, – сказал Лермонтов и отвернулся.
– Господа! – громко обратился ко всем Столыпин, и Лермонтов впервые услышал, что голос его дрожит. – Я предлагаю прекратить эту дуэль! Она невозможна! Недопустима!..
– Она не более недопустима, чем всякая другая дуэль в мире, – с раздражением ответил ему Мартынов. – Господин Столыпин когда-то сам привез дуэльный кодекс из Европы.
Лермонтов снова посмотрел в лицо своего противника.
– Неужели же тебе так не терпится убить меня?
Мартынов молчал.
– Николай Соломонович! Подумай!.. – крикнул Столыпин.
– Брось, Монго, не надо так волноваться. Есть более важные вещи на свете.
Столыпин обратился к Глебову:
– Позвольте в таком случае взглянуть на оружие.
– На каком основании? – возражает Васильчиков.
– На основании того же кодекса, – взволнованно говорит Столыпин, – потому что ежели вы взяли пистолеты кухенрейтерские, а не дуэльные, то при расстоянии в десять шагов…

– Но шансы противников одинаковы! – прерывает его Васильчиков.
Столыпин в отчаянии закрывает лицо руками.
– Нет, о нет, боже мой!..
Лермонтов ласково дотрагивается до его руки:
– Не надо, не надо!..
– Я предлагаю приготовиться! – резко говорит Васильчиков. – Темнеет очень быстро. Сейчас может начаться дождь!
Проходя к своему месту, Лермонтов на мгновенье задерживается и опять смотрит на Мартынова.
– Николай Соломонович, – говорит он спокойно, – мы с тобой часто по-пустому ссорились и дразнили друг друга, особенно я, но никогда врагами не были.
– Я предлагаю начинать дуэль, пока не разразилась гроза… Пора начинать! – вместо ответа говорит громко Мартынов.
– Раз-два… – считает Васильчиков.
– Погоди, умник, одну минуту! Одну минуту! – повторяет Лермонтов – Ах, боже мой, я совсем забыл… Монго, голубчик, передай когда-нибудь Краевскому, он поймет… Эти строчки так и надо оставить.
– Приготовьтесь! – командует голос Васильчикова.
– Сходись!
Противники делают несколько шагов навстречу друг другу и останавливаются.
Лермонтов стоит лицом к Перкальской скале, немного выше Мартынова, и позиция его менее выгодна для прицела, но он и не целится: он медленно поднимает руку с пистолетом вверх, в тучу…
– Десять! – кричит Глебов.
В этой страшной тишине, когда затих гром, кажется, невозможно резким взволнованный голос Мартынова, который старательно целится в упор из дальнобойного пистолета:
– Так стемнело, что я не вижу пистолетной мушки!
Лермонтов спокойно сгибает свободную руку, прикрывая ею бок, по всем правилам дуэли.
Мартынов продолжает целиться.
– Стреляйте же, господин Мартынов, черт вас возьми, – вскрикивает, наконец, Трубецкой, – или я разведу вас!
Яркая молния освещает белым огнем лицо Лермонтова: прекрасные темные глаза, насмешливо улыбающийся рот.
И потом через секунду, вскинув голову кверху, легким жестом вытянув руку с пистолетом, он стреляет… в тучу.
Громовой раскат, от которого вздрогнули горы, заглушает его выстрел и другой. В то же мгновенье гибкое тело Лермонтова падает на землю, точно срезанное серпом.
Четверо подбежали к нему. Лермонтов не дышал…
Они все еще стояли под проливным дождем, когда на краю площадки, из кустов, закрывавших ее от дороги, появилась голова Вани. Тяжело дыша, Ваня смотрел на стоявших. Взглянул на землю… и увидел. И, бросившись к нему, обнял обеими руками, прижавшись головой к мокрому сюртуку.
– Михал Юрьич! Батюшка!! Ваше благородие!!! Недоглядел я! Недоглядел!.. Господи боже мой! Что же теперь бабушка ваша… Что в Тарханах-то наро-од!..
Потом он поднял лицо, по которому дождь и слезы текли одним ручьем, и тихо сказал четырем неподвижным фигурам:
– Эх вы, господа хорошие! Такого человека не уберегли.
ГЛАВА 28
На другое утро после дуэли Пятигорский бульвар пестрел голубыми жандармскими мундирами. Никто не знал, откуда они взялись за одну ночь и кому они нужны в таком количестве. Их стало вдруг очень много, а штатских – очень мало.
Это странное явление бросилось в глаза даже Надин Верзилиной, когда она вернулась из дома Лермонтова.
– О мама, – рыдая, сказала она, – я думаю теперь, что эти жандармы со злыми лицами следили за нашим дорогим Мишелем, что их почему-нибудь нарочно сюда послали! Я их узнала, узнала! Они всегда были и в парке и в ресторации, когда мы бывали там с Мишелем! И они были совсем, совсем штатскими, а теперь они все вдруг жандармы.
Она села на крылечко и, прислонившись головой к деревянному столбику, всхлипывая, как ребенок, повторяла сквозь слезы:
– И еще… еще я думаю, мама, что все мы… должны были гораздо больше беречь Мишеля!.. Потому что… потому что таких, как он, больше нет! Совсем нет!.. Нигде нет!
Мария Ивановна лежала в темной комнате, положив на голову полотенце, намоченное уксусом. Заперлась у себя, никому не показываясь, Эмили.
А Надин все сидела и плакала.
* * *
…Ночь кончилась, и восток уже порозовел, а в большом номере гостиницы Найтаки, который занимал флигель-адъютант Траскин, еще горел свет. Он писал очень долго, испортил два листа и теперь переписывал набело.
– Ну вот, кажется, все! – сказал, наконец, Траскин, посыпая письмо песком.
Он крикнул денщику, чтобы вызвал адъютанта.
– Похороны-то когда, завтра?
– Как священника, ваше высокопревосходительство, найдут. Первый отказался: «Он, – говорит, – на дуэли убит, значит, вроде самоубийцы».
– Ну, другого найдут. За деньги все можно. Никак уж и день скоро? – флигель-адъютант Траскин зевнул и взглянул мельком в окно на посветлевшее небо. – Теперь и отдохнуть не грех. Скажите, – обратился он к адъютанту, – чтобы Мартынову дали помещение получше, а то запихают черт его знает куда!
Траскин поднес к горящей свече сургучную палочку. Она затрещала, задымилась и загорелась.
Повертев пакет над огнем и наложив на него пять больших сургучных печатей, Траскин передал его адъютанту.
– Немедленно везите в Ставрополь, а там передадите фельдъегерю.
– Так точно, ваше высокопревосходительство!
– И чтобы фельдъегерь, не медля ни часу, отвез это в Петербург. Вам все ясно?
– Так точно, ваше высокопревосходительство.
Через четверть часа адъютант уже скакал в Ставрополь, чтобы передать пакет тому фельдъегерю, которому Траскин доверял свои секретные донесения.
ГЛАВА 29
Пятигорск прощался с Лермонтовым.
На заре, когда Машук еще был окутан легким туманом, в зелени деревьев весело перекликались птицы.
Старый комендант Ильяшенко, стоявший около гроба, насупив седые брови, спросил Столыпина:
– А где же золотое оружие? Ведь был, говорят, представлен?
– Что вы сказали?
– К золотому оружию был представлен этот мальчик. Где же оно?
– Золотого оружия не дал царь. Отказал.
Бережно несли его офицеры полков, где он служил: лейб-гвардии гусарского, Нижегородского, Гродненского, Тенгинского. Несли товарищи, несли люди, которые понимали, кого потеряла Россия…
Высоко над городом они остановились. Отсюда открывалась величественная панорама гор и бесконечная даль.
Розовеющие вдали снега Эльбруса и снеговая горная цепь – все было видно отсюда.
* * *
Ваня долго сидел около свежего холма. Все уже разошлись. Он сидел один.
– Ишь ты! – беззвучно прошептал Ваня, посмотрев наверх. – Чисто все небо золотое!
Когда стемнело, Ваня встал, взял со свежего холма несколько горстей земли и, расстелив большой носовой платок, бережно завернул в платок землю.
– В Тарханы отвезу, – прошептал он и побрел, вытирая слезы, вниз, к опустевшему домику, чтобы собираться в путь-дорогу – без Михала Юрьича, одному…
ГЛАВА 30
Большой дом стоял безмолвный и пустой.
Луч солнца осветил высокое кресло, стоящее у самого окна, и лицо старой женщины – такое застывшее и высохшее, точно от этой женщины давно уже отошла всякая жизнь.
Жизнь Елизаветы Алексеевны кончилась в тот страшный день, когда Акиму Шан-Гирею все-таки пришлось, наконец, сказать ей правду, а потом отвезти ее, полумертвую, в Тарханы.
А в Тарханах наступила весна. Но в избах царила какая-то торжественная скорбь. Надевали новые рубахи мужики, бабы повязывали темные платки и, не обмениваясь ни единым словом, шли к околице.
Прошло уже много месяцев со дня дуэли, и вот сегодня неотступная мольба Елизаветы Алексеевны, поддержанная просьбами и хлопотами петербургских и московских друзей, должна завершиться трагическим торжеством – тело Мишеньки с простреленным сердцем прибудет сегодня утром из Пятигорска и будет положено в тархановскую землю. Царь разрешил…
Лицо Елизаветы Алексеевны было как каменное. Ее веки не поднимались от пролитых слез.
Ее довели по ее желанию до поворота, где начиналась большая дорога, и она стояла, тяжело опираясь на палку.
Шествие приблизилось и остановилось.
Она повернула к ним лицо и спросила чуть слышно:
– Где Мишенька?.. Где Мишенька? – повторяла она все громче и, сделав страшное усилие, приоткрыла веки; и тогда сквозь туман, заволакивающий ее глаза, увидела поднятое высоко что-то темное и большое.
Этот страшный предмет поставили перед ней на землю, и, склонившись, она увидела свинцовый ящик.
– Здесь… Мишенька?
Больше она ничего не помнила.
Ее подняли, отнесли в дом и уложили. Она больше ничего не видела и не хотела ничего видеть.
Плакали бабы. А мужики, озираясь по сторонам, говорили негромко, что-де царские министры подослали на это черное дело лихих людей. И говорили еще шепотом некоторые, что, узнав о смерти русского поэта Лермонтова, русский царь сказал такие слова, о которых лучше было бы не знать его верноподданным. Но подданные все-таки узнали эти слова, позорные не только для царя всея Руси, но и для самого последнего человека.
* * *
…Тархановский парк, где когда-то бегал мальчик, опять шумел новой листвой.
В апрельское утро, когда в безоблачной синеве заливались беззаботные жаворонки, опустили в землю тело русского поэта.
Никто не нес за ним ни орденов на бархатных подушках, ни медалей, ни боевого золотого оружия.
Но у него было золотое и грозное оружие, принадлежавшее только ему и завещанное им родине и миру: его слово, рожденное «из пламя и света».








