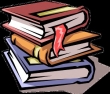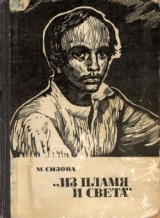
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 6
Широкий и пенистый ручей стекал с гор и шумел у самой стены духана. Этот однообразный, не смолкающий ни днем, ни ночью шум сливался с шелестом высоких тополей, окружавших духан, неподвижных в безветрии и взволнованно шептавших о чем-то своими бесчисленными листьями, когда пролетал мимо горный ветер, едва касаясь веток свежим дыханием.
На скамье около духана, над самым ручьем, задумчиво сидел человек в простой солдатской шинели, неопределенного на первый взгляд возраста. На его лице не было морщин, и в волосах не поблескивали серебряные нити. Но согнувшаяся спина и вся фигура – от опущенной головы до руки, устало брошенной вдоль тела, – говорили о том, что жизнь обошлась с ним не очень-то ласково и что в этом еще молодом человеке живет уже немолодая, умудренная жизненным опытом и порядком уставшая душа.
Он сидел, не шевелясь, и слушал, как, журча и поворачивая мелкие камушки, бежит у его ног бурливый ручей, и, видно, забыл о том, что на коленях у него лежит небольшая тетрадь с открытой и полуисписанной страницей. Наконец он взял карандаш и, раздумывая, как бы не решаясь, добавил к написанному две строки. И только когда, оторвавшись от дум, он поднял глаза, стало ясно, что он еще молод и полон доверия к жизни и к людям: так ясен и чист был открытый взгляд его голубых глаз.
Он поднял их, потому что услыхал лошадиный бег, стук копыт, громкий голос хозяина с противоположной стороны духана и чей-то молодой, ответивший ему голос, и понял, что всадник, соскочивший с коня, сделал остановку в том же духане.
Через несколько минут он увидел сначала чью-то четкую тень, упавшую на землю, уже освещенную мягкими вечерними лучами заходящего солнца, а потом и человека в военной форме. К самому краю оврага подошел, по-видимому, тот самый всадник, который только что говорил с хозяином. Он посмотрел вниз, на ручей, потом вверх, на вершину высокого тополя, и, прислонившись, достал небольшую записную книжку и, покусывая карандаш, в раздумье повторив шепотом какие-то слова, занес несколько коротких строчек на ее чистую страницу.
…помню я, как сон,
Твои кафе́дры, залы, коридоры,
Твоих сынов заносчивые споры:
О боге, о вселенной и о том…
– Конечно, так будет лучше, – словно про себя, сказал Лермонтов.
Когда он снова задумался и опять начал покусывать свой карандаш, сидевший на скамье человек негромко произнес:
– Мы с вами, кажется, занимаемся одним и тем же делом?
Лермонтов обернулся и посмотрел на человека, сидевшего на скамейке.
– Вы думаете? – спросил он. – Впрочем, это вполне возможно. Я не знаю, чем занимаетесь вы, а я поправлял сейчас свои старые стихи, которые почему-то пришли мне в голову по дороге сюда.
– Что же считаете вы своим настоящим делом: службу военную, ибо вы, насколько я могу понять, прапорщик драгунского полка, или служение музам?
Молодой прапорщик печально посмотрел на быстро бегущую воду и в раздумье сказал:
– Вы знаете, я иногда даже самому себе с трудом могу ответить на этот вопрос. Но чувствую все же, что высокое назначение поэта могло бы быть моим назначением, если бы…
– Если бы? – повторил сидевший перед ним человек.
– Если бы я этого был достоин, – закончил твердо молодой прапорщик, с удивлением подумав, что он, пожалуй, впервые в своей жизни высказал другому человеку, да еще совсем незнакомому, ту глубоко скрытую от всех мысль и тайную надежду, в которой он редко признавался и самому себе.
– Вы правы, – подтвердил незнакомец. – Назначение поэта, быть может, самое высокое из тех, которые даются человеку, и сознавать это – значит до некоторой степени уже быть его достойным.
– Вы в самом деле так думаете? – быстро спросил Лермонтов.
– Я глубоко убежден в этом.
Молодой прапорщик пристально всматривался в нового знакомого, вернувшегося к своему занятию.
Потом он сделал шаг к нему и голосом, в котором слышно было внезапное и глубокое волнение, тихо спросил:
– Виноват, не направляетесь ли вы в Караагач, в Кахетию?
– Вы угадали, – кивнул головой человек в солдатской шинели. – Там, за домом, ждет моя тележка, в которой по обыкновению спит мой провожатый – казак Тверетинов. Я еду именно в Караагач, в Нижегородский полк.
– Простите меня еще раз, – сказал прапорщик, снимая фуражку и открывая прекрасной формы благородный лоб и темные волосы со светлой прядью надо лбом, – но вы… вы не Одоевский?..
– Да, – ответил с легким удивлением сидевший на скамье человек, – я – Александр Одоевский. Прошу прощения, я хочу знать, кто вы?
– Мое имя вам, вероятно, ничего не скажет. Я – Лермонтов и попал на Кавказ за стихи, которые правительству угодно было назвать непозволительными.
* * *
Последний луч погас на верхушках деревьев, и в быстро темневшем небе уже проступали первые звезды. А двое проезжих все еще сидели рядом на скамейке и разговаривали с таким увлечением, что не обратили никакого внимания на старого духанщика, уже второй раз приходившего сообщить им, что ужин сейчас будет готов.
Одоевский всматривался в потемневшую горную цепь.
– Когда встречаются люди, объединенные той глубочайшей связью, которая создается только родством мыслей, чувств и надежд, они узнают друг друга с первых слов. Так и мы с вами, не правда ли? – сказал он.
– О да!..
Лермонтов глубоко вздохнул и с наслаждением подставил лицо вечернему ветру.
– Однако, я слышу, хозяин опять зовет нас ужинать, – сказал Одоевский, вставая. – Здесь дают неплохой шашлык и хорошее молодое вино. Пойдемте!
Он крепко пожал Лермонтову руку и вошел в духан.
После ужина они проговорили всю ночь, сидя на скамейке над пенистым ручьем, и рано утром продолжали путь уже вместе.
Как хорошо было, добравшись к ночи до какого-нибудь заезжего двора или духана, выйти, наконец, из кибитки и устроиться где-нибудь на ковре, перед камельком, со стаканом молодого виноградного вина! Вино быстро согревало, духанщик курил в углу, а два путешественника то молча смотрели на огонек, то читали друг другу стихи, то вспоминали прежние беды и прежнее счастье. Они оба были моложе годами, чем душой, оба были поэты, и оба благоговейно любили каждую строчку Пушкина. И в первые же дни дружбы, перейдя на «ты», могли часами говорить о поэзии и вспоминать пушкинские стихи.
– Никогда мне не забыть, – сказал как-то Одоевский, – каким светлым праздником был для нас тот день, когда мы получили с трудом переправленное к нам пушкинское «Послание в Сибирь»! Своих стихов я ведь почти никогда не записываю, но мой ответ Пушкину записал и спрятал и вместе с его «Посланием» всегда вожу с собой.
Он достал небольшую тетрадь в самодельной обложке.
– Слушай:
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя, —
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей, —
И радостно вздохнут народы.
Оба долго молчали.
– Заедем вместе на денек в Кизляр, к Катенину – он там комендант крепости, – уговаривал Лермонтов, – оттуда на берег Терека, в Шелкозаводск – к моим родным, а потом прямо в Тифлис. Я без тебя не поеду!
– Нет, нет, Михаил Юрьич, из-за меня не меняй своих планов. Я должен живым или мертвым явиться в полк к седьмому ноября, а твое положение все-таки другое. Вот там, в Кахетии, уж будем вместе. Я тебя ждать буду, – ласково сказал Одоевский.
Они расстались, и Лермонтов направился через Кизляр в Шелковое, к Хастатовым. Прощаясь, Одоевский крепко обнял своего нового друга.
ГЛАВА 7
В Кизляре Лермонтов не задержался. Приехав поздно вечером, он передал коменданту Кизлярской крепости Катенину письмо его старого знакомого Вольховского, которому, в свою очередь, писал его прежний товарищ по полку Философов, прося при случае помочь молодому своему родственнику – Лермонтову.
Лермонтов знал, что и Катенин и Вольховский были некогда связаны с «Союзом благоденствия» и что Катенин был близким другом Пушкина. Ради одного этого стоило проехать несколько десятков лишних верст, чтобы повидаться с ним.
Они проговорили до глубокой ночи.
А на рассвете следующего дня он уже выехал, торопясь к Хастатовым.
В Шелковом его встретили с распростертыми объятиями.
Теперь уже надо было торопиться в Тифлис, в Кахетию, к своему полку. Но как оставить сразу Шелкозаводск, всю своеобразную обстановку этого имения среди казачьих станиц, всю эту жизнь, которая давала столько ценного и для стихов и для прозы!
К счастью, строгий срок приезда в Тифлис, ввиду возможных трудностей и задержек длинного пути, особенно поздней осенью, определен не был.
И он все еще медлил уезжать и подолгу бродил берегом Терека или по станице, прислушиваясь к какой-нибудь песне, случайно долетевшей до его слуха, всматриваясь в красивые, открытые лица, наблюдая народные обычаи. И хозяева имения были людьми примечательными: находившийся в это время в Шелкозаводске в отпуску Аким Акимович Хастатов и бабушкина родная сестра Екатерина Алексеевна, горевавшая о недавно умершей дочери, жили в обстановке постоянных военных тревог, обладали редкой храбростью и самым беззаботным образом относились к опасности.
– Завтра, Мишенька, непременно в ту станицу, что тебе так понравилась, на свадьбу поедем, – сказала как-то вечером Екатерина Алексеевна своему внучатному племяннику.
– Что вы, баба Катя! Я завтра чуть свет в дорогу. В Тифлис нужно, ни часу больше медлить не могу.
– Тифлис-то не убежит ведь? – резонно возразила Екатерина Алексеевна.
– Он, конечно, не убежит, но может принять меня так, что мне впору бежать будет.
– Мишель, конечно, прав, – решил Аким Акимович, – ехать ему надо. Но я очень надеюсь, что в Тифлисе у него найдутся хорошие заступники.
* * *
Когда рано утром, простившись накануне с родными, Лермонтов сошел с крыльца, чтобы сесть на лошадь, он был до крайности удивлен, увидав, что его бабушка Катя, одетая в мужской костюм, уже сидит в маленькой тележке и, по-видимому, ждет его.
– Куда вы, баба Катя, так рано? – спросил он, подойдя к ней и целуя ее руку.
– Как куда, батюшка? Тебя провожать! Едем, раз тебе пора: садись на коня.
Лермонтов был поражен.
– Вы меня, баба Катя, наверно, за институтку принимаете? Где же это видано, чтобы дама охраняла военного?! Лошадь моя – и та смеяться будет. Вон она как глядит!
– Разве что лошадь засмеется да ты, батюшка, а больше никто. Я здешний народ лучше тебя знаю – всякое может случиться. Садись-ка, садись, да шпоры дай коню, чтобы не шибко смеялся. А я впереди еду. Недаром меня «авангардной помещицей» зовут.
Баба Катя хлестнула своего рысака, и Лермонтов помчался за ней.
Они ехали так почти до полудня. Наконец баба Катя остановилась у перекрестка, посмотрела, загородив глаза ладонью, во все стороны и сказала:
– Ну, теперь, Мишенька, поезжай, господь с тобою, один. Дорога отсюда прямая. Через час будешь у заезжего двора. Дворишко плохой. Ты там ничего, кроме чая, не кушай. Пища там зловредная. А закуси тем, что я тебе на дорогу сама приготовила. Развяжи тючок-то. Дай я тебя обниму!
Лермонтов подъехал к тележке, и баба Катя крепко, по-мужски обняла его.
Через несколько минут стук колес замер за поворотом дороги, и уже не было слышно ничего, кроме однообразного, неумолкающего шума Терека, ритмичного шума, который навевал так много певучих строк!
ГЛАВА 8
Лермонтов ехал почтовым трактом, который вел от Кизляра в горы, и, опустив поводья, неторопливо посматривал вокруг.
Сумерки уже погасили яркие краски заката, которыми недавно пламенело все небо.
Сколько уже раз наблюдал он здесь, на Кавказе, это быстрое угасание торжественно пылающей вечерней зари и короткие сумерки, после которых почти сразу выступают звезды.
Кавказское небо, горы Кавказа…
Здесь, как нигде, бушевала в нем великая жажда творческого труда, рождались планы, подводились итоги…
Ах, если бы здесь написать всего «Демона» по-новому!.. И набросать хотя бы первые главы того романа, который он задумал еще в Пятигорске, – романа о современнике, герое этих смутных дней, человеке, в котором нет ни твердой воли, ни упования, ни больших страстей.
Он и в самом себе ощущал минутами какое-то холодное дыхание этой эпохи всеобщего разочарования, и усталости, и охлаждения ко всему.
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка… —
родились вдруг строчки…
Так ли это? Не кажется ли это ему только в те минуты, когда взгляд на все окружающее становится холодным и безучастным, когда какой-то тайный холод воцаряется в душе? А где же тогда жажда борьбы и жажда совершенства? А где же…
Он не сразу заметил, что лошадь его плетется шагом и что близится ночь. Ночью в этих местах небезопасно. Да еще военному… И вдруг словно какие-то тени мелькнули у самой дороги…
Лермонтов пришпорил коня, и в ту же минуту из-за обломков уцелевшей от древних времен стены раздался выстрел, и пуля пролетела мимо Лермонтова, чуть-чуть не задев переднюю ногу его лошади.
Он снова пришпорил коня и, надвинув поглубже фуражку, чтобы не снес ее встречный ветер, помчался вихрем вперед и скоро оставил за собою погоню.
Это небольшое происшествие возбудило и почти развеселило его. Быстро стучало сердце, кровь прилила к щекам, тело точно срослось с напряженным телом летящего птицей вперед прекрасного горного скакуна.
Ваня, бывший теперь его денщиком, догнал его через час на заезжем дворе. В маленькой комнатке, за столом, покрытым зеленым сукном, Михаил Юрьевич играл в карты со своим случайным партнером. Они записывали мелком проигрыши и весело распевали:
Но этой песни Ваня совсем не разобрал.
ГЛАВА 9
Тифлис был еще далеко. Лермонтов ехал холмистой долиной, с наслаждением вслушиваясь в неумолчное журчание реки, вьющейся по каменистому ложу.
Ранним утром в прозрачном воздухе отчетливо выступали ближние невысокие горы, темно-зеленые, покрытые частым кустарником.
По склонам холмов кудрявились виноградники с синеватыми темными гроздьями, и яркой бронзой горела на солнце осенняя листва.
На горных выступах возвышались кое-где крепости и сторожевые башни. Каменные стены местами обвалились. Зубцы уцелевших укреплений вырисовывались на фоне прозрачного утреннего неба.
За стройными, еще не облетевшими тополями темнели строгие контуры кипарисов около красных черепичных крыш небольших домиков с узкими деревянными подпорками веранд.
Вечерело, когда вдали показалась густая зелень садов и тесное скопление больших и малых домиков, и вот за поворотом дороги, за речным изгибом он увидал, наконец, Мцхет – древнюю столицу Грузии. Кипарисы, казавшиеся вечером черными, темнели между оградами садов и над крышами низких домиков, теснившихся к Куре, мутные воды которой сливались здесь с голубовато-зеленой Арагвой.
Лермонтов тронул поводья коня, и стук копыт по деревянным мосткам гулко пронесся над рекою: скоро наступит вечер, нужно торопиться, чтобы засветло увидеть древний собор.
Собор стоял величавый и пустынный, овеянный печалью ушедших в прошлое веков, ушедшей в прошлое жизни. Седой сторож, завидев из окна убогой сторожки приближение посетителя, вышел к нему с ключами. Пока он дрожащими руками отпирал тяжелые двери, Лермонтов всматривался в черты его изможденного лишениями и годами лица. Оно носило несомненные следы былой красоты – суровой и мужественной.
Шаги гулко отдавались под сводами древнего храма, где покоились давно почившие властители Грузии.
Огонек единственной лампады, с трудом боровшийся с сумраком, напомнил ему о том, что скоро будет совсем темно.
Он вышел на площадь, заросшую травой, и увидал сбоку, на горе, уходящие в вышину, словно вырастая из темноты и сливаясь с ней, суровые очертания полуразрушенного монастырского здания. На зеленоватом вечернем небе оно выступало четко и казалось массивным. Отдельные части стирались расстоянием и сумраком, но от этого только отчетливее вставал в вышине общий контур.
Дав денег старому сторожу, Лермонтов присел на камень – остаток разрушенной ограды.
Но старик, поблагодарив, не собирался уходить и, видимо, рад был поговорить с щедрым посетителем. Он мало что мог сказать по-русски, но достаточно для того, чтобы за его немногословной речью встали для Лермонтова яркие картины прошлого.
С суровым благоговением рассказывал старик о прошлом величии его родной Грузии, о прошлом великолепии собора.
Двурогий месяц засиял в синей пустоте неба, когда, вздохнув, кончил свой рассказ старый монах.

Лермонтов долго бродил потом по улицам, прислушиваясь к плеску Арагвы и Куры и стараясь запомнить рассказ старого монаха, бывшего в юности послушником в монастыре. Его воображению рисовался образ юного послушника – «бэри», или «мцыри», – в сердце которого жила страстная жажда свободы и борьбы за нее. Он вспомнил своего «Боярина Оршу» и мысленно вложил в уста «мцыри» слова Арсения:
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил – я так же мог бы жить!..
Судьба «мцыри» была такой же мятежной судьбой борца, какой он наделял своих любимых героев.
ГЛАВА 10
Ранним утром, когда только что вставшее солнце быстро прогоняло из ущелий осенний прозрачный туман, Лермонтов подъехал к Тифлису.
Предгорья и каменные уступы по одну сторону дороги были почти лишены растительности. Но чем ближе к городу, тем чаще стали встречаться отдельные деревья, и, наконец, окруженный и точно сжатый кольцом гор, показался в солнечной дымке, залитой мягким светом теплого ноябрьского солнца, Тифлис.
Лермонтов въехал в город. Быстрые мутные воды Куры бежали здесь под горбатым мостом вдоль отвесного берега, где, держась каким-то чудом, лепились одни над другими домики и лачуги с маленькими балкончиками, нависшими так близко над самой Курой, что казалось, они вот-вот сорвутся.
В сравнении с ними еще строже и неприступней выглядели выступавшие рядом массивные стены старого замка и вырисовывался на другом берегу контур мечети с полумесяцем в вышине и темными кипарисами у подножия.
Осеннее солнце юга уже согревало безветренный воздух, когда Лермонтов вышел из дома, где остановился, и, захваченный очарованием города, отправился побродить по горбатым улочкам, которые круто карабкались куда-то в вышину и уже кипели жизнью. То тут, то там слышались гортанный говор прохожих и протяжные голоса уличных продавцов, однообразно выкрикивавших:
– Мацони! Мацо-они![44]44
Мацони – кислое молоко.
[Закрыть]
Ревел где-то застоявшийся ослик, и издали слышны были громкие приветствия, которыми обменивались обитатели узеньких улиц. Видневшиеся повсюду балкончики с тонким узором металлических решеток, с изящной резьбой деревянных перил и столбиков, низко нависавшие над улицами, были так сближены, что через улицу переговаривались, как сидя в одной комнате. Но это не мешало жителям, беседуя между собой, кричать во всю силу своих легких и жестикулировать с таким воодушевлением, точно они предупреждали друг друга о страшной опасности.
Нельзя было не заблудиться в этом нагромождении тесных домиков и двориков, каменных ступенек, крылечек и балконов, увитых виноградом. Лермонтов дважды возвращался на одно и то же место, пока, наконец, перешагнув через ограду, не вышел на узкую дорогу, круто идущую в гору. Дома и домишки остались позади.
Он поднимался все выше, зная по рассказам, что дорога эта ведет именно туда, куда ему нужно, – к горе Святого Давида, где похоронен Грибоедов.
Лермонтов долго стоял у его могилы, с тоской думая о безвременной и трагической смерти Пушкина, о страшной гибели молодого Грибоедова… о смерти Бестужева… О том, что злой рок преследует лучших людей России…
ГЛАВА 11
На другой день после приезда в Тифлис Лермонтов решил посетить дом князя Чавчавадзе. Старинная дружба, любовь и свойство связывали с домом Чавчавадзе его троюродную тетку Прасковью Николаевну Ахвердову.
У нее в Петербурге он видел и князя Александра Гарсевановича Чавчавадзе, когда тот в 1834–1836 годах жил в северной столице.
Куда же было ему идти прежде всего, как не к Чавчавадзе, чья дочь Нина Александровна была женой Грибоедова?
Дом Чавчавадзе все знали, и до него было близко, но Лермонтову хотелось еще пройти по главной улице города и сойти по какому-нибудь из горбатых переулков, сбегающих по крутым спускам, как ручейки в широкую воду реки. Пройдя несколько домов, он направился через улицу, чтобы рассмотреть поближе тонкую резьбу сложного орнамента деревянной ограды маленького балкончика. Но не успел он подойти к цели, как чуть не был сбит с ног черномазым, черноволосым, кудрявым мальчишкой, летящим стрелой с большим чуреком в руке, от которого он уже откусил порядочный кусок и, несмотря на свой стремительный галоп, все же умудрялся его жевать.
– Хачико! Хачико! – летел вслед ему гортанный женский голос, сопровождавший свой зов целым градом слов – несомненно, не очень ласковых.
Вот и снова вечер. Быстро темнеет в Тифлисе.
На узких кривых улицах старого города исчезают ослики с поклажей. Тихо позвякивают бубенцы каравана верблюдов, мерно и величаво бредущих к ночлегу.
В богатых армянских кварталах – сравнительная тишина, и только оттуда, где гостеприимные хозяева принимают гостей, несутся песни, звуки музыки и звонкий смех. Когда все это затихает, слышится только шум деревьев да журчанье фонтана в чьем-нибудь саду.
Но все еще шумит по ту сторону Куры населенный бедными армянами беспокойный Авлабар.
После Авлабара Лермонтову показался тихим живописный татарский Майдан, где в часы зари раздается голос муэдзина со старой мечети да бесшумно мелькают фигуры женщин с лицами, закрытыми чадрой.
Когда он подходил к дому Чавчавадзе, веселый и жизнерадостный город жил уже вечерней жизнью.
* * *
Седая грузинка с энергичным, строгим лицом, согретым умными и добрыми глазами, вышивала, сидя на тахте, устланной мягким ковром.
Сидевшая напротив на низкой скамеечке темноволосая молодая женщина читала ей вслух. Лермонтову не видно было лица этой женщины или девушки, но голос удивил его какой-то застывшей нотой печали, которая словно дрожала за всеми произнесенными ею словами, точно эта застывшая печаль была единственной мелодией, доступной ее душе.
Она услыхала шаги, вздрогнула и встала.
Лермонтов назвал себя.
Седая грузинка отложила в сторону свое вышивание и посмотрела на гостя с приветливой улыбкой:
– Наконец-то! Мы вас давно ждем. Ваша тетушка, Прасковья Николаевна, еще летом писала из Петербурга, что вы у нас будете. И мы все думали: «Как же так, вот уже осень, а его все нет!»
Она говорила по-русски правильно, но с сильным акцентом.
– Ну вот, познакомьтесь: это Нина Александровна Грибоедова, урожденная Чавчавадзе. Мы знаем, что вы поэт. Здесь все это знают и поэтому с особенным нетерпением ждут вас. В нашем доме любят и чтят поэтов.
Лермонтов посмотрел на прекрасное грустное лицо молодой вдовы убитого поэта. Так вот почему вздрагивают при малейшем стуке ее плечи и в звуках ее голоса застыла печаль!
На дорожке сада показались две тоненькие девичьи фигурки. Девушки шли, держась за руки, и напевали старинную грузинскую песенку, которую Лермонтов уже слышал в Тифлисе.
Они вошли в комнату. Лермонтов посмотрел на них и невольно залюбовался красотой их лиц и стройных фигур, особенно той, что была повыше и постарше. Черные косы падали ей на грудь из-под маленькой, шитой золотом шапочки, на тонком матово-бледном лице огромные глаза темнели под темными дугами изогнутых бровей. Лицо младшей было покрыто бронзовым загаром, веселый взгляд ее с удивлением обратился на Лермонтова.
– Ну, идите, идите! Знакомьтесь! Это Майко и Майя Орбелиани, мои племянницы и большие баловницы. Занимайте гостя, а я пойду посмотрю, что в доме делается. Мы вас нынче не отпустим, – решительно сказала Лермонтову седая женщина. – Александр Гарсеванович вас давно ждет. Жаль, что он теперь в Цинандали. Дай мне книгу, Нино́!
Нина Александровна подала книгу, которую только что читала, и Лермонтов увидел ее заглавие: это был Пушкин.
Странное чувство охватило его: ему показалось, что когда-то давно он здесь был и все ему знакомо – устланная коврами зала, высокие деревья у окон и эта южная ночь.
Прощаясь, Лермонтов обещал хозяевам, явившись в свой полк, немедленно посетить знаменитое Цинандали – родовое имение князей Чавчавадзе, куда готовилась ехать вся семья.
Так прекрасна была эта осенняя южная ночь, полная звездного света и каких-то незнакомых ночных звуков старого восточного города, что он не мог уйти в душную комнату, и долго бродил по улицам, и долго стоял на мосту над Курою. Торжественно покоились спящие за высокими оградами сады, и на освещенные лунным светом каменные ступени падали, ломаясь, черные тени кипарисов.
Он постоял еще перед небольшим домом с верандой, густо увитой виноградом. Слабый огонь горел и светился внизу, в полуоткрытой двери, выходившей на улицу. Перед едва освещенной лестницей стояла неподвижно человеческая фигура, закутанная с головой не то черной чадрою, не то плащом. Она стояла не шевелясь, в каком-то упорстве или ожидании подняв голову к темному звездному небу. И казалось, скрыта в этой неподвижной закутанной фигуре какая-то тайна, и тайна эта была похожа на песню, мелодия которой постепенно овладевала сердцем.