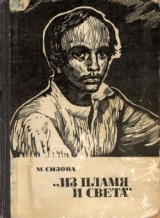
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 21
Получивший прощение 7 декабря, Раевский вернулся только весной. В вечер его приезда Лермонтов вбежал к нему в дом и, как был – в шинели, промокшей под весенним дождем, бросился ему на шею. И хотя Святослав Афанасьевич знал горячность его натуры, знал, как горевал он, упрекая себя за то, что стал невольной причиной его ссылки, он был растроган глубокой радостью своего молодого друга.
– Прости, милый, прости!.. – повторял Лермонтов, глядя на Раевского полными слез глазами. – Ты из-за меня столько перенес!..
– Нет, Мишель, нет, уверяю тебя. Просто мое начальство меня не любило и воспользовалось случаем, чтобы удалить меня из департамента.
В этот же вечер Лермонтов по старой памяти дал Раевскому самый подробный и точный отчет обо всем, что написал, и до глубокой ночи рассказывал ему о Кавказе и о своих кавказских встречах.
– Теперь ты самим Жуковским признан наследником Пушкина! – сказал Святослав Афанасьевич, увидав у Лермонтова экземпляр «Ундины» с собственноручной надписью Жуковского и узнав, что и Жуковский и Вяземский очень хвалили «Тамбовскую казначейшу», которая была напечатана в дорогом сердцу Лермонтова «Современнике», основанном Пушкиным. Прочитав его поэму, эти два друга Пушкина сами и отдали ее в «Современник».
– Наследником? – усмехнулся Лермонтов. – Нет, далеко мне до Пушкина, Святослав Афанасьевич!
Он умолк, нахмурился, и Раевский поспешил перейти к другой теме:
– К нам в Олонецкую губернию мало доходило сведений о литературных делах. Чем занят сейчас Чаадаев? Я все думал о его страстном «Философическом письме» в «Телескопе» и там, в одиночестве, вспоминал пушкинское стихотворение и твои взволнованные строки:
Свершит блистательную тризну
Потомок поздний над тобой
И с непритворною слезой
Промолвит: «Он любил отчизну!»
И боюсь, что ты прав: его высокий патриотизм оценят только в будущем.
– О Чаадаеве давно уже никто ничего не слышал, – ответил Лермонтов. – Знаю только, что, даже когда его объявили сумасшедшим, он мужественно молчал в ответ на все поклепы и обвинения. А «Телескоп», как тебе известно, закрыт, Надеждин сослан в Усть-Сысольск…
– Знаю… – вздохнул Раевский – Да… Чаадаев – человек большой внутренней силы… Слушай, а как с книгой Булгарина «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях…»? Наверно, лежит в лавках, несмотря на дешевизну и беспардонную саморекламу Фаддея в «Северной пчеле»? Слухи об этом «замечательном творении» дошли до Олонца. Ведь этакий подлец – Россию продает во всех смыслах и пишет о ней тоже во всех смыслах! Эх, нет на него больше Пушкина! Хоть бы ты хлестнул его эпиграммой!
– Да я написал, – неохотно сказал Лермонтов, – но получилось не то… Прочти вот, она у меня здесь.
Раевский взял из его рук записную книжку.
Россию продает Фаддей
И уж не в первый раз, злодей.
– Ловко, – засмеялся он.
– Нет, Святослав Афанасьевич, Пушкин бы лучше сказал – острее, сильнее!
– Ну и тебе, Мишель, бога гневить нечего: в двадцать четыре года ты уже знаменит и прославлен. Я горжусь тобой!
– Что, – засмеялся Лермонтов, – ты и не подозревал у меня гривы? Я ведь с некоторого времени – лев и потому каждый день должен ездить на балы. В течение месяца на меня была мода, меня отбивали друг у друга. Это по крайней мере откровенно: не правда ли? Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими как триумфом. Тем не менее я скучаю. Не странно ли, не смешно ли, что та самая знать, которая была так оскорблена моими стихами «Смерть поэта», теперь наперебой зовет меня в свои салоны, где я задыхаюсь от никчемных разговоров и развлекаюсь, притворяясь влюбленным по очереди во всех великосветских красавиц.
– А на самом деле?
– Что на самом деле? – переспросил Лермонтов.
– Я хотел бы знать, кому же ты отдаешь свое сердце по-настоящему? Неужели оно остается безучастным ко всем твоим успехам?
Что-то дрогнуло в лице Лермонтова, и, точно нехотя, он ответил:
– Ты сказал «по-настоящему», а я этого касаться, признаюсь тебе, опасаюсь. Я недавно простился с этим «настоящим», а все остальное… Что же тебе сказать о нем? Оно может иногда задевать, иногда радовать и волновать, но в конце концов пролетает мимо, не касаясь души. Так-то, мой друг! – закончил он, вставая.
Но уходить медлил, в раздумье остановившись в дверях.
– Да, опоздал я, Святослав Афанасьевич, и простить себе этого не могу.
– Ты это о чем, Михаил Юрьевич?
– А вот о чем. Где я был в тридцать шестом году, когда вышел первый номер пушкинского «Современника»? Ведь какие имена там стояли, кто печатался! Лучшие из лучших! Гоголь, Крылов, Жуковский, Вяземский, Баратынский, Языков и потом Кольцов… Я знаю, по сравнению с ними (уж о Пушкине не говорю) я был тогда только начинающим учеником. Но все-таки как жаль! Ведь среди них тогда сияло солнце пушкинского гения. А теперь в журналах застой и такая мертвечина! И все боятся каждого слова. А я…
– А ты, – перебил его Раевский, – уж не ученик теперь.
– Ты забываешь, что я гусар лейб-гвардии. Имею ли я право быть членом такой семьи? Ты, к счастью, не испытал военно-придворной службы. А я в ее тисках, и на отставку надежды мало.
Да, как и в юнкерские годы, ему теперь опять приходилось жить двойной жизнью.
«Большой свет» открыл перед ним свои двери, приняв его по безмолвному, но общему согласию в число своих полноправных членов.
Но «большой свет» требовал игривости ума и легкости чувства. И потому после салонов и блестящих балов он бежал к себе, в уединение, или в тесный круг немногих друзей, которые его понимали, чтобы там, скинув светскую маску, стать опять самим собою.
Он не звал их к себе и не имел своей целью создание кружка. Они сами приходили к нему – и незаметно создавалась вокруг него группа людей, политические и общественные убеждения которых не годились для светских салонов.
Но он уходил и от них в те часы, когда охватывала его непреодолимая жажда творчества.
В такие дни, а чаще в такие ночи, он запирал свою дверь, и даже Монго не удавалось вытащить его из кабинета.
* * *
Прав был Раевский, говоря, что не только «большой свет» открыл теперь перед Лермонтовым свои двери, – литературный Петербург увидел в нем русского поэта первой величины. После стихов на смерть Пушкина, прогремевших по всей России, и Жуковский, и Вяземский, и все те, кого Пушкин объединил вокруг своего «Современника», следили за судьбой молодого поэта и за всем, что удавалось ему пересылать с Кавказа то Святославу Афанасьевичу, то Краевскому. И потому привезенная Лермонтовым с Кавказа и собственноручно переданная им Жуковскому «Тамбовская казначейша» сразу попала в «Современник». «Демона» еще никто не читал, но разговоры и слухи об этой поэме распространялись в литературном кругу Петербурга и усиливали интерес к ее автору.
Но, видя это, поэт, строгий к себе и прежде, становился еще взыскательней к каждой своей строке.
ГЛАВА 22
Лермонтов еще раз перечитал страницы, сложил их аккуратной стопочкой и, бросив взгляд на те, которые еще были разложены на диване, вышел на маленький балкон. С Невы веял свежий ветерок. Он с наслаждением вздохнул полной грудью и долго, не в силах оторвать взгляда, всматривался в перламутровый полог ночного неба.
Внизу по тротуару гулко простучали торопливые шаги. Лермонтов наклонился над чугунной решеткой балкона и увидел Шан-Гирея. Видно, интересным был вечер у Виельгорских, если Аким так поздно возвращается домой. А он только было подумал, что можно, пожалуй, погасить свет и ложиться. Но Аким непременно зайдет к нему поговорить перед сном.
И действительно, не успел он войти с балкона в комнату, как Аким уже постучал в его дверь.
– Чудесный был вечер нынче, – оживленно и весело объявил он. – Спрашивали о тебе и удивлялись, что тебя нет. Я объяснил, что ты занят отбором стихов для своего сборника. Сегодня играли трио Моцарта – и как играли! Я не стал бы будить тебя, но увидел свет… – Он посмотрел на разложенные на диване листы. – Порядочного размера будет сборник, Мишель! У тебя ведь, по-моему, около четырех сотен стихотворений. Даже, кажется, точно – четыреста?
– Как будто так!
– Что значит «как будто»? Разве ты точно не знаешь? Но меня радует, что пачка неотобранных стихов невелика. И все-таки, я уверен в этом, она могла бы быть еще тоньше.
– В этой тоненькой пачке, Аким, все, что я отобрал для сборника. А на диване – то, что в него не войдет.
Шан-Гирей молча, остановившимся взглядом смотрел на Лермонтова.
– Миша, – проговорил он наконец, – ты с ума сошел?!. Бог мой, что за человек!
Веселость точно ветром сдунуло с лица Акима. Он в недоумении подошел к дивану и взял несколько страничек.
– Как, и этого не будет в сборнике? Ты считаешь, что «Нищий» плохое стихотворение? А «Парус»? Ну знаешь, или я ничего не понимаю в поэзии, или ты варвар! Забраковать «Парус»! Каково!..
– Я не могу дать в сборник это стихотворение, потому что оно написано четырехстопным ямбом, которым в таком совершенстве владел Пушкин. В сборнике и так много стихов, написанных этим размером. Тебе не кажется, между прочим, что размер анапеста имеет в себе какую-то античную величавость? Я чуть не отобрал для сборника одну пьесу еще пансионских времен, потому что там как раз анапест и одна строфа кажется мне удачной:
Заклинаю тебя всем небесным
И всем, что не сбудется вновь,
И счастием – мне неизвестным,
О, прости мне мою любовь, —
но вовремя одумался. Все остальные строфы просто слабые.
– Нет, я возмущен твоим отбором, – все не мог успокоиться Шан-Гирей. – Отчего ты не посоветовался ни с кем? Ну хотя бы Краевского спросил.
Лермонтов усмехнулся.
– Даже Белинского в этом вопросе не послушался бы. «Ты сам свой высший суд», – сказал Пушкин.
– Но Пушкин печатался с пятнадцати лет и не приходил в бешенство, когда видел свои стихи в печати. Ведь только когда напечатали, в тридцатом, кажется, году, твое первое стихотворение «Весна», тебе это доставило, по-моему, большую радость. А потом? Когда Юрьев тайком от тебя сдал «Хаджи Абрека» в печать, ты был в таком гневе, что вспомнить страшно!
– Но пойми же, – сказал Лермонтов с внезапной суровостью, – пойми, что после Пушкина спрос с русского поэта должен быть во сто раз строже, чем до него, – и кончим этот спор.
– Так, стало быть, и отдашь в печать всего двадцать шесть стихотворений?
– Двадцать шесть, – повторил твердо Лермонтов. – А теперь спать!
ГЛАВА 23
Уже несколько дней Лермонтов не находил себе места ни в Царском, ни в Петербурге. Молчание Одоевского не давало ему покоя. Не только на его письма к Александру Ивановичу, но и на запрос, посланный им начальнику Одоевского, вот уже сколько времени не было никакого ответа.
Он лежал без сна на диване в своем кабинете и думал об Одоевском, стараясь отогнать от себя тяжелые мысли.
Столыпин осторожно, без стука приоткрыл дверь кабинета и вошел своей твердой походкой.
– Монго?! – очень довольный, проговорил Лермонтов, отодвигаясь на своем диване, чтобы Столыпин мог сесть рядом. – Как я тебе рад! Откуда ты?
– От одного… довольно важного лица, – сказал Столыпин, вытирая платком мокрый от дождя лоб. – Просто невозможная погода!
– Да, Монго, – вздохнул Лермонтов. – И невозможная тоска. Представь, до сих пор никакого ответа от Одоевского! Хоть бы что-нибудь о нем узнать, все-таки легче! Хуже всего ничего не знать. Это такой чудесный человек!..
– Да, Миша, все, кто его встречал, отзываются о нем восторженно, – задумчиво ответил Столыпин.
– Ах, Монго, ты не знаешь его так, как я узнал, ты не знаешь, какой это человек! Всегда он во что-то углублен мыслью, и задумчив, и серьезен… И вдруг развеселится и засмеется таким звонким детским смехом. Я чувствовал в нем всегда какое-то спокойствие духа, хотя он все время помнил и скорбел о страданиях человечества. И я уверен, что люди, которые хоть раз с ним встречались, никогда его не забывают. А стихи его?! Мне кажется, я совершил преступление, ничего не записав, хотя бы тайком. Ты послушай только, какая прелесть!
Что вы печальны, дети снов,
Бесцветной жизни привиденья?
Как хороводы облаков
С небес, по воле дуновенья,
Летят и тают в вышине,
Следов нигде не оставляя —
Равно в подоблачной стране
Неслися вы!
…Вот я повторяю его слова и точно вижу опять блеск его глаз, слышу чудесную музыку его голоса…
Уверяю тебя, Монго, что, если бы напечатать его стихи, литература наша отвела бы ему место рядом с первоклассными поэтами… Боже мой, когда же я хоть что-нибудь о нем узнаю?!
Столыпин помолчал и, убрав свой платок, сказал, не глядя на Лермонтова:
– Я кое-что… узнал, Мишель.
Лермонтов сел на диване и, положив руки на плечи Столыпина, повернул его к себе лицом.
– Где он, Монго?
– Все там же. В Лазаревском форте.
– Он… болен?
– Мне пишут, что болен.
– Кто пишет? Где это письмо? Дай его мне!
– Оно у меня дома, я не знал, что заеду к тебе. Завтра я его тебе, разумеется, дам.
Лермонтов молчал, пытливо всматриваясь в лицо Столыпина.
– Алексей Аркадьевич, – проговорил он, наконец, очень медленно, – скажи мне правду: ему плохо?
В наступившей тишине бил по стеклам осенний дождь.
– У-мер?.. – спросил Лермонтов одними губами.
Столыпин молча наклонил голову.
* * *
…Лермонтов лежал, отвернувшись к стене, и плечи его вздрагивали от рыданий. Столыпин наклонился и дотронулся до его руки.
– Миша, – сказал он мягко, – ты поплачь, милый, а я поброжу еще немного и вернусь к тебе.
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.
Когда через несколько дней Лермонтов писал эти строки об Одоевском, он чувствовал такое же глубокое, острое горе, как если бы потерял родного брата.
ГЛАВА 24
Было у него три дома, куда он мог прийти огорченным, или усталым, или взволнованным и откуда уходил всегда утешенным и окрепшим.
Если выдавался тоскливый день и возникало в душе желание видеть не скучных представителей обычного «beau monde'a»,[45]45
«Большого света».
[Закрыть] а людей мысли и искусства, он ехал к князю Владимиру Федоровичу Одоевскому. В его доме встречались, беседовали, спорили, слушали музыку или приезжих знаменитых актеров люди различных общественных слоев и самых различных профессий.
Владимир Федорович, писатель и знаток музыки, до 1826 года жил в Москве, объединяя вокруг себя кружок мыслящей, интересующейся искусством молодежи, потом в связи с переменой службы переехал в Петербург.
В его доме по вечерам всегда можно было слушать игру братьев Виельгорских и особенно часто непризнанную светом музыку Глинки, которого он был пламенным поклонником.
С ним можно было поделиться каждым сомнением и каждой радостью творческой жизни. И для Лермонтова было великой поддержкой его теплое участие и тонкое понимание искусства.
Приветливый со всеми, к Лермонтову он относился с особой нежностью и, завидя его в дверях среди толпы своих гостей, кричал, бывало, покрывая шум и жужжание многочисленных голосов:
– А-а, Михаил Юрьевич, давно пора, давно пора! Идите-ка сюда! Ну, что вы еще там написали? Я после ваших последних стихов всю ночь не спал от восторга, клянусь вам! Ну, идите-ка, я вас обниму.
Когда ему хотелось поговорить о Пушкине, о его жизни, привычках и услышать острое и умное, а подчас и резкое слово, он шел к Александре Осиповне Смирновой и, поднявшись по широкой лестнице в ее изящную приемную, с неизменным волнением смотрел в ожидании хозяйки на несколько безделушек, принадлежавших Пушкину и переданных в этот дом его вдовой.
Александра Осиповна входила своей обычной легкой походкой и, чувствуя себя еще слабой после недавно перенесенной тяжелой болезни, устраивалась полулежа на узеньком диванчике, а он садился у ее ног и несколько мгновений молча любовался прекрасными глазами, воспетыми Пушкиным.
– Я очень боюсь за вас, Лермонтов, – сказала она однажды задумчиво, – но вы отвечаете на все мои страхи шутками, которым нельзя не смеяться, а серьезно говорить с вами совсем невозможно. Я хочу вас уберечь от беды, – добавила она. – Хотя вы и разные совсем, но вы мне часто напоминаете дорогого нашего Сверчка, и я боюсь, как бы и с вами не случилось чего-нибудь плохого.
– Спасибо!.. – сказал он тихо и быстро вышел.
* * *
Дом Карамзиных был третьим домом, где он находил – и в лице вдовы великого историка и в лице его дочери – неизменную поддержку, сочувствие и непоколебимую веру в его дарование.
Именно в этот дом пришел он, потрясенный горем, когда узнал, что человек, ставший за время его кавказской жизни одним из лучших его друзей, дорогой его сердцу Александр Иванович Одоевский умер.
Грустный, просидел он у них весь вечер.
– После Пушкина, – сказал он тихо, собираясь уходить, – это для меня вторая большая утрата.
– Какая же была первая? – ласково спросила Софи Карамзина. – Кто еще у вас умер?
– Умер? – повторил он. – Нет, она жива. Так же, как и я.
ГЛАВА 25
Предсказание Браницкого о том, что они не будут одиноки, сбылось: примерно через год шестнадцать человек составили кружок.
Они так и называли себя – «Кружок шестнадцати», по числу членов, и собирались почти каждый вечер – вернее, каждую ночь, когда многие из них возвращались из театров, сходясь по очереди то у одного, то у другого, но чаще всего у Лермонтова.
У молодых членов этого кружка еще не было строгого единообразия политических, философских и социальных взглядов, но их объединяло глубокое сознание несправедливости и несовершенства всех основ российской действительности и боль за судьбу русского народа.
Их объединяла горячая жажда реальной борьбы за свободу и достоинство человека в условиях николаевского режима, в тяжкие и глухие годы, потянувшиеся после декабрьского восстания.
И наконец, их объединяли мятежный дух и слово поэта, который сумел связать их крепкой цепью общих чувств и общих надежд.
– Черт возьми, граф, я начинаю думать, что ваше Третье отделение весьма свободолюбивое отделение! – сказал как-то великий князь Михаил Павлович, встретив Бенкендорфа в сумрачном коридоре Зимнего дворца, перед кабинетом своего царственного брата.
– Почему же, ваше высочество? – Бенкендорф почтительно, но с достоинством склонил свою голову перед братом царя – чуть-чуть поменьше, чем перед императором.
– Известно ли, Александр Христофорович, сему обо всем осведомленному отделению, чем занимается хотя бы та военная молодежь, которая является ближайшим окружением монарха и его семьи?
– О какой именно молодежи изволите говорить, ваше высочество?
– Я говорю о нашей лейб-гвардии. Не о всех, конечно. Но кое о ком. И я вижу, граф, что знаю, по-видимому, больше вас.
– Осмелюсь не поверить этому, ваше высочество.
– А я вам это докажу. Вам известен некий Лермонтов, гусар лейб-гвардии?
– Еще бы, ваше высочество! Я потратил на него не один фунт крови еще со времени его стихов о Пушкине, за которые ему пришлось тогда покинуть Петербург, – скажу откровенно, не без моего участия.
– Очень хорошо. Очевидно, петербургский климат для него вреден. Он порождает в его крови излишнее брожение. Вам известно, что у него на дому собираются полтора десятка каких-то молодцов – вероятно, головорезов, – критикующих действия правительства – и в прошлом и теперь?
– Мне и моему Третьему отделению известно, ваше высочество, и немного более. Мы знаем имена собирающихся у Лермонтова.
– Вот как? – не мог не удивиться великий князь. – В таком случае я отдаю вам должное. Что же это за имена?
– Это такие имена, ваше высочество, которые окружены ослепительным блеском: состояния, во-первых, происхождения, во-вторых, и положения при дворе, в-третьих.
– Например? – сурово спросил Михаил Павлович.
– Например, Ксаверий Браницкий, потомок коронованного гетмана и архимиллионер, которого его величество намерен назначить своим адъютантом… Шувалов, представлявшийся английской королеве, – мать которого имеет счастье пользоваться особым расположением ее величества государыни императрицы. Валуев, для которого уже намечен дипломатический пост… Барон Фредерикс…
– Довольно, граф, – остановил его великий князь. – Я вас понял. Ради этих имен приходится пока что терпеть и выжидать. Но скажите на милость, на что им дался этот маленький гусар, черный, вертлявый и похожий в своем красном ментике на бесенка с красными крыльями?
– Лермонтов пользуется среди них большим влиянием, ваше высочество. Они прислушиваются к каждому слову его – и устному и печатному.
– Тем хуже для него! Предупреждаю вас, граф, что, если до меня дойдут слухи о чем-нибудь серьезном, я сам разгоню это лермонтовское гнездо!








