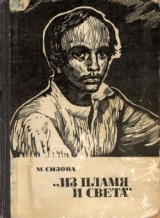
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 30
– Нет, Мишенька, на антресолях у тебя тесно. Еще, не дай бог, пол провалите!
– Ну что вы, бабушка, право!
– А что же, очень просто! Сколько всех придет-то?
– Не могу вам точно сказать, но с моего прежнего факультета кое-кто да кое-кто из словесников. Потом, по старой памяти, Дурнов с Сабуровым, ну, Лопухин Алеша, Поливанов – этих я не считаю. Потом кто же?.. Будет Закревский, Шеншины, обещал Святослав прийти. Вот как будто и все.
– Ну вот и соберетесь внизу в гостиной. Этакую ораву разве антресоли выдержат? Обязательно пол треснет!..
– Но, бабушка, зато у меня там…
– Нет уж, Мишенька, ты, сделай милость, со мной не спорь…
Вечером в гостиной – клубы табачного дыма, громкие молодые голоса, изредка звуки фортепьяно.
Большинство гостей еще не привыкли курить и дымили особенно много. Но это не мешало ни оживленным спорам, ни горячему воодушевлению.
– Господа, пусть нашим девизом будет: поменьше слов, побольше дела!
– Слово есть или мысль, или пустой звук!
– Это уже кем-то сказано прежде тебя!
– Очень может быть, но я с этим согласен.
– А какое дело имеешь ты в виду?
– Сначала создание студенческого союза, а потом… потом жизнь сама подскажет. Жизнь – это действие, а действие – это борьба.
– Но подготовка к борьбе, эта подземная работа, о которой еще в прошлом году у нас на физико-математическом Герцен говорил, это тоже жизнь и тоже действие.
– Допустим. Но мы ни к чему не готовились, а просто бездействовали.
– Господа! – покрывая шум звонким голосом, крикнул очень живой, небольшого роста Шеншин с блестящими глазами на всегда оживленном безусом лице. – Кто в последние два-три дня бывал на Тверской? Ты не был, Лермонтов? Ты что-то все молчишь сегодня. Опять стихи замучили?
– Разве я молчу? – уклончиво отвечает Лермонтов, продолжая одной рукой наигрывать что-то на фортепьяно. – Послушай это место: что это такое?
Шеншин молчит, нахмурив лоб.
– Это andante из Седьмой бетховенской сонаты!
– Кто это крикнул? – Лермонтов быстро повернулся к своим гостям. – Закревский, ты? Вот молодец! А ведь мы с тобой ее всего один раз и слышали!
– Что ж тут удивительного! Ты тоже один раз это слышал и не только запомнил, но и подобрал. Постой-ка… я попробую…
Закревский, усердный посетитель концертов и оперы, знающий историю всех московских певцов и певиц, подошел к инструменту.
– Нет, господа, подождите, – остановил его Шеншин, – я хочу вам рассказать то, что видел на Тверской. Тебе, Лермонтов, это будет интересно.
– Ну, говори скорей, Шеншин, что ты видел?
– На Тверской псковские мужики хуже чем в лесу заблудились, честное слово. Гляжу, бродят по Тверской бородачи с бабами и ребятами – голодные и без пристанища.
Лермонтов внимательно слушал.
– Псковские? Это из наших краев. Зачем же они здесь?
– В Тобольскую губернию переселяются.
– Добровольно? – неожиданно спросил Дурнов.
– Ты, Дурнов, спрашиваешь, как женщина. – Лермонтов строго посмотрел на него. – Ты, может быть, думаешь, что и в крепостные идут добровольно? Я видел однажды в детстве крестьянский бунт. Этого забыть нельзя. Вот это было добровольно!
Он помрачнел и молча прошелся по комнате.
– Мишель, – остановил его Раевский, – ты задумал повесть о крестьянском восстании – помнится, о пугачевском. Замысел смелый и небезопасный. По-моему, ты говорил, что уже начал ее. Так это или нет? Что с ней теперь?
– Начал, только начал.
И, не желая продолжать разговор, Лермонтов вернулся к фортепьяно, но, не трогая клавишей, смотрел на клавиатуру.
– Куда же потом эти псковские мужики девались? – проговорил он наконец. – В Тобольскую губернию отправили их?
– Нет еще! – Шеншин безнадежно махнул рукой. – Пока суд да дело, бродили по Москве голодные. Уж на что князь Голицын нежалостливый человек, а и тот распорядился, чтобы на его собственные средства накормили мужиков и куда-то устроили ночевать.
– Да, – вздохнул Лермонтов, – неважно живется нашему народу под двуглавым орлом.
– Что же нам делать?.. – вздохнул Поливанов. – Должен же быть какой-то выход, должны быть средства избавления! Если герои четырнадцатого декабря не нашли их, то наш долг поднять тот факел, который выронили их скованные руки, поднять и нести его дальше!
Все, призадумавшись, молчали.
– Хорошая вещь молодость, – проговорил задумчиво Раевский. – Слушаю вас и радуюсь! Собрались вы сюда из всех уголков страны, из самых различных семейств. И вот прошло какое-то время, и вы нашли здесь новую семью, которая вас переделала, обновила, вдохнула в вас живые мысли, новые чувства, а пройдет еще немного времени – и все это вы понесете в далекие, заброшенные углы России, как семена новой жизни.
– Вот жаль, Святослав Афанасьевич, что вы не знаете нашего кружка третьекурсников – политического, общественного направления! Я дал себе слово быть в их числе! – горячо воскликнул один из студентов.
– А почему вы думаете, что я его не знаю? – усмехнулся Раевский. – Я слышал о нем и даже знаю, что в нем Герцен бывает.
– Ну еще бы! Там есть замечательные люди! – Студент вдруг засмеялся, вспоминая что-то. – Ох, господа, как вчера Герцен с профессором Маловым сразился!
– Как? Из-за чего?
– Сейчас расскажу. Пришел вчера Герцен в Университет не в форменном мундире, а в куртке бархатной. Пришел не на лекцию, а в канцелярию по делу. Малов встречает его в коридоре, останавливает у дверей канцелярии и сразу начинает эдаким маловским пренебрежительным тоном: «На кого вы сегодня похожи?»
«Как всегда, – говорит Герцен, – немного на мать, немного на отца и кое-чем на самого себя»
Малов сразу взбеленился.
«Я вас о костюме вашем спрашиваю!» – сразу взял с места в карьер.
Ну, Герцена ведь этим не запугаешь.
«А что, – говорит, и так спокойно, вежливо, – вам не нравится? Шил Дюран, портной из Парижа. Моя матушка осталась довольна».
«Не извольте шутить!»
Малов бесится – ну просто прелесть как!
«Я вас не о портном, – кричит, – спрашиваю, а о форме!»
Мы все в аудитории были, дверь открыта, слышим, что Малов опять шумит, вышли в коридор.
«Вы обязаны являться сюда в форме и быть одетым точно так же, как все!»
«Боже сохрани, – говорит Герцен, – от такой унификации! Вот в Париже, как вы знаете (а сам прекрасно знает, что Малов к Парижу и близко не подъезжал), боятся только быть одетыми безвкусно, а у нас боятся быть непохожими на других. Мы, – говорит, – с вами – враги деспотизма, а такая страсть к единообразию есть признак самого непросвещенного деспотизма».
И пошел себе в канцелярию. Малов даже позеленел от злости и весь день вчера ко всем придирался. Но мы все были очень довольны.
– Да кто этот Герцен? – спросил Сабуров, с некоторым удивлением и завистью прислушиваясь к смелым речам студентов. Заболев по окончании пансиона, как сказали врачи, «грудной болезнью», он должен был покориться отцовской воле и пока даже не помышлять об Университете.
– Кто Герцен? Это студент физико-математического факультета. Его и Огарева – это друг его – весь Университет знает. У него блестящие способности, пламенный ум и бесстрашное сердце. И одна из самых замечательных сторон его личности – это его любовь к отечеству, страстное желание послужить ему.
– Но любовь к отечеству, – проговорил, обращаясь ко всем, молчавший до сих пор студент, – должна иметь источником своим любовь к человечеству. Нельзя любить свое только потому, что оно свое, не правда ли, Святослав Афанасьевич?
– Это аксиома, мой милый, – ответил Раевский. – Но служить отечеству можно различно.
– Что ты имеешь в виду? – обратился к нему Лермонтов.
– Я имею в виду, между прочим, силу творческого слова, силу поэзии, – ответил Раевский.
– Сомневаюсь я что-то в этой силе, – проговорил не совсем уверенно молчаливый студент. – Обратитесь к восемнадцатому веку. Уж его ли писатели не проповедовали мораль и нравственность?!. А век был безнравственный.
– А наш век понял, что нравственность только в истине и поэт служит истине, – сказал Лермонтов. – Идемте ужинать, господа, – закончил он, увидев, что старый бабушкин лакей открыл дверь в столовую.
– Подумать только, – сказал Раевский, – ведь все вы едва вышли из детского возраста, а мысли и чувства тех, кто породил четырнадцатое декабря, перешли, точно по наследству, в ваше сознание. Но будьте осторожны, друзья! Мне, как старшему среди вас, можно и должно предупредить вас. Не забывайте, что Университет московский все-таки опальный Университет, и его терпят, может быть, только до времени.
– Ничего! Весь Университет по Владимирке не пошлют, – весело ответили ему.
Когда сели за стол, первым поднял бокал совсем юный студент-математик:
– Господа, я хочу сказать об Университете нашем! Все-таки он выше многих других, особенно английских университетов, существующих только для сыновей аристократов и богатых коммерсантов. У нас, ежели ты не крестьянин и не крепостной, приходи и сдавай экзамен.
– Но Ломоносов был крестьянином и крестьян хотел видеть студентами!
– Верно, я помню об этом. Но все же, ежели кто-нибудь пожелал бы у нас похвалиться своим происхождением, своей голубой костью – о, что бы с ним было!.. Мы бы его со свету сжили! Значит, наш Университет все же существует на демократических началах, и потому первый тост наш за него!
– Подожди! – остановил его Лермонтов. – Ты забыл наш первый тост?!
– Верно! – весело крикнул он. – Первый тост – за нашу отчизну, и еще первый – за народ, и еще первый – за Пушкина! Ура!..
ГЛАВА 31
Университетское начальство было взволновано. Как посмотрит на все это государь? Ведь это бунт! Форменный бунт!..
16 марта 1831 года студенты выгнали профессора из аудитории, а когда он стремглав выбежал во двор, гнали его по двору, как зайца, бежали за ним по улице, бросили вслед калоши… Такого еще не бывало!
И разве дело только в том, что они были недовольны обращением с ними этого Малова, самого скучного и бездарного из профессоров? Студенты на вопрос о том, сколько у них лекторов, отвечали обыкновенно: «Без Малова девять!»
И вот теперь студенты устроили ему такую неслыханную демонстрацию! Но суть-то была не в грубости профессора. Этим юнцам, зараженным пагубным вольномыслием, не нравилась благонамеренность профессора Малова, убежденно говорившего о незыблемости и справедливости существующего в России порядка.
Вот что стало известно университетскому начальству. На возражения студентов Малов ответил грубостью. Хотя Малов читал только на нравственно-политическом отделении, на следующей его лекции оказались и математики, и медики, и чуть ли не весь Университет. В аудиторию явились студенты, давно уже бывшие на замечании. И среди них, конечно, Герцен. Какой такой математике он обучается?! А что делает в Университете студент Лермонтов, который почти не посещает лекций, предпочитая заниматься науками дома. Но шестерых, в том числе, конечно, прежде всего Герцена, посадили в карцер, а раздувать дела дальше не стали и постарались по возможности предать его забвению.
ГЛАВА 32
О, какое это было удивительное весеннее утро! В Москве за каждым забором расцветала сирень, ее гроздья свешивались на улицу. Можно было рано утром наломать в своем саду огромный букет сирени, еще обрызганной росой, и, перевязав его лентой, отнести той, чей образ горит в сердце.
Он так и сделал: рано утром с большими ветками лиловой и белой сирени позвонил у ее дверей.
Сонный швейцар, открыв, сказал ему, что еще не все встали. Он поднялся по лестнице и, постояв минуту на том месте, где недавно поцеловал Натали, открыл дверь в гостиную – и увидел ее.
Она не слыхала его шагов, заглушённых пушистым ковром, и продолжала читать какое-то письмо.
В белом утреннем платье, со свободно падавшими на плечи волосами, она была прекрасней, чем когда-либо.
– Натали! – сказал он со счастливой улыбкой. – Вы не догадываетесь, что я пришел вам сказать? Я не могу после того вечера молчать! Я был счастлив, и сердце мое пело и ликовало всю ночь… И я хочу, чтобы вы знали… Впрочем, вы, конечно, и так знаете то, что я пришел вам сказать. Не правда ли, вы поняли это даже раньше меня?
Он стоял и ждал ответа. И сердце его медленно охватывали страх и холод. Ему показалось, что солнечный свет тускнеет за окном.
– Натали?.. – повторил он, не отрывая глаз от ее лица.
Лицо ее покрылось румянцем, она сложила письмо и, опустив голову, ответила:
– Я должна вам сказать, Мишель… Да, я должна вам это сказать… Мне кажется… то есть я почти уверена… что я люблю другого.
Он стоял не шевелясь и чувствовал, что сердце его холодеет.
– Приезжайте летом к нам в деревню. Там я скажу вам то, чего еще не могу сказать сегодня, – пообещала она ласково.
Он вышел на весеннюю улицу.
Улица показалась ему темной.
Он не мог вернуться домой. Не мог ни с кем говорить. Весь этот день он ходил по Кремлю.
Он ушел оттуда, когда зажглись первые звезды, ушел с твердым решением: поехать летом к Натали, чтобы узнать от нее последнюю правду.
* * *
«…я теперь сумасшедший совсем. Нас судьба разносит в разные стороны, как ветер листы осени… Нет, друг мой! Мы с тобой не для света созданы; я не могу тебе много писать: болен, расстроен, глаза каждую минуту мокры… Много со мной было; прощай, напиши что-нибудь веселее».
Так написал Лермонтов в начале этого лета своему другу Поливанову. И если за это время с ним было многое, после чего он стал «сумасшедшим совсем», а из глаз его текут слезы «неиссякаемым источником», – не значит ли это, что он узнал от Натали последнюю правду и что эта правда причинила ему великую боль?
С этой великой болью едет он в Середниково.
Страдающий – страданьем уничтожен,
Иль сам уничтожает скорби власть…
…«Иль сам уничтожает скорби власть», – повторял он вновь и вновь, точно слова эти были заветом Байрона.
Ведь если зверь, что глуп или жесток,
В молчании страдает так ужасно,
То мы, чей разум ясен и глубок,
Сумеем закалить себя на краткий срок.
«На краткий срок» – срок жизни, потому что она коротка. А пока она длится – длится и скорбь.
Он помнит все – каждую мелочь и каждую маленькую радость.
Забыть? – Забвенья не дал бог.
Да он и не взял бы забвенья!
Уже совсем кончалось лето, обильное грозами и ливнями, сменявшими знойные дни, когда ветер-суховей гулял по аллеям середниковского парка. Вернувшись в середине июня из деревни Ивановых, Лермонтов часто бродил до поздней ночи по широким аллеям.
Шумели липы над головой, пробегали по горизонту тревожные зарницы, точно перекликаясь друг с другом, и, наконец, громыхала гроза, снимая с души давящую тяжесть.
Но к концу лета мысль о приближении учебного года – второго года его университетской жизни – заставила его обратиться к книгам.
И вот теперь, когда прошло лето, он вернулся в свою мансарду на Малой Молчановке, откуда был виден и их маленький палисадник, любимый бабушкой, и широкий, поросший густой травой соседний двор Лопухиных.
ГЛАВА 33
Весь зарос мелкой зеленой ромашкой двор на Малой Молчановке. Запах ромашки сливается с терпким осенним запахом тополей, которые шумят в саду под ветерком теплой осени. А в соседнем дворе бегают два белых мохнатых шарика – «лопухинские щенки», как зовут их соседские мальчишки.
Тоненькая девушка со светлыми косами ловит их и, поймав одного, весело смеется, прижимая его к груди.
Щенок усиленно вертит направо и налево коротким белым хвостом и, тихо повизгивая, тыкается мордой то в плечо, то в шею девушки, а она, смеясь, целует его в мохнатый лоб.
– Варенька! – раздается из окна звонкий девичий голос. – Это мой щенок?
– Нет, Мари, это мой, а твой убежал к подворотне!
– Ах, боже мой! Он выскочит за ворота!
И через минуту другая девушка сбегает с крыльца.
На ней такое же, как у Вареньки, светло-серое платье, отделанное черными бархотками, прюнелевые туфельки, перевязанные крест-накрест черными шнурочками, а в лице несомненное сходство с Варенькой. Но она значительно старше. Ее фигура крупнее, взгляд таких же, как у Вареньки, темных, но не таких больших глаз серьезнее, а русые волосы, завитые спереди локонами, заложены на затылке в большой модный шиньон.
Она быстро перебегает через двор и, поймав своего щенка в тот момент, когда он уже просунул свой нос в подворотню, торжествуя, возвращается с ним к Вареньке.
– Ну посмотри, что за прелесть! – Она протягивает щенка, который громко визжит, к самому лицу Вареньки.
– У него за ухом черное пятнышко!
– А мой весь беленький! – с нежностью говорит Варенька. – Я его возьму с собой в деревню, хорошо, Мари? И скажи, пожалуйста, до каких же пор будут меня увозить и кому это надобно? – уже жалобным голоском спрашивает она, крепко прижав к груди щенка, который продолжает усиленно махать коротким хвостом.
Лицо Мари делается серьезным.
– Это надобно только тебе, и делается ради твоей пользы, потому что мы не можем ослушаться докторов, а они сказали, что тебе еще необходим деревенский воздух.
– Но, боже мой, – еще жалобней говорит Варенька, – ведь я уже совсем, ну, совсем здорова. Неужели я должна сидеть в деревне с ее воздухом и скучать по Москве до скончания веков, пока совсем не стану старухой и у меня не вырастет горб!
Но в эту минуту щенок лизнул Вареньку в лицо; и она засмеялась.
Мари тоже улыбнулась.
– Ах, Варенька, – сказала она, покачав головой, – пожалуйста, не грусти! Горб у тебя никак не успеет вырасти. Открою тебе одну тайну: очень скоро ты приедешь в Москву совсем и начнешь выезжать. Ну, ты довольна?
Варенька опускает щенка на землю и, подбежав к сестре, крепко ее обнимает.
– Мари, – говорит она, прижимаясь щекой к ее лицу, – ты умница, и ты прелесть! И я бы так хотела, чтобы ты все-таки вышла замуж и чтобы у тебя было много-много, ужас сколько детей! И я бы их всех очень любила, и я бы их всех…
Но тут Варенька умолкает: величественная фигура чернокожего лакея появляется на крыльце.
– Ты что, Ахилл? – кричит Варенька. – За нами?
– За нами, за нами, – отвечает Ахилл, весело скаля ослепительные зубы. – Чай кушать готовая!
– Maman уже в столовой?
– Столовая, столовая! – кивает головой Ахилл.
– Ах, Мари! – взволнованно говорит Варенька. – Ведь Алеша сказал, что сегодня Мишель обещал что-то прочесть. Пойдем скорее! Может быть, и мы услышим. Он, наверное, уже пришел! Ахилл, держи, их кормить пора! – Варенька быстро сует щенка в руки Ахилла и исчезает в дверях.
Ее старшая сестра следует за ней, а чернокожий Ахилл, добродушно посмеиваясь и покачивая головой, уносит щенят на кухню.
Через несколько минут, пригладив косы и вымыв руки, Варенька, точно на крыльях, влетает в столовую и, к своему великому огорчению, вместо Мишеля Лермонтова видит почтенную толстую гостью.
Варенька была любимицей Елизаветы Алексеевны и, приехав в Москву, обязательно прежде всего бежала к ней.
Но в тот вечер, когда должен был прийти Лермонтов, Варенька терпеливо ждала у открытого окна.
Сильнее пахнет ромашкой зеленый дворик, а сад – осенней листвой. В вечернем небе над маковками ближней церкви пролетают стрижи. За садом видна крыша соседнего дома, где живет Миша Лермонтов, который – подумать только! – друг ее брата и самый настоящий поэт! Но самого дома Вареньке не видно.
Сумерки спускаются на зеленый двор – он теперь пуст: мохнатые щенята спят под крыльцом.
А он так и не пришел!..
ГЛАВА 34
Не только Вареньке и Мари, но и самому Мише казалось, что целая вечность прошла до того дня, когда, наконец, состоялось давным-давно обещанное чтение.
Когда Лермонтов вошел в большую гостиную Лопухиных, там было несколько гостей.
– Я был уверен, что ты не обманешь, – сказал Алексей. – А вот и Мари с Варенькой. Они с утра в волнении.
Сделав наскоро книксен гостям, Варенька подбегает к Лермонтову и пытливо заглядывает в его глаза.
– Принесли? – спрашивает она быстро.
Вместо ответа он вынимает одну из своих голубых самодельных тетрадей. Ее появление встречают с восторгом.
– Тотчас после чая в моей комнате, – говорит Алексей.
– Только, пожалуйста, Алеша, чтобы больше никого не было.
– А если Коля Поливанов придет? Или Сашенька?
– Поливанов и Сашенька свои, их я не считаю. Но я хотел бы читать только вам.
Варенька и Мари переглядываются с явной гордостью.
В комнате Алексея Лермонтов усаживается около маленького столика и раскрывает тетрадь.
– Ты забыл еще одного своего слушателя, – говорит Алексей.
– Кого же?
– Ахилла.
Мишель улыбается, а Варенька восклицает:
– Ах, да! Позвольте Ахиллу хоть немножко послушать. Больше всего на свете он любит слушать, когда читают стихи!
– А ты уверена, что он при этом хоть что-нибудь понимает?
– Но, Алеша, – возражает Варенька, – ведь он не виноват, что почти не понимает по-русски! И все равно он слушал за дверью, когда ты читал нам стихи Мишеля, слушал и плакал!
– Плакал, даже не понимая стихов? – спрашивает насмешливо Мари. – Это высшая оценка вашего творчества, Мишель.
И Мари громко говорит:
– Ахилл, нечего тебе под дверью стоять. Входи.
Дверь распахивается, и появляется Ахилл. Он в пунцовой чалме, его черное лицо точно покрыто лаком. Он широко, благодарно улыбается.
– Ну разве можно не пригласить столь живописного слушателя? Когда-нибудь непременно нарисую Ахилла.
– Ах, пожалуйста, пожалуйста, Мишель! – радостно восклицает Варенька. – Тогда у нас будет два портрета вашей работы.
– А где же первый? Я что-то забыл…
– Он забыл! Да вы оглянитесь! Оглянитесь! Мы с Мари вокруг него даже рамочку углем нарисовали!
Лермонтов оглядывается и видит нарисованную им когда-то на стене голову мужчины в испанском костюме.
– Этот испанец, которого вы назвали вашим предком Лерма, – говорит Мари, – больше похож на вас, чем на предка. Но вообще вы прекрасно рисуете и могли бы сделаться настоящим художником.
– Самым, самым настоящим! – горячо подтверждает Варенька. – И знаменитым!
– Но у меня совсем нет времени рисовать. Теперь я занят только вот этим.
Он берет в руки тетрадь и раскрывает ее.
– Боже мой! – шепчет Варенька. – Я умерла бы, если бы написала столько стихов! Какой вы умный, Мишель!..
– Посмотрим, что вы скажете после чтения. Я начну со стихотворения, которое написано мною два года назад. Оно называется «Монолог».
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
. . . . . . . . . .
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует…
Растроганный Ахилл, не понявший ни слова, вытирает глаза черной ладонью, покоренный музыкой стиха.
Лермонтов прочел последние строчки:
Средь бурь пустых томится юность наша.
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.
– Нет, нет! – с каким-то тихим отчаянием вздохнула Варенька.
– Это плохо? – Он закрыл тетрадь.
– Нет, это хорошо… – Мари всегда говорила, немного подумав, и была немногословна. – Но трудно поверить, что сочинитель так юн! И что Мишель, с таким воодушевлением танцевавший у нас вчера мазурку, и автор этого монолога – одно лицо.
– В самом деле, Мишель, – сказал Алексей, – неужели бури нашей юности – пустые бури и неужели так все безотрадно?
Варенька молчала. Лермонтов посмотрел на нее.
– А вы что скажете, Варенька?
Она ответила не сразу.
– Вы сказали, что душа ваша тоскует, не зная ни любви, ни дружбы. Но ведь это не так! Вы не должны так писать и так думать, – решительно закончила она, – потому что это совсем-совсем не так!..
В этот вечер Варенька до тех пор сидела на своем любимом месте у окна, пока Мари не напомнила ей, что уже двенадцатый час и весь дом давно спит.
– О чем ты размышляешь, Варенька, скажи на милость, если это не секрет?
– Я думала о Мишеле. Я думала, что он страдает, Мари, а отчего – я никак не могу понять. Но я так хотела бы его утешить! Ведь правда, Мари, ты тоже хотела бы, чтобы Мишель был счастлив? Правда?..








