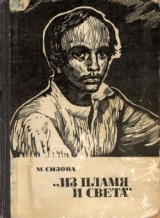
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 40
Зрительный зал гудит сдержанным шумом множества голосов. В партере, в креслах амфитеатра, в ближних ложах рассаживаются, оживленно беседуя, зрители. Волнуется до отказа набитая галерка.
Студенческие мундиры мелькают и в нижних ярусах и даже в партере. Два очень молодых студента, Лопухин и Лермонтов, идут в партер.
Немного впереди проходит, направляясь к лестнице, ведущей в верхние ярусы, высокий и очень худой студент. Оживленно беседуя со своим спутником, он торопится в зал. На повороте лестницы он быстро оборачивается. У него желтовато-бледное лицо с заостренными чертами и прядь волос падает на большой лоб.
– Виссарион Григорьевич! – окликают его сразу два голоса.
Он быстро смотрит по сторонам и улыбается, отчего все лицо его освещается какой-то особенной добротой.
Лермонтов много слышал о Виссарионе Белинском уже в первый год своего поступления в Московский университет, но не сталкивался с ним близко, хотя знал, что у Белинского в одиннадцатом номере университетского общежития собираются студенты.
Спектакль начался.
Еще живо было воспоминание о первом представлении комедии Грибоедова на московской сцене, состоявшемся в прошлом, 1831 году. Мочалов – Чацкий и Щепкин – Фамусов тогда вызвали разноречивые толки. По-разному говорили об их игре, а рецензент «Телескопа» даже назвал Чацкого «трезвым Репетиловым», хотя и находил, что Мочалов был «местами прекрасен».
С ревнивым интересом, затаив дыхание следил теперь зрительный зал за игрой своих любимцев. Звучали сверкающие то гневом, то нежностью, то едкой иронией стихи Грибоедова. И когда после первого акта закрылся занавес, гром рукоплесканий потряс зал.
Лермонтов в раздумье просидел весь антракт и отказался идти со своим товарищем Закревским, знакомым со всей Москвой, за кулисы, чтобы познакомиться с Мочаловым.
Когда внезапно оборвался заключительный, полный горечи монолог и актер с предельной простотой почти шепотом произнес последние слова, словно вдруг потеряв все силы, были покорены все.
– Бог мой, какая великая сила в этой простоте игры!..
Лермонтов услыхал эти слова Белинского, направлявшегося к выходу, когда кончилась буря оваций Мочалову и Щепкину. Лермонтов посмотрел на него – и на минуту взгляды их встретились.
– Можно ли примириться с таким порядком вещей, когда два великих актера – бывшие крепостные? – говорил он Закревскому и Лопухину, идя вместе с ними из театра.
* * *
Горечь не оставляла его… Все казалось непоправимо плохим. И ко всему еще с Университетом дело обстояло неважно, хоть и перевелся он с нравственно-политического на словесный факультет. И странное совпадение: так же неважно обстояло дело с Университетом у самых лучших студентов. Впрочем, они только по названию оставались студентами, ибо заставить их присутствовать на всех лекциях не было уже никакой возможности.
В июне 1832 года в «Списке об успехах студентов словесного отделения» появилась запись о Лермонтове: «Consilium abeundi». В переводе с латинского это означало: «Посоветовано уйти».
В правилах о наказании за проступки студентов вслед за этим обычно следовало: «Изгнание из Университета».
И Лермонтов решил покинуть Университет.
Что же произошло?
Когда университетское начальство в конце учебного года справилось с ведомостями, оказалось, что в графе, например, профессора Победоносцева около фамилии Лермонтова стоит: «abs 42», что означало: «Отсутствовал на 42 лекциях», «abs'ы» стояли в ведомостях и других профессоров.
Да, этот студент, неоднократно возражавший профессору и замешанный в маловскую историю, пропустил много занятий. И университетское начальство решило, что от таких студентов, как Лермонтов да еще словесник Белинский, следует понемногу освобождаться.
С Лермонтовым что-то случилось и в Благородном пансионе. Почему после посещения пансиона императором и преобразования его согласно монаршей воле Лермонтов покинул пансион, не кончив в нем курса?
В таком случае как бы не случилось с ним того, что уже произошло со студентом Костенецким и его товарищами. Они арестованы, отданы под суд и ждут сурового наказания. Государь приказал судить этих студентов военным судом!
Так что Лермонтову следует поостеречься. Он, кажется, хочет поступить в Петербургский университет. Ну что же? Никто не возражает. Очень хорошо!
. . . . . . . . . .
Дом на Малой Молчановке был охвачен волнением. Бабушка волновалась потому, что волновался Мишенька. Наконец как-то вечером, вернувшись со студенческого собрания, Миша сообщил ей свое окончательное решение: перевестись в Петербургский университет и оставить Москву. Разве не великое счастье жить в городе, где живет Пушкин?
После этого бабушка за утренним чаем сказала, что она думала всю ночь и надумала: Мишеньке лучше в Петербургский университет перевестись, а Москву оставить. Что ж поделаешь, ведь это тоже великое счастье – все здесь побросать да и переехать всем домом в город, где Пушкин живет!
ГЛАВА 41
Неужели он все это оставит? Свою комнату, к которой так привык, безлюдную Молчановку и густой сад Лопухиных, деревья которого видны из окна?!
Грустно…
Оставит товарищей по пансиону и по Университету, с которыми сблизился прочно и глубоко… Грустно, грустно!..
И тот до мелочей памятный дом, где он так недавно был счастлив…
Но жить в одном городе с Пушкиным, знать, что в любой день, в любой вечер можно стать около его дома и, прождав так хоть несколько часов, увидеть, как он выйдет, запахнув крылатую шинель, придерживая свободной рукой шляпу от ветра, и, может быть, услышать его слова, сказанные кому-то, или его, пушкинский, смех!
Вот они, переплетенные в одинаковые сафьяновые переплеты, пушкинские страницы! Сколько дали они ему волнующей радости!..
А Университет, который был и останется для него «местом святым», потому что там в промежутках между скучными лекциями (он вспомнил последнюю лекцию Малова – «О законах брачного союза») встречалось юношество, соединяясь в тесной дружбе. Потому что после лекций обсуждались в той же аудитории или у него дома со всем огнем молодости и восторженных, жаждущих подвига сердец и судьбы отечества, и судьбы народа, и запрещенные стихотворения Пушкина и Рылеева, и великие уроки французских революций.
Он открыл окно.
Вот так туча! Темная, точно нависшая над городом, поднимается со стороны Арбата и идет прямо на Молчановку! Неужели будет гроза?! И как в детстве, от ожидания грозы, которую он так любил, сердце его дрогнуло.
Первая гроза в этом году! Что за радость!..
Он смотрел, как темнеет ясное небо, как закрывают его сероватые, дымчатые облака.
Неподвижно стоят деревья лопухинского сада, неподвижен воздух. Низко летят встревоженные стрижи.
Миша оглянулся только тогда, когда черная голова Ахилла просунулась в его комнату.
– Ахилл, ты ко мне? За мною?
Ахилл опустил руку в карман и, протягивая Лермонтову голубенький конвертик, сказал торжественно:
– От барышна наша. От Варенка наша. Ответ не нужная! – и ушел.
В голубом конвертике была голубая бумажка. На ней написала Варенька коротко и просто, что ввиду скорого отъезда Мишеля ей нужно сказать ему как можно скорее очень важную вещь.
Если он будет свободен, пусть зайдет вечером в их садик. Впрочем, он может и не приходить. Варенька все равно будет там сидеть на скамеечке после вечернего чая. Он сунул голубую бумажку в карман и сбежал с лестницы.
– Куда ты, Мишенька? – едва успела крикнуть ему бабушка.
– Смотреть на грозу! – прокричал он уже за окном.
Собачья площадка не ахти какой простор, но все-таки виден горизонт.
Он прибежал туда в ту минуту, когда прокатился где-то за крышами первый гром и нянюшки, прихватив детей, бежали по домам. Он остался один на небольшой площадке, обсаженной молодыми деревцами, которые низко сгибались под ветром.
Хорошо, что не видела бабушка, как стоял ее Мишенька под проливным дождем, радостно слушая раскаты грома!
Когда небо сверкнуло в расходящихся облаках над блестящими мокрыми крышами и над мокрой нежной зеленью, он отправился домой, весь промокший, радостно возбужденный.
Из лопухинского дома на зеленый двор, обсаженный тополями, выходило большое окно. В глубине комнаты пел чистый девичий голос, такой ясный и трогающий, что Лермонтов сразу всем сердцем почувствовал, что это поет Варенька.
Она пела без слов, должно быть, простые вокализы. Но оттого, что эти грудные и чистые звуки еще не определили себя словом, они были еще прекраснее.
Он долго стоял у окна.
Розовое небо бледнело, желтело, а в вышине становилось зеленовато-голубым.
Скоро вечер зажжет первые звезды…
Тогда он вспомнил, что его ждет Варенька, и вышел в сад.
На дорожках еще остались лужи, и скамейка была сырая после дождя. «Если бы пригрело солнце, все сразу стало бы сухим», – думала Варенька.
Она накрыла скамейку шарфом, который сняла со своих плеч, потому что было совсем тепло, и осторожно села.
Очень тих был этот вечер. Вареньке показалось, что в тишине слышен какой-то писк. Варенька всмотрелась и на влажном песке около кустов увидала выпавшего из гнезда птенца – должно быть, просто воробья. Он пищал и не мог подняться.
В одно мгновенье Варенька была около него, осторожно взяла его в руки и положила на узенькую ладонь. Потом тихо села опять на скамейку.
Варенька разглядывала птенца и старалась согреть его своим дыханием, пока за стволом тополя не показалась фигура Лермонтова.
Увидав его, Варенька выпрямилась.
– Как я рада, что вы пришли!..
Она сказала это спокойно, но, если бы мысли Лермонтова не были так поглощены другим и если бы тень от тополя не была так густа, он не мог бы не заметить, что Варенька при этих словах побледнела.
Но он ничего не заметил.
– Как же я мог не прийти, Варенька, ежели вы этого хотели? – так же просто ответил он и, когда Варенька подвинулась, сел рядом с ней и с удивлением посмотрел вокруг: – Что это такое, Варенька? Кто-то еле слышно чирикает!.. Это птица? Где она?
Варенька протянула ему ладонь, отогнув уголок носового платка:
– Видите? Посмотрите, что это за прелесть! Я вылечу его и выпущу на этот куст.
Лермонтов молча глядел на узенькую ладонь с птенцом и, рассмотрев воробья, поднял глаза на Варенькино лицо.
– Варенька, – сказал он, не отводя от нее взгляда, – вы знаете, я никогда не видал в мире никого добрее вас.
– Что вы, Мишель, – почти испуганно возразила Варенька, – разве можно так говорить?! Да я вам столько таких добрых назову, что ужас!..
– Ну разве что так, – рассмеялся Лермонтов, – таких-то и я знаю…
– Перестаньте смеяться! – сказала строго Варенька. – Хоть я и рада, что вы стали повеселей.
Она помолчала.
– В последнее время вы были очень, очень печальны. И мне кажется, я знаю причину.
– Неужели? – быстро спросил он.
Варенька молча наклонила голову.
– Это ваша царица Тамара. Я это знаю… Но это все равно, все равно! Это ничего не меняет, даже наоборот.
Лермонтов смотрел на нее с удивлением.
Вареньке показалось, что вся душа ее с настоящим и будущим утонула в темной глубине его глаз.
– Я должна вам признаться, Мишель, – начала она очень медленно и очень серьезно, – что я списала у Алеши те ваши стихи, которые он списал у вас.
– Какие стихи, Варенька?
– Я сейчас скажу. Я их тогда же запомнила сразу. «Одиночество». Так называются ваши стихи, правда?
– Да, кажется, правда, – тихо ответил он.
Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье – все готовы:
Никто не хочет грусть делить.
Так?
– Так.
– Вот видите, как я помню ваши стихи. Потому что они лучше всех, какие есть на свете!
– Что вы, Варенька?! Да вы не читали других!
– Прекрасно читала! – ответила очень серьезно Варенька. – И хочу вам сказать не о стихах, а о другом…
– О чем же?
– Об одиночестве… вашем. Это вам только так кажется, Да, да, не возражайте! Подождите! – быстро прервала она, увидев, что он хочет возразить. – Не возражайте, потому что я лучше это знаю.
– Вы?!.. – не мог не улыбнуться Лермонтов.
– Я. Вы не должны так чувствовать и так говорить. Вы не одиноки. Нет! Вам кажется, что никто не хочет делить с вами вашу грусть? Так вот: я хочу ее делить, Мишель. И я решила это с той самой минуты, когда прочла эти стихи. Я хочу делить с вами и вашу грусть и все, что с вами случится, и это ничего, что вы страдаете из-за этой… царицы – и пусть вы уезжаете. Это ничего не меняет! Я все равно останусь с вами, и вы это знайте. Вот что мне нужно было сказать вам перед вашим отъездом.
Она перевела дыхание.
Он взял в свои руки ее маленькую, прохладную от вечерней сырости ладонь и прижал к ней сначала губы, потом лоб, как верующий мусульманин к святыне.
– Варенька, Варенька, – сказал он, глядя на ее милое лицо, – вы, наверно, ангел. Я убежден в этом.
Так радостен был ее смех, что и он улыбнулся – не своим, словам, а ее радости.
– Скажите, что вы нынче пели после грозы?
– Вокализы! Разве вы слышали?
– Ах, Варенька, – с восторгом сказал он, – ежели б вы знали, как это было хорошо!..
– Правда? – переспросила Варенька с просиявшим лицом. – Я очень рада, что вам понравилось!
Он помолчал и вдруг, став очень серьезным, сказал ей, как сестре или как самому близкому и дорогому другу:
– Есть во мне одно воспоминание, не передаваемое словами, не угасающее во мне никогда. Воспоминание о песне, которую пела мне моя мать. Мне было тогда около трех лет, и я забыл эту песню. Забыл – и помню, помню какой-то другой памятью, памятью сердца… Вам непонятно это?
– Нет, очень понятно.
– Я так и знал, что вы поймете. Я не знаю ни ее слов, ни ее напева, но все прекрасное, что я вижу и слышу, напоминает мне ту песню. Не только музыка, – закончил он тихо, – но, например, звезды… И ваш голос, когда вы пели сегодня.
Варенька сидела не шевелясь и смотрела в потемневшее небо.
– Можно мне сказать вам одно стихотворение? – спросил он.
Она молча кивнула головой.
– Я не знаю сам, что это такое, может быть, сон, может быть, сказка… Но оно написано как воспоминание о той песне и посвящено моей матери. Пусть это будет называться сказкой, мне все равно. Я назвал его «Ангел». Слушайте, Варенька:
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
. . . . . . . . . .
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Где-то за углом, подчеркивая вечернюю тишину, прогремела запоздалая карета. Потом все затихло.
Тогда он посмотрел на Вареньку и увидал, что она плачет, уронив голову на колени.
– Вы плачете? Варенька!..
– Мишель! Вы сами не знаете, какой вы замечательный поэт!.. Нигде, нигде на свете нет такого, ни в Москве, ни в этом противном Петербурге, который… я ненавижу, потому что вы туда уезжаете!.. И так скоро!..
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Мое грядущее в тумане,
Былое полно мук и зла..
Зачем не позже иль не ране
Меня природа создала?
ЛЕРМОНТОВИз стихотворения неизвестных годов.

ГЛАВА 1
Он смотрел из окна дорожной кареты на все, что открывалось взору: на унылые деревни, на грязные почтовые станции, на леса, темневшие на горизонте, и, с какой-то грустной отрадой вслушиваясь в заливчатый и однообразный, печальный и веселый звон валдайских бубенцов, думал о том, как много сынов России проезжало этой дорогой, открывшей тем, кто хотел видеть, не только красоту русской природы, но и великую скорбь бесправной нищеты русского народа. Какие мысли вызывала дорога у них?
Наконец блеснули вдали воды Волхова и показались сумрачные стены Новгорода.
Здесь полагалось ждать, пока переменят лошадей. Воспользовавшись этой задержкой и уговорив бабушку подождать его немного, он поспешил к городу.
Крутобокие серые облака низко плыли над кровлями и башнями древнего города.
Лермонтов с волнением смотрел на его стены, на высоко поднявшийся купол знаменитого Софийского собора.
Уже старый Прохор, посланный за ним бабушкой, в третий раз говорил, что лошади готовы и барыня ждет, а Лермонтову все не хотелось уходить. Волхов, как прежде, как сотни лет назад, все нес и нес свои воды, и в их сероватой, отливавшей сталью поверхности отражались купола древних церквей. Он думал о славянской вольности, колыбелью которой был этот город, и, всматриваясь в него с жадным интересом, чувствовал себя сыном своего народа, которому снова предстоит бороться за то, что утрачено.
Приветствую тебя, воинственных славян
Святая колыбель! —
тихо шептали его губы. И ему хотелось произнести эти только что сложившиеся в стихотворную строку слова со старых стен когда-то вольного города.
Он вернулся в дорожную карету хмурый и долго молча смотрел из окна.
– Что это ты, Мишенька, вроде как приуныл? – спросила, наконец, Елизавета Алексеевна, которой наскучило его молчание.
– Так, бабушка, про старое время вспомнил.
– Это про какое же старое время? Что́ ты из старого помнить-то можешь семнадцати лет от роду? Ты лучше меня бы про старое время спросил. А то, гляди, какой старик!
– Нет, – усмехнулся он, – того «старого», о котором я думал, и вы не знали. Я о старом Новгороде думал.
– А что о нем думать? Город был как город! Ну, стены там, ты говоришь, старинные да церкви… Многое, чай, уж и развалилось. Да и в других городах это есть. Погляди, даже лицом весь потемнел!.. Словно пропало что…
– Свобода пропала, бабушка. Здесь свободные русские люди жили, здесь была вольница новгородская, народное вече… Разве теперь что-нибудь осталось от вольности народной? Теперь вся Россия под самодержавным сапогом.
– Что это ты, Мишенька, господь с тобой! Разве такое пристало тебе говорить! Бог знает, друг мой, что ты иной раз скажешь! Скажи-ка вот лучше Прохору, что нам ужинать пора.
Но Елизавете Алексеевне не удалось рассеять мрачное раздумье внука. И долго еще после ужина он хранил молчание, уныло и сумрачно глядя в темноту перед собой. А потом, примостившись в углу кареты, долго писал что-то, перечеркивая написанное, шепча в задумчивости какие-то слова.
Заснул он поздно, а проснувшись, увидал серое небо и серые дома.
Вот и Петербург…
– Мишенька, приехали!
ГЛАВА 2
В первые дни после переезда, в ненастные дни начала осени, Лермонтов осматривал Петербург.
Он долго стоял на Сенатской площади, где свершились события, сыгравшие такую великую роль в жизни его современников.
В разговорах учеников Благородного пансиона и на поздних, иногда и ночных сборищах студентов Московского университета имена героев 14 декабря для юношей сменившего их поколения звучали как лозунги, с которыми они были готовы идти в бой со всем злом окружавшей их жизни. Сколько пламенных мыслей, сколько молодого, горячего гнева бурлило, кипело и выливалось через край, когда собирались вместе друзья-ученики и потом, позднее, студенты!
Он смотрел на широкую площадь, поливаемую мелким осенним дождем, на громаду Зимнего дворца, на высоко поднявшиеся воды темной Невы – и видел: вот здесь стояли они, эти героические полки, пришедшие заявить царю свою волю. Сколько их, искателей правды, уже приняли и принимают добровольную муку – о, сколько благороднейших русских людей!
Серый день уже переходил в вечер, когда он возвращался домой. Темные, полные влаги облака низко плыли с севера над высокими крышами серых, желтоватых, коричневых домов.
Поздно вечером забежал Раевский – сказать, что прием в Петербургский университет в этом году ввиду большого количества поданных прошений, по слухам, будет затруднен.
Это огорчило бабушку, но, к удивлению ее и Святослава Афанасьевича, оставило равнодушным Мишеля.
– В конце концов не все ли равно, где учиться, не это главное, – сказал он неожиданно.
Он вышел немного проводить Раевского, но, пройдя две-три улицы, повернул домой.
Острый шпиль Петропавловской крепости слабо вырисовывался перед ним на темных облаках.
Петропавловская крепость!.. Как часто с трепетом произносились московской молодежью эти зловещие два слова! Здесь, на кронверке крепости, произошла страшная казнь. Он остановился всматриваясь. Здесь кончилась жизнь героев… И все прошло, как круг от камня, брошенного в воду… «Средь бурь пустых томится юность наша…»
Так зачем же, зачем даны нам глубокие познания, и талант, и пылкая любовь к свободе?! Зачем?!.
ГЛАВА 3
Как не похож был теплый уют московских особняков на эти холодные и величественные дома!
За большими зеркальными окнами сверкает холодным блеском Нева.
По набережной ее полноводного канала редко-редко простучат шаги запоздалого прохожего. Наклонившиеся к реке деревья опустили ветки над темной водой, где отражается осенний, поздно встающий месяц.
Лермонтов не зажигал огня, наблюдая за медленным восхождением ущербной луны. Он уже три дня никуда не выходил из-за легкой простуды. А надо бы выйти, побродить по городу, который с трудом, не сразу раскрывал ему свою душу. Ему захотелось вернуться к давно им оставленной музыке. Он прошел в гостиную, зажег свечи и, подсев к роялю, стал вспоминать свое любимое адажио из сонаты Бетховена. Бабушкина комната была далеко, да ей и не мешала никогда его игра.
Он не слышал звонка в прихожей и вздрогнул от неожиданного появления Раевского.
– Святослав! Что так поздно?
– Новости, Мишель, сейчас только узнал!
– Ну, пойдем ко мне.
Лермонтов взял свечу и пошел впереди.
– Какие новости: хорошие или плохие? – спрашивал он, всматриваясь в лицо друга.
– Сейчас все расскажу. Я нынче зашел в Университет и узнал от студентов, что для перехода из одного Университета в другой по новому указу надо сдавать вступительные экзамены по всем предметам. Вот, брат, какая новость.
– Не может быть! Держать снова вступительный экзамен, как новичку?!
– Вот именно.
– Я ни за что не соглашусь на это!
– Но что же ты будешь делать?
– Не знаю, не знаю. Еще ничего не могу придумать. Но, впрочем… – Лермонтов остановился перед Раевским и посмотрел на него невеселым взглядом. – Впрочем, тут и думать-то много не приходится. Если не Университет, так что же у нас остается? Только военная служба.
– Ты – и военная служба! – повторил почти с испугом Раевский. – Что же станет тогда со стихами твоими, с поэзией?
– Думаю, что в этом мало что изменится, а впрочем, я еще ничего не решил. Знаю только, что вступительный экзамен заново держать не буду. И знаю также, что, если начнется у нас война, я буду служить своей родине и своему народу так, как служат все военные. Уж этого-то мне запретить никто не может!
– Но ты поэт!!.
– Как поэт я еще никому не нужен, – усмехнулся Лермонтов. – И над повестью своей без толку мучаюсь. И мучаюсь и злюсь на себя – и все выходит плохо. А бросить духу не хватает. Ежели закончу ее, буду счастлив.
– О чем же она, Миша, скажи хоть мне-то!
– О крестьянском восстании времен Пугачева.
– Во-от что!.. Значит, все-таки пишешь… – протянул Раевский, задумавшись. – Ты мне ее непременно покажи.
– Но ведь она еще не кончена, – неохотно ответил Лермонтов, – и я с самого начала ею недоволен.
– Но, может быть, ты и не прав?
– Нет, – вздохнул Лермонтов, – к сожалению, прав. И все-таки все, что я думаю о крепостном бесправии народа и о неизбежной расплате, которая ждет наших душевладельцев, я в этой повести напишу черным по белому… Между прочим, ты знаешь ли, сколько мне этой осенью стукнет? Восемнадцать лет! Это только сказать легко! Скоро и старость, а чтобы написать все то, что написать мне необходимо, требуется прожить еще по крайней мере лет сорок. Это уж обязательно, я высчитал. Вот ты и рассуди сам, могу ли я терять лишние годы жизни на учение?
Раевский удивленно посмотрел на него.
– Но при твоем умении работать ты в десять лет напишешь целую библиотеку! Ты сосчитай, сколько уже написал! Давай подведем итог!
– Еще рано. Значительного-то ничего нет, а все эти стихотворения что осенние листья: пошумят, пролетят и умрут.
– А «Демон» твой, которого ты мне до сих пор не читал?
– Из всего написанного мной, может быть, только одна эта поэма и заслуживает внимания.
– Когда же я ее узнаю?
– Когда-нибудь. Я лучше покажу тебе небольшое стихотворение на одну очень дорогую мне тему – если можно назвать таким плохим словом лучшую девушку из всех, кого я знал. Ты не угадываешь, о ком я говорю?
– Нет.
– О Вареньке Лопухиной, – сказал тихо Лермонтов, взглянув в удивленные глаза Раевского. – Она лучшая из лучших, и верю я только ей одной.
– Я понимаю тебя. Ей невозможно не верить: такой чарующей простоты, пожалуй, я ни в ком, кроме Вареньки, не видал. А об Университете ты еще подумай.
– Подумаю. А чем плоха военная служба? Те, кто вывел в двадцать пятом году войска на Сенатскую площадь, были военными!








