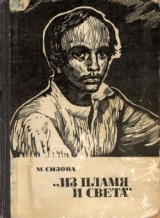
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 6
Ивашка третий день не приходил. Миша хотел спросить о нем у Макара-столяра, Ивашкиного дяди, который часто делал для него что-нибудь интересное: то лодочку с маленькими веслами, то санки, то деревянное ружье. Но дядя Макар тоже что-то давно не появлялся.
В самую жару, когда все отдыхали после обеда, Миша осторожно вышел из дому и, миновав парк, побежал на деревню.
Дверь Ивашкиной избы была открыта. Миша перешагнул порог и замер. Духота в избе была такая, точно оттуда вышел весь воздух. Стаи мух носились над столом и бились в стекла низеньких окошек. Ивашка хлебал ложкой квас из деревянной миски, стоявшей на столе, а седой дед с ложкой в руке сидел неподвижно, опустив белую голову.
– Ивашка! – окликнул Миша с порога. – Ты что не приходишь?
Товарищ его игр, встав с лавки, медленно подошел к нему. Мише показалось, что у него стали другая походка и другое лицо…
– Дядю Макара у нас староста продал, – тихо сказал он. – Вон дедушка плачет.
Ивашка тихонько всхлипнул и вытер глаза рукавом.
– Как продал? – испуганно переспросил Миша.
– Как всех продают… Одни мы теперь с дедушкой-то. За недоимки староста запродал, – угрюмо пояснил Ивашка.
Миша растерянно окинул взглядом все жилище Ивашки: маленькие окошки, закопченные стены. В углу еще лежали на полу стружки – следы работы дяди Макара. Потом посмотрел на старого деда и медленно побрел домой, чувствуя, что он в чем-то виноват перед своим другом, глубоко и непоправимо.
В этот вечер он долго сидел молча в любимом углу – в столовой на ковре. Потом поднял на бабушку большие темные глаза и тихо спросил:
– Бабушка, а меня тоже староста может продать?
Бабушка выронила из рук карты. Мсье Леви закашлялся и поправил очки, а Христина Осиповна так быстро опустилась на стул около двери, точно у нее вдруг отнялись обе ноги.
– Что ты такое говоришь, Мишенька, кто тебя научил? – Бабушка в волнении оглянулась на мсье Леви.
Но Миша повторил:
– Может… продать староста?
– Кого? Тебя?! – переспросила бабушка и засмеялась под этим упорным и непонятным ей детским взглядом. – Тебя, мой дружок, продать не могут.
Карты опять стали ложиться на свои места.
– А почему дядю Макара могут? – сказал он тихо.
– Это которого – Ивашкиного, что ль? – сразу успокаиваясь, обняла его бабушка. – Ивашкин дядя крепостной, а ты, мой дружок, дворянин и помещиком будешь. Помещиков не продают никогда. А продают, Мишенька, только крепостных.
– Людей? – перебил он бабушку, вспоминая обычное выражение Дарьи Григорьевны.
– Ну да, людей, – ответила бабушка.
– А почему? – Он смотрел куда-то в сторону.
– Как почему? – Бабушка не сразу нашла ответ. – Да потому, что они крестьяне, вот их и позволяют продавать… и… покупать.
– Кто позволяет?
Но тут бабушка рассердилась и решительно сказала:
– Когда вырастешь, дружок мой, все узнаешь. А сейчас иди спать.
И сама отвела его наверх.
Утро следующего дня рано заглянуло в Мишину комнату золотым солнечным глазом. Тихо двигались на стенах и на полу тени от зеленых веток, качавшихся за окном.
– Мишенка! – ласково окликнула его Христина Осиповна, заканчивая перед зеркалом свою прическу. – Guten Morgen! Die Sonne leuchtet, und der Himmel ist wunderblau![5]5
Доброе утро! Солнце светит, и небо ярко-голубое! (нем.).
[Закрыть]
В самом деле день обещал быть чудесным! Солнце сияло на совершенно безоблачном небе, и весь воздух казался голубым.
Но Мишенька был серьезен в это утро и деловито спросил Христину Осиповну:
– А бабушка встала?
– Natürlich![6]6
Конечно! (нем.).
[Закрыть] – весело ответила немка.
Тогда Миша быстро и очень решительно стал одеваться.
А бабушка в это утро в третий раз написала родным в Петербург, прося подыскать ей хорошего гувернера, да поскорей, так как внук ее стал интересоваться вопросами, не подходящими для его возраста.
Она прочитала это письмо мсье Леви, и тот вполне одобрил ее намерение.
– Тем более, – сказал он, – что и мсье le pére этого желал.
Мсье Леви, несмотря на свое краткое знакомство с Юрием Петровичем, питал к нему большое уважение и время от времени сообщал в письменной форме о состоянии здоровья Миши, которое все еще доставляло ему немало забот. Причина слабости Миши коренилась, по глубокому убеждению мсье Леви, в чрезмерной силе воображения, которую он усматривал даже в той склонности Мишеньки, которая проявлялась в первые годы его жизни и о которой любила, смеясь, рассказывать Елизавета Алексеевна:
– Бывало, увидит нашу кошку Мотьку и повторяет: «Кошка – окошко», «Окошко – кошка…» Даже надоест! А то пойдет к Христине Осиповне и скажет ей по-немецки, как новость какую: «Кнабе – рабе», «Тиш и фиш»… И не смеется, а точно ему это страсть как удивительно!
Отворилась дверь, и Миша вбежал в комнату. Он быстро поцеловал бабушку, поздоровался с мсье Леви и решительно забрался к бабушке на колени, что делал в тех случаях, когда хотел ее о чем-нибудь попросить.
– Ну что, шалун? Каково спал нынче?
Но внук не ответил на вопрос. Он глядел ей в глаза пытливым и настойчивым взглядом.
– Бабушка, а где ваш Гнедой?
– Вот тебе раз! – рассмеялась бабушка. – Как это где? На конюшне! Ведь ты его сам третьего дня с руки сахаром кормил.
– А где он был?
– Когда?
– Прежде! Совсем прежде!
– Да что ты, Мишенька? Когда прежде-то? У помещика Мосолова был, я его туда продала.
– А после?
– А после вернула. Увидела, что новый конь хуже, поехала к Мосолову и вернула.
– А почему он отдал?
– Как это «почему»? Потому что я ему деньги вернула!
– Бабушка! – сказал Миша и остановился на мгновенье, переводя дыхание. – Верните дядю Макара… как Гнедого вернули!
Бабушка, не шевелясь, во все глаза смотрела на внука.
– Господи-батюшка, – проговорила она наконец. – Ведь это как подвел-то! И большой не догадается: начал с Гнедого, а к Макару подвел!
– Я вам говорил! – торжествующе произнес мсье Леви. – Этот мальчик уже имеет свои собственные желания.
– Да как же это я его верну? – строго посмотрела бабушка на Мишеньку. – Ведь я его своей волей продала!
– Как Гнедого! – упрямо мотнул головой Миша.
– Да на что он тебе?
– Я хочу дядю Макара!
– Да что же это на самом деле? – всерьез рассердилась бабушка. – Ведь эдак с тобой скоро никакого сладу не будет!
– Я вам говорил, – повторил еще раз мсье Леви и, важно ступая, вышел из комнаты.
А Мишенька плакал все громче, и уговоры бабушки не производили на него никакого впечатления. Он рыдал и повторял, задыхаясь от слез:
– Где дядя Мака-ар? Верните дядю Мака-ра-а-а!..
И кричал он до тех пор, пока перепуганная бабушка не пообещала, что нынче же после обеда велит заложить коляску и поедет к соседу выкупать Макара.
Вечером в детскую прибежала Настя и сказала, что Мишеньку ждут на господской кухне. Христина Осиповна спустилась туда, держа его за руку; и едва они открыли дверь, седой как лунь Ивашкин дед, сам Ивашка и между ними двумя дядя Макар в новой рубахе повалились ему в ноги.
Смущенный и растерянный смотрел Миша то на одного, то на другого и, наконец, спросил, глядя на Ивашку:
– Придешь ко мне завтра? Приходи, драться будем!
– Вот уж это позвал так позвал в гости! Нашел, чем попотчевать! – смеялась потом бабушка.
ГЛАВА 7
Если вдруг вечером во время чая в тихом воздухе послышится вдали звон бубенцов, Мишенька вздрагивает и замирает в радостном ожидании. На лице бабушки выступают красные пятна. Христина Осиповна, остановившись на полуслове, вопросительно смотрит на нее.
Звон бубенцов приближается, становится все громче и замолкает наконец, дрогнув, у крыльца. Старый Фока открывает дверь и громко докладывает:
– Барин Юрий Петрович изволили прибыть!
И вот уже он входит и, поцеловав почтительно бабушкину руку, обнимает сына. И, обвив крепко-крепко его шею руками, Миша прижимается головой к его груди.
Уже за полночь Юрий Петрович входит в бабушкину комнату.
– Я хочу знать, – говорит он решительно, – когда вы отдадите мне сына?
Бабушка бледнеет и, достав из секретера большой лист бумаги, протягивает его зятю.
– Вот мое завещание… Оно составлено мною в год смерти моей дорогой, моей незабвенной… – бабушка останавливается, борясь со слезами, которые все равно текут по ее лицу, – моей незабвенной дочери, за свою любовь к вам заплатившей жизнью, – заканчивает она твердо, глядя ему в глаза.
Юрий Петрович опускает голову и, кусая губы, с трудом произносит:
– Не говорите так… прошу вас!
– В этом завещании, – продолжает бабушка неумолимо, – значится, что все мое имущество – и движимое и недвижимое – передаю я Мишеньке, но с одним и единственным условием: если он будет оставлен мне на воспитание до его совершеннолетия.
Губы Юрия Петровича дрожат, и он долго не может ответить.
– Боже мой! Как это ужасно!.. – шепчет он наконец.
– Может быть, это и ужасно, но не для внука моего, в котором заключена теперь вся моя жизнь. А вы… вы еще молоды, сударь мой!
. . . . . . . . . .
– Ты опять уедешь? – спрашивает Миша отца, сидя у него на коленях и разглядывая его дорожный костюм.
– Да. Дружок мой, – печально говорит Юрий Петрович, поглаживая волнистые волосы Мишеньки и слегка покачивая его на одном колене.
– А зачем?
– Так нужно, так нужно, mon petit…[7]7
Мой маленький (франц.).
[Закрыть]
– Не уезжай! – просит мальчик и прижимается головой к плечу отца. – Куда ты уедешь?
– В мой дом, Мишенька. Это также и твой дом, дружок мой, в Кропотово, туда, в Тульскую губернию, – с неопределенным жестом отвечает Юрий Петрович.
– И я хочу… с тобой… в губернию! – уже со слезами говорит Мишенька и крепче прижимается к отцу.
– Когда ты вырастешь, ты приедешь ко мне, – в голосе Юрия Петровича звучит твердая решимость. – Я сам приеду за тобой, мой мальчик, и мы с тобой заживем вместе. Только если ты не будешь плакать!
Он обещал не плакать. И все-таки, когда старый Фока, подняв его, поднес к отцу, уже сидевшему в коляске, когда Юрий Петрович еще раз обнял его, перекрестил и, смахнув непокорную слезу, бережно передал Фоке, приказав кучеру: «Трогай!» – Миша закричал: «Не надо! Не уезжай!..» – и, заливаясь слезами, кричал до тех пор, пока бабушка не вышла на крыльцо и не увела его в дом.
Теперь она была спокойна – он останется с ней…
Но скоро внук снова нарушил ее спокойствие – и на этот раз не по своей воле. К великому ужасу бабушки, он заболел, и мсье Леви, увидав покрывшую его тело красную сыпь, объявил, что у него корь.
* * *
В печке тихо потрескивают дрова. Быстро-быстро нанизываются петли на крючок в руках Христины Осиповны. Окно голубеет сумерками, и сквозь полузакрытые веки Миша замечает, что от алого огня в раскрытой печке серовато-голубые сумерки кажутся совсем синими. И слегка голубеют первые, еще мокрые снежинки, непрерывно падающие за окном.
Ему кажется, что тело его стало непомерно тяжелым и руки точно скованы железом. Временами он поглядывает на свою любимую картинку, которую ему как-то подарил отец, и думает, что рыцарю, нарисованному на ней, тоже тяжело было поднимать руки в блестящих латах. Но он поднимал их, и метал копье, и правил конем, который нес его по узкой тропинке среди высоких гор.
Когда он выздоровеет, он спросит отца, как называются эти горы. И как зовут рыцаря?.. Может быть, это Дон-Кихот, о котором так хорошо рассказывала ему Христина Осиповна?
Что это? Он прислушивается. Это в девичьей поют!.
Какая хорошая песня! Ему кажется, что вот сейчас он вспомнит ту единственную, самую прекрасную песню, прекрасней которой нет ничего на свете. Но это не так… нет: его мать пела другую. Он спросит о ней отца… И он спросит отца, были ли рыцари «людьми», и можно ли было их покупать, или они сами покупали «людей».
Он не хочет, чтобы «людей» продавали! Он боится, как бы опять не продали дядю Макара. Нужно попросить папеньку… Нужно сказать ему… И он совсем не удивляется, когда вместо Христины Осиповны, только что сидевшей около него, видит отца, по которому так тосковал, и слышит, как отец, наклонившись над ним, говорит:
– Ничего, ничего, мой мальчик, потерпи еще немножко. Так вы полагаете, мсье Леви, что это кризис?
Он хотел посмотреть на мсье Леви, хотел посмотреть на «кризис»…
Но не видел ни того, ни другого. Он впал в долгое забытье.
ГЛАВА 8
Первая вьюга занесла все дороги и поля мокрым снегом. А потом похолодало, и мороз обледенил снежную корку. Была такая гололедица, что две бабы, шлепнувшись во дворе у самых господских окон, долго помогали одна другой стать на ноги на скользком, бугристом льду…
В такую-то погоду, в темный вечер ранней зимы, должен был явиться в Тарханы так долго ожидаемый гувернер из Петербурга.
Уже наступила ночь, когда собаки за воротами залились дружным лаем, заслышав вдали лошадиный топот.
Экипаж подъехал медленно. Одно колесо едва держалось, кузов коляски был помят.
Из коляски, освещенное трепыхавшимся пламенем разбитого в пути фонаря, выглядывало худощавое лицо и нос с горбинкой.
В пути случилась беда: поскользнувшаяся пристяжная, упав, стащила за собой коляску с седоком в дорожную канаву. Рыхлый снег, наметенный вьюгой, смягчил падение, и седок вскочил на ноги, прежде чем подоспела помощь. Но он все же сильно ушибся, и главное – его светлые панталоны порвались на колене, что чрезвычайно смущало пострадавшего.
Войдя в гостиную, где у ярко горевшей печки ждали его бабушка и Юрий Петрович, мсье Капэ долго извинялся перед бабушкой за беспорядок в костюме. И только после этого, галантно поцеловав ее руку, упомянул вскользь о своих ушибах, придав всему происшествию характер веселого приключения.
– Но это ничто не означает, мадам! Soyez tranquille![8]8
Будьте покойны! (франц.).
[Закрыть] Все это прошел, и вот мы здесь, – закончил он свой рассказ и хотел сесть в кресло, предложенное ему Юрием Петровичем.
Но тут оказалось, что эта задача почти невыполнима: колено мсье Капэ не хотело сгибаться, и он должен был признаться, что чувствует в нем порядочную боль.
– Но это ничто не означает! Оставляйтесь покойны, мадам! – успокаивал он бабушку.
Несмотря на все протесты приезжего, был тотчас же разбужен мсье Леви. Он осмотрел ушибы, наложил компресс и предписал полный покой в течение трех дней.
Мсье Капэ был немедленно проведен в приготовленную для него комнату наверху, рядом с детской.
Поднимаясь туда в сопровождении бабушки и Юрия Петровича, с трудом наступая на ушибленную ногу, он попросил разрешения взглянуть по дороге на своего будущего питомца.
Новый гувернер подошел к кровати и очень низко наклонил свой горбатый нос над горящим лицом Мишеля.
– Та-та-та!.. – покачал головой француз. – Oh, mon pauvre petit lapin![9]9
О мой бедный маленький кролик! (франц.).
[Закрыть] – прошептал он ласково и, повернувшись к бабушке, добавил: – Но оставляйтесь покойны, мадам! – после чего, кажется в первый раз в жизни, бабушка и Юрий Петрович пришли к одинаковому заключению: оба подумали, что новый гувернер является сам своей лучшей рекомендацией, ибо, не проведя в доме еще и одного часа, обнаружил свойства, столь ценные в воспитателе: мужественное терпение, деликатность нрава и манер и любовь к детям.
Поэтому, когда на другой день мсье Капэ протянул бабушке свою рекомендательную бумагу со словами: «Je suis recommandé, madame, à votre maison par monsier et madame…»[10]10
«Я рекомендован в ваш дом, мадам, господином и госпожой…» (франц.).
[Закрыть] – бабушка перебила его и решительно сказала:
– Мне не нужно, батюшка, никаких рекомендаций, я и сама вижу.
С этого дня француз Жан Капэ, бывший сержант наполеоновской армии, захваченный русскими в числе пленных, стал своим человеком в тархановском доме.
* * *
Миша выздоравливал медленно, с трудом перенося болезнь и ее осложнения.
Юрий Петрович, отозванный по делам в свое Кропотово, уехал туда лишь после того, как убедился окончательно, что сын его поправляется и что у него, наконец, есть воспитатель.
Мальчик был еще очень слаб и часто дремал от слабости, лишь в полусне замечая то, что происходило вокруг.
Однажды утром сквозь тонкий покров этой дремоты увидал он чье-то худощавое лицо и нос с горбинкой.
Он сделал усилие и открыл глаза. Перед ним на маленькой скамеечке сидел незнакомый человек. Живые черные глаза весело и не без лукавства посматривали на Мишу.
– Кто это? – спросил Миша.
– Эт-то-о? – повторил незнакомец и улыбнулся. – Этто – друг! C'est ton ami![11]11
Это твой друг! (франц.).
[Закрыть] – перешел он быстро на родной язык. – А ти кто есть? Un pauvre petit lapin, n'est ce pas?[12]12
Бедный маленький кролик, да? (франц.).
[Закрыть] – весело спросил он и похлопал по маленькой руке, лежавшей на одеяле.
Миша ничего не ответил. Он продолжал рассматривать незнакомца, а незнакомец рассматривал его. Потом он перевел свой взгляд на картинку с рыцарем.
– А эт-то что такой? – спросил он, щуря глаза.
Миша посмотрел по направлению его взгляда и с тихой гордостью сказал:
– Это Дон-Кихот… и мой… пра-пра-пра-дедушка… у моего отца…
Тут он почувствовал, что ему еще трудно говорить и что он путает слова. Но новый знакомый прекрасно его понял:
– О, я понимал! – сказал он. – Эт-то… рыцарь! C'est un chevalier! И мой дедушка, mon grand père тоже был un chevalier! Как эт-то?.. И он браль своя шпага! (Мсье Капэ схватил воображаемую шпагу.) И он садился на один конь! (Мсье Капэ сел на воображаемого коня.) И он сражался! Comme ça! Comme ça! – повторял он, энергично наступая на невидимого противника то с одной, то с другой стороны.
Невидимый противник поспешил упасть на коврик. Мсье Капэ поставил на него свою ногу и, гордо посмотрев на Мишу, закончил:
– Et comme ça![13]13
Вот так! Вот так! И вот так! (франц.).
[Закрыть]
Так быстро победил он врага и сердце Миши, и начало полного выздоровления мальчика совпало с началом его дружбы с французским сержантом.
ГЛАВА 9
Любил Миша смотреть из своего окошка в ясные зимние дни, когда деревья парка застывали, как хрупкое белое кружево, четко, легко выступая на холодной лазури неба.
Особенно часто сидел он у окошка в тихие дни своего выздоровления, когда ему еще нельзя было выходить на воздух.
Его удивляло, что мсье Капэ, не болевший корью, тоже не ходил гулять, и только потом он узнал, что гувернер его, имевший храброе сердце, боялся мороза и снега.
В метельные дни, когда вьюга носилась по парку, заметая дорожки и поднимая за окнами зыбкую пелену снежных вихрей, худощавое лицо мсье Капэ словно еще вытягивалось и становилось печальным. Потухшим взглядом из-под нахмуренных бровей следил он из окна за снегом, несущимся в порывах ветра, и, сокрушенно покачивая головой, бормотал вполголоса:
– Il neige! De nouevau il neige!..[14]14
Снег! Опять снег!.. (франц.).
[Закрыть]
Лицо его становилось задумчивым, и он тихо повторял:
– О, как она страдаль! Как страдаль!..
– Кто?
– Наш армия! И потом… потом наш император!
– Наполеон?
– Oui,[15]15
Да (франц.).
[Закрыть] император Наполеон, – задумчиво отвечал гувернер, прислушиваясь к завыванию русской вьюги. – Они шли и шли… в такой же мятель… и умираль – там, на эт-тот Бэрэзина… на этом ледяной река!
Миша угадывал горе француза, оплакивавшего своих товарищей, и молча слушал его бормотанье.
– И он умираль… Si loin de sa patrie! Si loin de la France![16]16
Так далеко от своей родины! Так далеко от Франции! (франц.).
[Закрыть] В сн'ег и в л'ед!
Мсье Капэ умолкал и прикрывал глаза рукой.
Потом он неожиданно оживлялся и с разгоревшимся взглядом восклицал:
– Но какой это был армия! O, guelle armee! Слюшай, Мишель!..
Француз придвигал скамеечку к печке, а Мишель устраивался около него на теплой медвежьей шкуре и, подперев голову одной рукой, слушал мсье Капэ, стараясь не проронить ни одного слова – ни французского, ни русского, перемешанных в рассказах его гувернера.
Ветер прогремит по крыше железным листом и бросит в окно снегом. Из девичьей слышна приглушенная песня (Дарья Григорьевна велит девушкам петь за работой, чтобы не болтали зря), в буфетной звенят посудой, потому что близится час обеда… а за худыми плечами мсье Капэ встают перед глазами Миши бесчисленные полки. Они проходят церемониальным маршем, с приветственными криками перед невысоким человеком, одетым в простой походный сюртук серого цвета.
Воздух дрожит от крика: «Vive l'empereur!»[17]17
Да здравствует император! (франц.).
[Закрыть]
Тогда человек в сером сюртуке и треугольной шляпе поднимает высоко маленькую руку и, отвечая приветствием на приветствие, кричит: «Vive la France!»[18]18
Да здравствует Франция! (франц.).
[Закрыть]
Полки идут церемониальным маршем…
Барабаны отбивают дробь.
Его армия проходила страну за страной, покорная безграничному тщеславию и властолюбию этого человека в сером сюртуке. Она шла зелеными степями, шла вдоль извилистых рек и не испугалась зыбучих песков страны палящего солнца – Египта.
Полки прошли под пирамидами, тысячелетиями бросавшими тень на знойный песок, и солдаты Наполеона умирали безропотно, не зная, кому и зачем нужны его слова и их смерть.
А император стремился все дальше.
– И он хотел взять Россия. Он хотел видеть Кремль! И этто был конес. Да…
Падал холодный снег…
И светло поблескивала на солнце страшная река Березина, где французские храбрецы и красавцы, гордость армии, падали в ледяную воду и исчезали подо льдом.
– Oh, mon dieu!..[19]19
О боже мой!.. (франц.).
[Закрыть] – стонал француз от боли воспоминаний.
И Миша тихо спросил его однажды:
– А ваш… император?
– Бэжаль… – ответил мсье Капэ и умолк.
Ветер гремел железным листом на крыше. Внизу, в буфетной, звенели посудой, готовясь подавать обед. А за окном носилась вьюга, заметая дорожки парка и сжимая тоской осиротевшее сердце наполеоновского сержанта.








