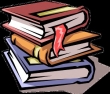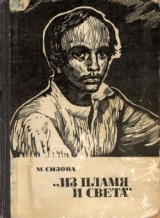
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 2
Последняя застава перед Петербургом… И выплывают, вставая из мартовского тумана, величавые очертания города, к которому он уже привык, который успел полюбить, не забывая, однако, никогда своей первой любви – Москвы.
Он смотрел вокруг рассеянным взглядом, полный воспоминаний о пережитой встрече и мыслей о своей новой драме. Не странно ли? Варенька, с которой он только что простился, руку которой только что держал в своей, не знает и, может быть, никогда не узнает, что в «Двух братьях» он написал о ней! «…я предался ей как судьбе… клялась любить меня вечно – мы расстались… я был в ней уверен, как в самом себе. Прошло три года разлуки, мучительные, пустые три года… я вернулся на родину… я ее нашел замужем!.. Он стар и глуп… богат и знатен».
Но она никогда не узнает об этом, не узнает, если не увидит эту драму на театре.
На театре… Сначала нужно, чтобы драматическая цензура разрешила «Маскарад» и чтобы Гедеонов принял его к постановке. Цензор Ольдекоп вернул первую трехактную редакцию «для нужных перемен»… Ну что же? Он с увлечением работал над переделками. Новую редакцию, четырехактную, Раевский еще в декабре должен был отнести в Александрийский театр вместе с письмом к Гедеонову. А сейчас уже март, и мокрый снег уже пахнет весной, и Нева в тумане, и в тумане оранжевыми кругами мутно светятся редкие уличные фонари.
– Я не был уверен, Святослав Афанасьевич, что застану тебя!
– Мне действительно пришлось неожиданно съездить в Пензу. Между прочим, там я узнал кое-что интересное и для тебя. Это касается Герцена и Огарева.
– Почему же ты узнал о них в Пензе?
– Потому что Огарев выслан туда из Москвы. Я мог бы его увидеть, но мне нужно было спешить сюда.
– Жаль!.. Неужели ты не мог задержаться?
– Никак не мог! Огарев в Пензе живет у отца и, как слышно, пишет сочинение по общественным вопросам. Говорят, излагает свою систему, но пока еще, кажется, никому ее не читал.
– А Герцен?
– С ним хуже. Был выслан куда-то к Вятке, а теперь в Пермь. Обвинили их в исполнении противоправительственных песен на вечеринке, где был, к несчастью, кем-то разбит бюст государя. Но интереснее всего, что на вечеринке этой ни Герцен, ни Огарев не были вовсе.
– Так как же могли их выслать? Почему не жаловались? Почему не протестовали?
Раевский безнадежно махнул рукой:
– Участие их на вечеринке – просто предлог, выдуманный для прикрытия настоящей причины. Оба они пользовались слишком большим влиянием и слишком ярко горели, чтобы их могли оставить в покое, – и их кружок также. Я тут записал одно четверостишие Огарева, замечательные слова, обращенные к Герцену. Вот, смотри!
Он порылся у себя в кармане и вынул листок из записной книжки. Лермонтов взял его и прочел вслух:
Друг! все мое найдешь здесь ты,
И к миру лучшему стремленья,
О небе сладкие мечты
И на земле – разуверенья.
– Да-а… – сказал он, помолчав. – Под этой строфой могло бы подписаться целое поколение.
Лермонтов, задумавшись, смотрел на Раевского.
– Знаешь, – проговорил он, – мне навсегда запомнились слова Герцена об Огареве; он сказал, что жизненным делом Огарева было создание той личности, которую он представлял из себя. Действительно, мне довелось слышать не однажды, что он оказывал какое-то особенное, очищающее действие на всех, кто его знал. Не зря Герцен его любит, как брата. Наверно, их все-таки скоро вернут, за них многие похлопочут, не правда ли? Когда я был еще в Университете, мне передали как-то слова Герцена, что они с Огаревым – разрозненные тома одной и той же книги. Это прекрасно сказано! Поверишь ли, есть люди, в отношении которых я испытываю то же самое чувство… – он помолчал. Молчал, задумавшись, и Раевский. – Ну как «Маскарад» мой? Ты передал Гедеонову мое письмо?
– Еще тридцать первого декабря передал… Но что делать с этим цензором Ольдекопом, Мишель? Он не разрешил и вторую редакцию!
Лермонтов порывисто встал из-за стола и, в сердцах оттолкнув свое кресло, зашагал по комнате.
– Нет, это еще не конец! – взволнованно сказал он. – За «Маскарад» я буду биться. Но ты мне скажи, как у нас, при нашей цензуре, можно писать и что можно писать?
– Да-а, – протянул Раевский, – не знаю, где еще в Европе имеется такая цензура. В прошлом году, говорят, Пушкин Бенкендорфу жаловался на действия цензурного комитета.
– Видишь! Даже он, даже он!.. – почти простонал Лермонтов. – Да, нас ничем не удивишь!
– Мишель, ты вернулся невесел. Что-нибудь случилось?
– Нет, пожалуй, ничего нового. Но старое – его почему-то иной раз чувствуешь острее и больнее.
– Что же это за старое?
Лермонтов вздохнул:
– Пожил я в деревне и насмотрелся на народ наш, на его нечеловеческую жизнь… Получше ли, похуже ли – даже у добрых наших рабовладельцев, – жизнь эту иными словами назвать нельзя: она именно нечеловеческая, ибо человеческое достоинство унижается в ней на каждом шагу. И к этому все привыкли, вот что нестерпимо! – закончил он с горечью.
– Этому придет конец. Настанет час и борьбе, – уверенно ответил Раевский.
* * *
– Вот что, Мишель, – сказал Раевский в тот же вечер. – Я непременно должен тебя познакомить с одним человеком.
– С кем?
– С Краевским, Андреем Александровичем. Он помощник редактора «Журнала Министерства народного просвещения». Тебе во всех отношениях будет полезно это знакомство, а он про тебя уже не однажды меня спрашивал.
– Это почему же?
– Да просто потому, что после того, как Сенковский прошлым летом напечатал в «Библиотеке для чтения» твоего «Хаджи Абрека», издатели интересуются тобой. Тебя это удивляет?
– По правде говоря, удивляет. Я и «Абрека» ни за что бы не дал в печать – приятели тайком отнесли в журнал. А знаешь, Святослав Афанасьевич, я почти кончил в Тарханах новую драму – «Два брата». Я тебе, помнится, о ней писал.
– Ты бы мне ее почитал лучше, – отозвался Раевский.
Лермонтов на минуту задумался:
– Изволь, только пойдем ко мне. Ваня! Свечей в кабинет!
– Я прочту тебе сначала один небольшой отрывок, – сказал он, когда свечи были зажжены, рукопись разложена на столе и Раевский устроился на диване. – Ну вот, мой герой… Юрий, рассказывает историю своих отношений с одной девушкой… – Лермонтов прочел только что написанную в Тарханах сцену, но после слов: «Я нашел ее замужем. Он стар и глуп», – закрыл рукопись. – Больше сегодня читать не буду. Ты знаешь ли, Слава, – медленно промолвил он, глядя а окно. – Я встретил ее по дороге из Тархан, я видел ее… с мужем.
– Ты видел Варвару Александровну?
– Да, я видел ее во дворе почтовой станции, в карете, всего одну минуту – один раз заглянул в ее глаза… И, боже мой, – добавил Лермонтов совсем тихо, – ежели бы ты знал, как она мне дорога!..
ГЛАВА 3
Несмотря на то, что Лермонтов числился – и в самом деле был – в «полку налицо», все свободные часы во время своих наездов из Царского он отдавал новой повести, где впервые наряду с людьми «большого света» хотел вывести одним из героев бедного чиновника. Раевский, хорошо знакомый с чиновничьим бытом, доставлял ему материал.
– Слава, ежели ты нынче никуда не спешишь, – сказал как-то вечером Лермонтов только что вернувшемуся из департамента Раевскому, – послушай еще одно описание, это из новой повести.
– Ты еще не решил, как назвать ее?
– Пока написано еще так мало, что я не думал о заглавии. Но вот что ты скажешь о героине?
«Княгиня Вера Дмитревна была женщина двадцати двух лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть… Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенна… Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная…»
– Не слишком ли портретно? – остановил его Раевский. – Ведь по этим строчкам каждый узнает Вареньку.
– И пусть, – ответил решительно Лермонтов. – Я ничего не имею против. Что до названия, то выберем его вместе, когда и ты дашь свои отрывки. А все, что написано мной, – только первые наброски. И вот еще один портрет, только начало:
«Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в нее стало трудно…»
– Неужели Сушкова? – усмехнулся Раевский.
– Я рад, что ты так быстро ее узнал.
– Но она будет совсем не рада, если поймет, кого ты имел в виду…
– Что же поделаешь, Святослав Афанасьевич? Я хочу быть правдивым! Эта женщина похожа на летучую мышь: она цепляется за все, что встречает на пути. И она когда-то не без удовольствия мучила сердце ребенка. Так пусть уж теперь не посетует.
– Да будет так. А я надеюсь дать тебе на днях небольшую записку о жизни чиновников одного департамента.
– Хорошо. А назовем повесть просто – «Княгиня Лиговская».
Но вскоре работа над повестью была прервана. Новые события совершенно отвлекли от нее обоих друзей.
Когда потом Лермонтов вспоминал все происшествия этого года после возвращения из Тархан, перед ним проходил какой-то пестрый калейдоскоп больших и мелких дел, забот житейских и забот творческих, каких-то встреч, огорчений и удалых гусарских забав, так хорошо помогавших порой скрыть от всех свои настоящие думы и печали.
С конца марта началась переписка с бабушкой об ее переезде в Петербург, и в начале мая бабушка была уже в Москве.
В мае миновала годовщина свадьбы Вареньки. Он думал об этом с тоской и болью, в которой не хотел признаться даже самому себе… Летом он болел, но не хотел лечиться и, уже выздоровев, не знал, чем заглушить и эту боль и тревогу за судьбу «Маскарада», – и скакал верхом то из Петербурга в Царское, то по окрестностям Царского – один или вместе с Монго – куда-нибудь, хоть на дачу к балерине, чтобы потом поэмой об этой поездке потешить гусар.
Только поздней осенью пришел отзыв на третью, пятиактную, редакцию «Маскарада», которой он дал новое название – «Арбенин». «Арбенин» также был запрещен драматической цензурой. Узнав об этом запрещении, он половину ночи шагал по набережной под дождем и ветром. Подойдя к Медному всаднику, постоял возле него, думая о Пушкине, и, возвращаясь домой, медленно прошел по набережной Мойки мимо дома Волконской, куда этой осенью переехал поэт.
Уже началась зима, когда Святославу Афанасьевичу удалось, наконец, привезти Лермонтова к издателю Краевскому.
Краевский, небольшого роста подтянутый человек с чрезвычайно живыми темными глазами и быстрыми движениями, оказался очень приятным собеседником.
– Очень, очень рад, – приветствовал он Лермонтова, посмотрев на него пытливым взглядом. – Я вашу поэму «Хаджи Абрек» прочел с подлинным удовольствием, знаю кое-что из ваших небольших стихотворений и нахожу их в высокой степени примечательными. Только трудно, на мой взгляд, соединить поэзию с гусарской службой!
– Почему же? – быстро возразил Лермонтов. – Разве не был гусаром Денис Давыдов, чудесный поэт? В гусарской службе я нахожу больше материала для поэзии, нежели в департаменте.
– Может быть, вы и правы, – согласился Краевский. – И я во всяком обличье – гусаром или чиновником – жду вас к себе в редакцию…
Тут же в редакции у Краевского, где он после первого знакомства в начале зимы нередко бывал, до него дошли слухи, что Пушкин переживает тяжелое время, что какая-то катастрофа назревает в его семье и друзья Пушкина в тревоге.
От Краевского же узнал он, что как раз в тот день, когда он, Лермонтов, приехал в Тарханы, Пушкин писал Бенкендорфу о своих литературных планах. «Он должен был сообщить об этом», – добавил Краевский.
И Лермонтову захотелось опять убежать в тишину тархановских снегов. Убежать, чтобы не видеть и не слышать никого и ничего, чтобы остаться наедине с рукописью и с самим собой!
Но об этом нечего было и думать.
ГЛАВА 4
Над Невою дул пронизывающий ветер. На обширных площадях, на прямых, протянувшихся вдаль улицах он дул в лицо, и над всеми крышами, над легкими решетками и величавыми дворцами несся и несся мокрый снег с дождем.
Несмотря на это ненастье, Лермонтов поехал в Александрийский театр узнать подробнее о причинах нового запрещения «Маскарада».
Он был принят с холодной сдержанностью. В дирекции театра были даже удивлены настойчивостью этого странного офицера, который во что бы то ни стало желает заниматься таким не подходящим для военного делом.
– Нет, господин Лермонтов, – решительно сказали ему. – Мы не можем поставить пьесу, где осмеивается высший свет и дамы, принадлежащие к этому свету. Кроме того, публика не любит пьес со столь печальным окончанием. Это никак невозможно. Прошу прощения.
– В Царское! – сказал коротко Лермонтов кучеру Митьке, выйдя на улицу.
Вдоль широкого Невского, по туманной набережной, по улицам и площадям неслись сани. Мокрый снег с дождем частой завесой сеялся в воздухе, и холодный пронзительный сквознячок крутился на широких площадях, бросая пригоршни снежинок прямо в лицо седоку. Но седок не замечал их. Перед ним было опять голубое мартовское небо с полной луной и нежный взгляд таких знакомых, таких дорогих глаз… Ветер бросал в лицо снег с дождем, а губы шептали строчки:
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Только Варенька! И больше никто.
В доме на углу Манежной окна освещены. Монго дома.
Лермонтов быстро вошел, и в то же мгновенье его подхватили чьи-то руки, и под громкие возгласы: «Приехал! Маёшка вернулся!» – он взлетел к потолку.
Вскоре уже звенели стаканы и пылала жженка – начиналась та гусарская кутерьма, которая кончается на рассвете и от которой на другой день здорово болит голова.
Она действительно-таки побаливала утром, а так как утро было свободным, Столыпин, заканчивая свой туалет, крикнул из своей спальни на весь дом:
– Тимошка! Готовь коней!
– Ты уезжаешь, Монго?
Лермонтов, вставший раньше Столыпина, сидел в это время у стола и писал.
– Не я, а мы, – ответил Монго. – Ты тоже едешь.
– Куда?!
– Просто проехаться после ночного пиршества.
И Столыпин, проведя в последний раз щеточкой по волосам, вошел к Мишелю.
Через несколько минут, щурясь от яркого солнца, Лермонтов уже легко вскочил в седло, и его Руслан, словно гордясь таким ловким всадником, вылетел за ворота – на дорогу.
Они мчались рядом, стремя в стремя, но на пригорке сбавили ход. Лошади шли отдыхая, и Лермонтов, любуясь погожим днем, закинув голову, смотрел в ясное небо.
– Мы еще толком не успели с тобой побеседовать, Монго. Что нового в Петербурге? О чем говорят?
– О чем говорят? Да больше всего о Пушкине, его жене и Дантесе.
Лермонтов нахмурился.
– Почему о Дантесе?!.
– Да потому, что на балу у князя де Бутера все гости обратили внимание на неумеренные ухаживания Дантеса за женой Пушкина. Этот француз-эмигрант, преданный сторонник Бурбонов, покинул Францию после революции тридцатого года и нашел здесь радушный прием у самого государя, не говоря уже о дамах. А голландский посол – барон Геккерн, отъявленный мерзавец, – этого красавца усыновил. Он действительно красив. И теперь везде говорят о безумной будто бы страсти Жоржа Дантеса к жене Пушкина.
Лермонтов совсем остановил лошадь.
– А что же… жена Пушкина?
– Как говорят, она не совсем безразлична к красоте Дантеса.
– Этого не может быть! – Голос Лермонтова стал жестким. – Та, которую любит Пушкин, не может быть ничтожеством. Она самая прекрасная из всех виденных мною женщин, и я уверен, что ее душа достойна ее красоты, потому что ее любит Пушкин!..
– И царь, – неспешно добавил Столыпин и потянул поводья.
Тогда Лермонтов слегка тронул Руслана, и конь, угадав его желание, взмахнул гривой и понесся вдоль потемневшей под солнцем дороги.
Пригнувшись к седлу, Лермонтов несся ветру навстречу, а в памяти его вставало женское лицо ослепительной красоты, и в ушах звучал неповторимый голос, который тихо говорил: «Пора в деревню, в тишину!..»
Неужели же не исполнилось такое скромное и простое, такое человеческое желание?!
И неужели этому прекраснейшему из людей и великому поэту суждено, как и ему, быть обманутым любовью?!.
ГЛАВА 5
Лермонтов никогда не искал славы. Но однажды он услыхал похвалу, от которой сердце его забилось сильнее, и радость, как взошедшее солнце, осветила все кругом.
Эту похвалу – похвалу Пушкина! – передал ему Краевский.
«Этот мальчик далеко пойдет», – сказал великий поэт Краевскому, прочитав «Хаджи Абрека», до сей поры не попадавшего ему в руки.
– Вот видишь, Лермонтов, какого о тебе мнения Александр Сергеевич. А ты что делаешь?
– Что я делаю? – с виноватой улыбкой и сияющими радостью глазами спросил Лермонтов.
– Ты свои стихи, заделавшись гусаром, стал писать на ящиках письменного стола! Мне ведь Святослав Афанасьевич все про тебя рассказал. Где твои прежние аккуратные тетради? Где?
– У меня в столе.
– Так какого же черта царапаешь ты свои чудные стихи где попало? Я вот скоро все соберу… А тебя, братец мой, надо бы…
Но он не успел досказать. Лермонтов бросился на него, свалив по дороге стакан с очинёнными перьями и две пачки бумаг, и обнял его так бурно, что привел в полнейший беспорядок костюм редактора.
А когда, освободившись из его объятий, Краевский, охая, перевязывал свой галстук и поправлял воротник, счастливый Лермонтов уже стремительно спускался с лестницы его дома.
* * *
Лермонтов сидел с ногами на диване, изредка поглаживая голову своего любимого пса Рекса, который устроился подле него, рассказывал Раевскому события прошедшего дня. Подошел Ваня с письмом на подносике.
Лермонтов взял письмо и, взглянув на почерк, не без некоторого волнения сказал:
– От Краевского. Что такое стряслось?
Прочитав письмо, он с минуту помолчал, потом передал его Раевскому:
– На, прочти.
«Дорогой мой гусар, – писал Краевский, – ты сам не понимаешь, что ты сотворил! Твое «Бородино» великолепно, и завтра я непременно покажу его Александру Сергеевичу. И завтра же непременно познакомлю тебя с ним, или не показывайся мне больше на глаза. Все».
– Я и не знал, Мишель, – сказал Раевский с легкой укоризной, – что ты написал «Бородино».
– Видишь ли, я боялся, что ты будешь меня хвалить, а Краевский – бранить. Он критик придирчивый… Потому я и хотел дать тебе после Краевского. Вот только как бы цензура опять не привязалась: для меня ведь, ты знаешь, победа в той войне – это победа народа нашего героического, еще с детства я это понял, а теперь принято трубить хвалу русскому самодержавию.
Он достал небольшую тетрадь и протянул ее Раевскому:
– Вот черновик «Бородина». Думаю, разберешь.
Раевский прочел, еще раз перечел этот черновик, потом подошел к Лермонтову и обнял его.
– Ты понимаешь, – сказал он, – что лучше этого и Пушкин не написал бы. И неужели, по-твоему, ты все еще не имеешь права пожать ему руку?!
– Не знаю… Теперь может быть… – медленно ответил Лермонтов и низко нагнулся к Рексу, то ли чтобы погладить своего любимца, то ли чтобы скрыть слезы радости, против всякой воли набежавшие на его глаза.
ГЛАВА 6
– Ворчанье твое неосновательно. Еще со времени училища подпрапорщиков, мой милый, было тебе известно, из чего состоит жизнь гусарского офицера. Застегни шинель: ветер.
Так наставлял Столыпин своего беспокойного кузена, сидя с ним в санях и торопясь в Петербург, где на следующее утро во дворце несколько девиц, окончивших Смольный институт, должны были быть пожалованы во фрейлины, а несколько молодых людей – в камер-юнкеры. Плотно запахнувшись в шинель, опустив подбородок в ее теплый воротник, он искоса поглядывал на Лермонтова, сидевшего рядом с ним в состоянии той мрачной рассеянности и уныния, которые часто сменялись у него бурной веселостью, какой-то бравадой и такими мальчишескими шалостями, что рассудительно-сдержанный Столыпин только пожимал плечами и приходил в отчаяние.
– Ах, Монго, – вздохнул в ответ Лермонтов, – тебе хорошо говорить! Тебя не жгут и не мучают еще не записанные, но уже готовые строчки. Ты не чувствуешь потребности дать им жизнь.
– Но ты прекрасно можешь, Мишель, заниматься этим в свободное время!
– Помилуй, Алексей Аркадьевич, ну что ты говоришь! – взмолился Лермонтов. – Если бы я не сбежал в Тарханы на два месяца, я ничего бы не сделал! Ты только вспомни, сколько времени на рождестве пропало у меня даром?
– Я забыл, Мишель, когда же это?
– Как когда? А на рождественских раздачах наград, а в именины государя, а перед Новым годом?! А на дворцовых выходах и на придворных балах, а на наших военных парадах? Вот и завтра с утра тащиться во дворец. А когда же делом заниматься?
– Но в таком случае, мой друг, правы те, кто говорит, что тебе вовсе не надлежало идти в военные.
Лермонтов умолк и задумался.
– Нет, – сказал он решительно. – Я все же не жалею, что стал им. Лучше во сто раз быть мне защитником своей родины, нежели чиновником. Это не для меня.
– Но ты мог бы быть только поэтом, как Пушкин, и больше ничем.
– Для этого и надо быть Пушкиным, а я только Лермонтов.
Столыпин посмотрел на унылое, мрачное лицо своего спутника.
– Ты, кузен мой, слишком скромен. Между прочим, завтра ты можешь увидеть Пушкина.
– Где?
– Во дворце, конечно. Ведь он уже три года, как пожалован в камер-юнкеры и, значит, обязан в такие дни бывать во дворце. Ты забыл об этом?
– Не забыл, но не могу себе этого представить! Гордость России, поэта в зрелых годах пожаловали званием, которым отличают безусых сынков знатных фамилий! Это возмутительно!..
– Да, но это открыло для его жены доступ ко всем придворным балам, что и было нужно государю.
– На этот раз ты, вероятно, прав, – мрачно ответил Лермонтов и снова умолк.
Они молча въехали в город. И когда легкие сани остановились у дома на Садовой, Лермонтов, точно проснувшись, вздохнул и молча вслед за Столыпиным поднялся по лестнице.
На следующий день, облаченные в парадную форму, они стояли вместе с другими лейб-гусарами, вытянувшись и замерев, в ожидании царского выхода. Лермонтов скользил быстрым взглядом по лицам придворных и военных чинов, пока, наконец, выступив из толпы и выделяясь среди всех лиц, не бросилось ему в глаза лицо Пушкина, от которого он уже не мог оторвать глаз. Поэт стоял среди небольшой группы камер-юнкеров, подняв с каким-то гордым упорством свою кудрявую голову и глядя в сторону, мимо всех. Но, несмотря на гордый поворот головы, как бы заранее отметавший возможные насмешки, лицо его поражало выражением мучительной тоски, раздражения и непомерной усталости.
Лермонтов увидел, как к Пушкину подошел Жуковский и, наклонившись, что-то сказал, увидел, как вскинулось к нему в порывистом движении усталое лицо, словно умоляя о чем-то, и как через минуту, взяв Пушкина под руку, Жуковский осторожно прошел с ним через всю толпу и увел в боковые двери.
Лица юных фрейлин были с ожиданием обращены к большим, еще закрытым дверям. Застыли, вытянувшись, лейб-гвардии гусары…
Курчавая голова великого поэта исчезла из толпы юных камер-юнкеров.
А Лермонтов, вспомнив выражение острой душевной муки, застывшее на его лице, почувствовал, что и в эту встречу он ни за что не решился бы подойти и назвать себя Пушкину…
– Поедем ко мне, Монго, – грустно проговорил он. – Да-а, наградили у нас Пушкина! Поедем! Нынче бабушка, наконец, добралась до дому… что-нибудь расскажет о Москве… Да и соскучился я что-то без нее. Поедем скорее, Монго!