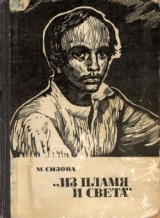
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 11
В кабинете плотно задернуты шторы. Две свечи, зажженные в канделябре, поставлены так, чтобы свет их не мешал Михаилу Юрьевичу. Ваня неслышно двигается по комнате, прибирая разбросанные кое-где вещи и листы полуисписанной и еще чистой бумаги.
Вот он наклоняется, поднимает с пола страничку, вырванную из записной книжки, бережно подносит ее к свече и читает что-то, тихо шевеля губами и постепенно переходя на шепот.
Дверь, ведущая в кабинет из гостиной, осторожно приоткрывается, и Елизавета Алексеевна, заглянув в комнату, спрашивает тихонько:
– Спит?
– Так точно, – шепчет Ваня, на цыпочках подходя к ней.
– Доктор-то прописал спокойствие, – строго говорит бабушка. – Ты смотри не тревожь.
– Никак нет. Нешто можно-с!..
– А ежели спросит меня, доложи.
– Слушаю-с.
– Ах, Миша, Миша!.. – вздыхает бабушка и со вздохом осторожно закрывает дверь.
Ваня достает из-за пазухи ту же страничку и продолжает шепотом читать ее, с трудом разбирая слова. Потом он делает паузу, перевертывает старую бумажку, всю перечеркнутую, выброшенную для сжигания, и, найдя, наконец, наиболее разборчивое место, читает медленно:
…Мне жизнь… мне жизнь… все как-то коротка..
И все боюсь, что не успею я..
Свершить чего-то!..
Он так старается разобрать и понять эти слова, что не замечает, как постепенно начинает читать громче, и не видит, что голова Михаила Юрьевича слегка повертывается на подушке и он внимательным взором смотрит на своего камердинера и денщика.
– Ну что, брат, скажешь? Плохо написано!
Ваня с испугом оборачивается:
– Михал Юрьич, потревожил – виноват!
– Нет, я сам проснулся. Это уж давно написано, лет шесть назад. Теперь, надо думать, лучше бы, легче написал… об этом…
Лермонтов снова закрывает глаза.
Но в эту минуту в коридоре слышатся чьи-то твердые шаги, тихое позвякивание шпор, и Монго Столыпин, войдя, быстро сбрасывает на руки подбежавшего Вани шинель, кивер и перчатки.
– Кто там, Ваня, не вижу? – не оборачиваясь, спрашивает Лермонтов. – Ежели Святослав Афанасьевич, впусти.
– Никак нет, Алексей Аркадьевич из Царского, – весело отвечает Ваня, питающий к Столыпину неизменное уважение и восторг.
– А, Монго! Ты из полка? За мной?
– Узнать о тебе. Что это с тобою происходит? В полку болтают всякий вздор.
Он подсаживается к Лермонтову на край дивана и заглядывает в его лицо.
– Болеешь? Давно?
– После его похорон, – тихо ответил Лермонтов.
– А чем болен?
– Тоской, Монго, отчаянием. Горечью и злостью.
– Непонятно…
– А ты пойми! В России жить было можно и писать можно оттого, что у нас Пушкин был. А теперь? Как нам жить, когда его у нас нет? Мне кажется, я никогда больше писать не смогу. Все равно – он уж не прочтет.
– Пожалуйста, Мишель, – строго говорит Столыпин, щурясь на свет, падающий ему прямо в лицо, – возьми себя немедленно в руки и прогони подальше свое отчаяние. Кому оно нужно?
– Оно само приходит.
– Его гнать нужно. А писать ты должен не для одного какого-нибудь человека, а для очень многих, для всех… Впрочем, эти слова, – оговаривается честно Столыпин, – не мои: я сейчас Раевского встретил, и он просил передать тебе именно эти слова, что я и исполнил.
– А где ты его видел? Я его давно жду!.. Он не сказал, когда вернется?
– Сказал: как только кончит все, что нужно.
– Ох, Монго! Ну что я могу из этого понять? А ты еще советуешь не приходить в отчаяние!..
– Нельзя, Мишель. Вели лучше Ване дать мне трубку.
– Ваня, трубку! – послушно кричит Лермонтов. – Ты мне не ответил, Монго, где ты видел Святослава?
– В кондитерской Вольфа, – отвечает не спеша Столыпин, раскуривая поданную Ваней трубку. – Я едва оттуда спасся.
– Что же грозило тебе гибелью в кондитерской? И как же ты оставил там Святослава Афанасьевича погибать? В одиночестве?!.
– Совсем нет… А у тебя теперь неплохой табак! Святослав Афанасьевич сам оттуда бежал, во всяком случае, я его остановил, можно сказать, на всем ходу… А в кондитерскую я только заглянул – и давай бог ноги! Там что-то кричали и вскакивали на стулья, кому-то аплодировали, все что-то списывали и переписывали, совершенно как в сумасшедшем доме.
– Да? Ты это сам видел? Ваня, одеваться! – вдруг радостно крикнул Лермонтов.
Но Ваня в смущении остановился перед ним и молча развел руками.
– Одеваться, Михаил Юрьич, не во что.
– Как это не во что?
– Так что барыня Елизавета Алексеевна… все как есть заперли, чтобы вы, ваше благородие, куда не убегли. Они сказали: вам господин Арендт не приказали вставать.
Лермонтов со стоном опустился на подушки.
– И поделом тебе, – сказал Столыпин, – и лежи, раз к тебе даже Арендта вызывали, а завтра я тебя в полк увезу. Твой отпуск кончился, и – слава небесам! В полку тебя скорей вылечат.
– Попроси, Ваня, у бабушки мой мундир и шинель. Я скоро вернусь. Честное слово! – взмолился Лермонтов.
– Они сами идут!
Ваня открыл дверь, и Елизавета Алексеевна вошла твердым шагом, как бывало в детстве Миши, когда она принимала какое-нибудь решение.
– Здравствуй, Монго, здравствуй, голубчик! – она поцеловала в голову Столыпина, подошедшего к ее руке. – Ты за Мишенькой? Так я его еще в полк не пущу. И никуда не пущу. Ему доктор не велел.
– Бабушка!!.
– Я знаю, что я бабушка. Ты посмотри, как бледен, на кого похож… И как это тяжело мне, право, – уже со слезами говорит она, – каждый раз отрывать его от сердца! Опять этот полк, господи батюшка!..
– Полноте, бабушка, Мишель не на войну уезжает. Ну, еще день пусть проведет с вами, а уж послезавтра я его увезу. Он там сразу выздоровеет, и вам совершенно не о чем тревожиться, – говорит Столыпин.
– Как не о чем? Да у меня каждый день за него тревога. Иной раз и сама не знаю, чего боюсь. Вот и сейчас: пришел Мартынов, сидит в гостиной, дожидается. Говорит, по важному делу. «Что такое?» – спрашиваю. Не объясняет. Ну как тут тревоге не быть! Тут вовсе последнюю голову потеряешь.
– Ах, бабушка, милая! – вздыхает Лермонтов. – Как можно было заводить такого беспокойного внука, как я!
– А я, мой милый, не жалуюсь, – уже совсем другим тоном говорит бабушка. – Да, вот еще вспомнила: все хочу я заказать художнику ваши портреты в гусарской-то форме. Чудо, как вы в ней оба хороши!
– Боже мой, бабушка! – в ужасе вскрикивает Лермонтов. – Нашли с кем меня сравнивать! Монго – красавец, «le beau[41]41
Прекрасный (франц.).
[Закрыть] Столыпин», а внук ваш – Маёшка.
– Слышать не могу этого прозвища! Назвать тебя по имени какого-то урода! Горбуна!
– Да ведь я сам себя так прозвал, бабушка, в полку только подхватили.
– Вот то-то, что подхватили, озорники.
– Я думаю все-таки, что мне нужно послезавтра ехать вместе с Монго, а завтра я встану непременно.
– Завтра, Мишенька, и решим, – отвечает, уходя, бабушка.
– Что за таинственное дело у Мартынова, Монго, не могу себе представить. У него дел, по-моему, сроду не бывало.
– Я удивлен не меньше, – усмехнулся Столыпин, возвращаясь к своей трубке.
* * *
Мартынов чрезвычайно гордился своей стройной фигурой и умением танцевать мазурку именно так, как ее танцевали в Варшаве, почему и считал себя незаменимым на балах. Но природа немного обидела его, повторив в его лице лицо его матушки: он был курнос, как она, и потому избегал становиться в профиль, вполне справедливо полагая себя особенно привлекательным en face.
В школе подпрапорщиков и в лагерях, живя с ним в одной палатке, Лермонтов любил подшучивать над ним за это кокетство, никогда, впрочем, не ссорясь всерьез.
Мартынов вошел с видом решительным и важным.
– Ты, говорят, был болен?
Лермонтов махнул рукой.
– Это неважно. Садись, рассказывай, какое у тебя дело. Ты меня удивил, признаться.
– Дело это касается тебя.
– Это еще удивительней. Стоит ли заниматься чужими делами?
– Я считал своим долгом предупредить тебя, что последние твои стихи обратили на себя внимание некоторых лиц, очень высоко стоящих.
– Как же, как же, мне уже дядюшка об этом сообщил. Я очень польщен, Мартышка, – с легкой усмешкой ответил Лермонтов. – Но ведь я не для них писал.
– Кого же именно, Николай Соломонович, ты имеешь в виду? – спросил Столыпин.
– Сейчас поясню. Стихи твои о смерти Пушкина были переданы самому графу Бенкендорфу, и граф остался очень недоволен. Говорят, он даже назвал конец стихотворения «бессовестным вольнодумством, более чем преступным». Но это еще не все. Ими недоволен и его величество!
Лермонтов сурово посмотрел на Мартынова.
– Я не собирался доставлять ими удовольствие ни его сиятельству, ни его величеству.
– Для кого же ты писал? – удивился Мартынов.
– Я писал для тех, в ком еще осталась живая душа!
– Пустяки, Лермонтов, просто громкие слова – Пушкин сам виноват, – небрежно заявил Мартынов. – Почему Дантес должен был сносить его оскорбления?
– Монго, – сказал Лермонтов устало, – увези куда-нибудь этого человека. Это второй дядюшка Николай Аркадьевич! Я не могу с ним говорить, не могу его слушать!
– Если ты болен, Лермонтов, так лечись, но не безумствуй. Я еду ужинать, но считал своим долгом предупредить тебя. То есть, точнее говоря, меня об этом просили.
– Вот как? – спросил Столыпин. – Кто же?
– Ни больше, ни меньше как Муравьев, – ответил, выходя, Мартынов. – Мнением таких людей шутить не советую…
Помолчав, Столыпин сказал:
– Подумать только, сам Муравьев, Андрей Николаевич! Это действительно в известном смысле персона! Ну, вот что, Мишель, я поеду в клуб, а ты пока приди, пожалуйста, в себя.
– Постараюсь… А Муравьев этот – на него надежда плохая…
– Ваня, приготовь все для Михаила Юрьевича. Послезавтра едем в Царское.
– Так точно! – весело ответил Ваня, подавая Столыпину шинель.
ГЛАВА 12
– Ваня, – сказал Лермонтов, оставшись один, – больше никого не принимай. Через час меня разбуди. А Святослава Афанасьевича впусти немедленно, как только придет.
Он отвернулся к стенке и закрыл глаза.
– Слушаю, Михал Юрьич.
Ваня оставил только одну свечу и на цыпочках вышел.
Маленькие часики на камине дробно пробили семь часов, и через минуту Раевский, в шубе и шапке, еще покрытый снежинками, с радостным возгласом «Мишель!» вбежал в комнату, но, увидав Елизавету Алексеевну, которая осторожно заглядывала в дверь, сразу умолк.
– Ну, рассказывай, батюшка, раз уж начал, не гляди, что на меня напал, – сказала бабушка, уже решительно входя в комнату. – Мне тоже послушать надо, что такое случилось. Думать надо – не позор! Что это ты как на постоялый двор вбежал? Ваня, прими шубу и шапку от Святослава Афанасьевича. Ну, что там у вас?
– Случилось то… что сегодня имя Мишеля узнал весь Петербург, а скоро узнает вся Россия.
– Ты кому отдал? – невольно вырвалось у Лермонтова.
– Всем, Мишель, всем! Я уж и не помню кому… И если бы ты знал, какое это произвело впечатление везде, везде, где я ни давал.
– Что же это ты такое раздавал?
Бабушка очень строго посмотрела на Раевского.
– Стихи Мишеля на смерть Пушкина. Они громовым раскатом прокатились по городу!
– Вот уж спасибо так спасибо! Я от этих стихов и так ночи не сплю, а он их всякому встречному и поперечному показывает!
– А отчего же не показать? – вступился Лермонтов. – Я из них не делаю тайны и не для себя писал.
– Опомнись, Миша! Можно ли эдакое неприличие раздавать? Ведь ты там что написал? О господи, твоя воля, повторить совестно! Про чьих-то потомков, которые подлого характеру, а стоят возле трона! Я все помню!.. А ведь ты лейб-гусар, Мишенька!
– Ничего, бабушка, если государь так много сделал для семьи Пушкина – значит, он понимает, кого потеряла Россия в его лице!
– Ах, друг мой! Боюсь я за тебя…
– Не бойтесь, государь, если и посердится, простит. Идите, дорогая бабушка, и ложитесь. Вам покой нужен. Доброй ночи!
– Пожалуй, правда, пойду и лягу, – говорит бабушка, вставая. – Только ты, Мишенька, поздно не засиживайся: тебе вредно.
– Нет, нет, мы скоро разойдемся.
– Слава, ты Мишеньке много не рассказывай, – она остановилась в дверях и посмотрела, грозя пальцем, на Раевского. – А то наскажешь ему невесть чего, а он потом спать не будет…
– Ну, говори, кому давал, где их читали? – быстро спросил Лермонтов, едва замолкли бабушкины шаги.
– Кому давал – и не упомню. Все просили, все переписывали нарасхват! Читали и читают везде: и тайком в Университете, и в частных домах, и даже в кондитерской Вольфа актер читал!.. Эти стихи сделали большое дело!..
* * *
После визита Николая Столыпина Елизавета Алексеевна уже не впускала к Мише родственников, сказав всем, что он болен.
Но они привезли такие сведения и ввергли ее в такое волнение, что она, наконец, обратилась к Монго, не решаясь сразу передать все Мише.
– Вот ведь какое дело-то натворили, голубчики – Мишенька да Слава! Весь Петербург, говорят, об этих стихах знает, и государю о них доложено. Помоги, голубчик, Алексей Аркадьич! У тебя голова светлая – присоветуй, как быть теперь! Ведь беда может с Мишенькой стрястись! Граф Александр Христофорович очень на него, говорят, сердит. Вот горе-то, господи боже мой, и не знаю, к кому ехать!
– Мишель должен сам постараться замять это дело, – решительно заявил Столыпин и пошел к своему кузену.
Через несколько минут к нему присоединилась бабушка.
– Тебе необходимо, Мишель, предупредить возможные неприятности для тебя и для бабушки, – сказал Столыпин.
– Для бабушки? – с испугом переспросил Лермонтов. – Какое же имеют отношение к бабушке мои стихи?
– А как же, Мишенька? Что со мной будет, ежели тебе как-нибудь отвечать за них придется? Спаси господь от эдакого горя, я и подумать о том боюсь!
– Если нельзя сейчас же найти ход к Бенкендорфу, надо искать ход к Мордвинову.
– Зачем он мне, Монго?
– Затем, Мишель, что он управляющий Третьим отделением и может уговорить графа Бенкендорфа не придавать всей этой шумихе особого значения. Нет ли у тебя кого-нибудь, кто к нему близок? Постой, да Муравьев-то, Андрей Николаевич, ведь его прямой родственник!
– Ну и пускай! – уже сердито отвечает Лермонтов.
– Не говори так, Мишель, это дело могут обернуть в серьезное.
– Мишенька!.. – умоляюще говорит бабушка.
В конце концов он сдался на уговоры и, чтобы успокоить бабушку, вечером поехал к Муравьеву.
ГЛАВА 13
Лермонтов долго смотрел на падающий снег в темном окне, усевшись на широком кожаном диване в кабинете Муравьева.
Старый камердинер вошел и зажег канделябры в двух углах.
Потом он прошел в соседнюю комнату, и оттуда упал мягкий свет зеленой лампады.
– Вот, ваше благородие, – сказал он, возвращаясь, – вам так веселее будет ждать, со свечьми-то. Может, что и почитаете. А то не угодно ли поглядеть, какие диковинки у нас в образной, из дальних стран, с палестинских краев привезенные?
Он оставил дверь открытой и ушел.
Лермонтов долго стоял на пороге образной, глядя на мягкий зеленый свет в прозрачной лампаде, падающий на темное золото старинных окладов и на перистые листья палестинской пальмы, засушенные и убранные за стекло.
В анфиладе комнат безмолвие… Беззвучно падает снег за темным окном.
Устав ждать, он подсел к столу и написал отсутствующему хозяину несколько слов, изложив свою просьбу, – для спокойствия бабушки.
* * *
Ужин, на который был приглашен Муравьев, чрезвычайно затянулся. Провозглашались пышные тосты, говорили о новостях. Вспоминали последние события: смерть Пушкина и государеву милость к его семье. И перебрасывались отдельными замечаниями о каких-то стихах, расходившихся в городе по рукам, где в недозволенных выражениях обвинялись в смерти Пушкина представители знати. И называлось имя автора: Лермонтов, лейб-гусар.
Морщился управляющий Третьим отделением Мордвинов, хмурил брови шеф жандармов граф Бенкендорф.
– Ах, ваше сиятельство, – сказал неожиданно один из гостей, – этого Лермонтова я еще юнкером знал! Это талант, ваше сиятельство, редкий, поэт от рождения, отмеченный музами.
– Ты всегда кем-нибудь по очереди восторгаешься, – сказал ему, погрозив пальцем, Мордвинов.
А великий князь, сидящий напротив, изволил добавить с усмешкой:
– Еще, чего доброго, заменит нам Пушкина. Но ежели он у меня взводом командовать начнет стихами, так я без церемонии посажу этого любимца муз в карцер.
Разъехались на исходе ночи.
Снимая со своего барина шубу, старый камердинер доложил ему, что был господин Лермонтов и, видно, по важному делу.
Прочитав о сути этого дела в краткой записке, оставленной гостем на его столе, Муравьев сказал самому себе: «Вот уж попал в точку! Только что о нем говорили!..»
Убирая записку в свой бумажник, он перевернул листок и неожиданно увидел на обороте стихи:
Ветка Палестины
Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела?
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?
У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?
Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?
И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?
Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,
И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..
Он дочитал до конца все стихотворение, постоял немного, невольно захваченный прелестью его строк, и, посмотрев в раскрытую дверь своей образной, где в матовом зеленоватом полусвете виднелась за стеклом пальмовая ветка, проговорил вздыхая:
– Вот ведь и правду о нем говорили нынче, что любимец муз! Что за стихи!.. Ведь как пишет!.. Придется ужо попросить за него Мордвинова.
* * *
– Ведь сколько раз я на эту самую ветку глядел, – говорил на другой день своему приятелю Муравьев, обедая с ним в клубе, – а никогда мне эти мысли в голову не приходили!
– На то он и поэт! – ответил приятель, подливая себе в бокал. – У них из самой простой вещи может такое получиться, что только диву дашься! Взять хоть Пушкина к примеру: нашел в книге засушенный цветок – и вот уже пошли у него в голове мысли: и где цвел, и когда, и кем дан, что напоминать он должен, и кто там жив, кто помер… Так и Лермонтов: увидел пальмовую ветку твою и написал так, что, пожалуй, и через сто лет люди русские прочтут и скажут: «Ну что за поэт!» Надо, надо тебе у Мордвинова за него похлопотать!
ГЛАВА 14
Лермонтов стоял перед полками, отбирая книги, которые хотел взять с собой в Царское. День отгорал тусклым зимним светом, пролетев незаметно за сборами.
Он снял с полки все восемь томиков Пушкина и бережно уложил их в свой чемодан. Вот последнее издание «Онегина», которое вышло в свет в день смерти его автора: двадцать девятого января Лермонтов открыл его наугад и зачитался.
Звонок. Это Святослав.
День угас, и вечер кончался, и февральская вьюга заметала белым шлейфом прямые улицы. Монго уехал с вечерним визитом. Бабушка, уложив, наконец, последний из бесчисленных пакетов, ушла к себе.
Ваня второй раз топил печь в кабинете, с трудом разжигая дрова. Ветер задувал огонь и выбрасывал его, налетая порывами из трубы.
Вернувшийся после своих разъездов по городу Раевский рассказывал новости.
Они сидели на диване и, поглядывая на трещавшие дрова, перебирали события последних дней.
– Ваня, звонок! Если меня будут спрашивать, скажи, что не принимаю – болен.
Лермонтов встал и, подойдя к печке, помешал разгоравшиеся дрова. Пламя поднялось и загудело, и искры разлетелись веселой, сверкающей стайкой.
– Люблю огонь! – сказал Лермонтов.
Лицо его в свете вспыхнувшего пламени порозовело и показалось Раевскому совсем юным.
– Михал Юрьич, вас спрашивают, – с некоторым замешательством доложил Ваня, приоткрывая дверь.
– Я же сказал, что болен! А кто там?
Ваня с минуту помолчал.
– Так что… полковник там жандармский и с помощником, – угрюмо сказал он наконец.
Лермонтов быстро выпрямился и посмотрел на Раевского. Тот ответил ему понимающим взглядом и, поднявшись с дивана, стал около Лермонтова.
– Ах, вот оно что! Ну что же, эти гости привыкли ходить незваными. Дверь открыта… Пусть входят. Только бабушку не тревожь.
По коридору уже звякали шпоры, и краснощекий полковник четким шагом вошел в кабинет.
– Кто здесь хозяин дома, Лермонтов Михаил Юрьевич? – посмотрел он поочередно на обоих.
– Я Лермонтов, – он глядел прямо в краснощекое лицо.
– Гусар лейб-гвардии его величества?
– Совершенно верно.
– А Раевский – служащий в Департаменте военных поселений, губернский секретарь, проживающий в этом же доме?
– Это я.
– Господин Лермонтов! – молодцевато сказал полковник, звякнув шпорами. – Позвольте ваше оружие. Вы арестованы. И вы тоже, – обратился он к Раевскому.
В эту минуту дверь открылась, и Елизавета Алексеевна быстро вошла в комнату. Она остановилась перед двумя жандармами, потом торопливо подошла к внуку и обняла его за шею, точно защищая.
– Что такое? Как вы сказали? Они арестованы?! И мой внук арестован?!
– Так точно, сударыня, – еще раз щелкнул шпорами полковник.
– Но этого не может быть! Это ошибка, говорю вам! Мой внук, корнет лейб-гвардии, не может быть арестован!
– Ваш внук, сударыня, – ответил жандарм, – обвиняется в том, что в непозволительных стихах призывал к революции.
– К революции? – повторила бабушка. – Никогда он и не думал об этом!
Но в эту минуту, обернувшись к своему Мишеньке, она встретилась с его темным взглядом. Руки ее опустились, и она растерянно посмотрела вокруг. Потом обернулась к своим непрошеным гостям и дрожащим голосом, но решительно сказала:
– Тогда я сейчас же поеду к графу Бенкендорфу! Вы слышите? Я знаю графа Бенкендорфа, и вам достанется от него за ваше появление в моем доме!
Краснощекий полковник сделал крутой поворот и, обернувшись к своему помощнику, равнодушным голосом приказал:
– Ротмистр Пруткин, прочитайте госпоже Арсеньевой приказ.
Его помощник развернул лист бумаги и таким же равнодушным голосом неторопливо прочел:
– «Настоящим приказываю арестовать и препроводить по назначению гусара лейб-гвардии Лермонтова Михаила, опечатав принадлежащие ему вещи и документы». Подписано собственноручно: граф Бенкендорф.
– Все ясно, сударыня? – очень вежливым тоном спросил полковник и, взглянув на Раевского, добавил:
– О вашем аресте имеется отдельный приказ.
– Слава, милый! – чуть слышно шепнул Лермонтов. – Ты из-за меня. Прости, голубчик, прости!..

Когда их уводили, бабушка с крепко сжатыми руками, с побелевшим лицом, по которому текли слезы, стояла покачиваясь, точно готовая упасть, Лермонтов взглянул на нее с жалостью и задержался на минуту у двери.
– Не горюйте, бабушка, – проговорил он спокойно, – и не плачьте, умоляю вас. Это все совсем не так страшно, и это участь не только моя, а многих честных людей нашего отечества. Но я скоро вернусь!
– Господин Лермонтов, – строго сказал жандарм, – прошу вас обойтиться без слов!
– Никак не могу, господин полковник! – с изысканной вежливостью ответил ему арестованный. – Слово теперь мое единственное оружие.
– Оружие не опасное-с.
– Очевидно, опасное, если вы за него меня арестуете.
И, обняв еще раз бабушку, Лермонтов первым вышел из своего дома.
Елизавета Алексеевна подошла к окну и прижалась к стеклу лбом, стараясь разглядеть хоть что-нибудь в зимнем мраке, надеясь увидеть хоть карету, в которой увезли Мишеньку. Но не увидела ничего, кроме белых вихрей снега, заметающих пустынную прямую улицу.
– Не вижу!.. Ничего не вижу! Отняли! Увезли!.. Почему же?.. Как это Мишенька мой говорил?.. «Боже мой, боже мой! Почему же у нас все так плохо?!»








