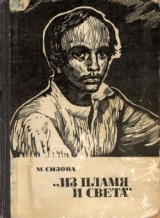
Текст книги "«Из пламя и света» (с иллюстрациями)"
Автор книги: Магдалина Сизова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
ГЛАВА 7
Музыка уже гремела на хорах, но бал, устроенный хозяевами по случаю пожалования старшей дочери во фрейлины, еще не начинался. В небольшом зале между зеркальным вестибюлем и главным залом для танцев стоял сдержанный гул французских приветствий и носился в воздухе тонкий аромат французских духов.
В огромные, широко открытые двери можно было видеть и музыкантов на хорах большого зала, и военные мундиры, и черные фраки, и белые, бледно-розовые, дымчатые и бледно-голубые тюли, муслины, шифоны дамских туалетов.
– Почему не начинают бала, княгиня? Оркестр играет какое-то попурри! – Маленькая особа с большими перьями на голове остановилась в дверях.
Княгиня, высокая и полная, с густыми бровями и громким голосом, еле заметно пожала голыми плечами:
– Кажется, ждут кого-то из высоких особ. А меня князь Петр ждет. Не пройдем ли мы к нему? Он там, в зале.
– Не могу, княгиня. У меня здесь свидание с редактором.
– Софья Петровна!!! – удивленно басит княгиня, присаживаясь на банкетку между двумя кадками с махровой белой сиренью. – С каких это пор вы интересуетесь литературой?
– Со вчерашнего дня. И не литературой, княгиня, а только одним литератором. Фамилию не припомню, но молод, богат – единственный и обожаемый внук очень богатой бабушки – и служит в лейб-гусарах.
– Так вы интересуетесь лейб-гусарами?
– Не для себя, княгиня. Редактор Краевский, который с ним знаком, обещал представить его моей Бетси.
– Это другое дело. А как Бетси?
– После института жаждет развлечений. А на этих днях, – вздохнула Софья Петровна, – кто-то подсунул ей писание знаменитого сочинителя под названием «Татьяна», где une jeune fille[37]37
Молодая девушка (франц.).
[Закрыть] из хорошей семьи первая объясняется в любви молодому человеку!
– Ужасно!.. – прогудела княгиня. – Это уж, наверно, Пушкин сочинил?
– Ну конечно! Вот за такие-то писания он и застрял в камер-юнкерах целых три года: ни взад, ни вперед.
– Заглянем-ка, Софья Петровна, в другой зал – не там ли его жена!
– Ну, если она здесь, – с язвительной улыбкой говорит Софья Петровна, вглядываясь во входящих, – то и Дантес не заставит себя ждать. А вот и мой редактор! Сегодня многих второпях пригласили, пока еще не ждали высоких особ.
Всматриваясь близорукими глазами в пеструю толпу гостей, Краевский не спеша проходил по залу, кланяясь знакомым. Увидев Софью Петровну, он направился к ней, приложился к ее сухонькой ручке и к тяжелой руке княгини.
Софья Петровна вопросительно смотрела на него.
– А где же ваш протеже?
– Он непременно будет здесь.
Княгиня величественно встала.
– Ну, мы с Софьей Петровной пройдем в зал, поглядим на танцующих. Вы нас там найдете.
После их ухода Краевский посмотрел по сторонам и, увидав князя Одоевского, подошел к нему.
– Неужели вы собираетесь танцевать, Андрей Александрович? – с шутливой улыбкой посмотрел на издателя Одоевский.
– Нет, что вы, князь! – отмахнулся Краевский. – Я здесь, так сказать, случайно и очень скоро удалюсь. Мне только нужно дождаться одного сумасшедшего гусара, которого я нынче, наконец, познакомлю с Пушкиным, на что он до сих пор никак не соглашался.
– Почему же?
– Не заслужил, говорит, еще, не написал ничего примечательного. А сам пишет очаровательные стихи и ничего не дает в печать. Такого строгого критика своих произведений я в жизни своей еще не встречал!
– Так вы о Лермонтове говорите? – улыбнулся Одоевский, посматривая вокруг. – Я его здесь еще не видел.
– Должен быть с минуты на минуту. И Александр Сергеевич будет. Я пока просмотрю лермонтовские бумажки – от греха. Он ведь никому их показывать не велит.
– Ну, желаю вам успеха! – Одоевский поклонился и прошел в широкие двери, а Краевский, что-то вспоминая, продолжал пересчитывать листочки.
* * *
У входа в зал мелькает в толпе красный с золотом мундир лейб-гусара, и Лермонтов, натягивая ослепительной белизны перчатку, останавливается, всматриваясь в блестящую толпу. Увидав, наконец, Краевского, он быстро направляется к нему.
– Приехал? – спрашивает он со сдержанным волнением.
Краевский вздрагивает от неожиданности.
– Нет еще, но непременно будет… Мне Наталья Николаевна поутру сказывала.
В эту минуту маленький листочек падает из его рук, и, прежде чем он успевает это заметить, Лермонтов легко нагибается и поднимает листок.
– Что это? Откуда ты это взял? Это мое!
– Оставь, оставь. – Краевский осторожно вытянул тонкий листок из его руки. – И вовсе не твое. Это, братец, русской литературе принадлежит.
– Опомнись, редактор! Я решил это уничтожить.
– А я, к счастью, успел подобрать.
– Ну ладно, бери, – махнул Лермонтов рукой, посматривая на входные двери. – Только больше смотри никому не показывай!
– Боже меня сохрани! – с напускным ужасом восклицает Краевский. – Я никому и не показывал, кроме Пушкина.
Лермонтов мгновенно оборачивается и, схватив Краевского за руку, оттаскивает его в угол, за кадку с белой махровой сиренью.
– Что ты говоришь? Повтори, повтори!
– Да не пугай ты меня своими страшными глазищами! Александр Сергеевич знаешь что сказал?..
– Краевский, я тебя сейчас убью!
– Погоди, не убивай, сначала дослушай. В этих стихах, которые ты уничтожить хотел, он увидел признаки блистательного таланта – и это его подлинные слова.
Лермонтов какой-то миг стоит неподвижно. Потом бурно сжимает Краевского в объятиях.
– Ну, вот видишь! – освобождаясь, говорит Краевский. – Теперь обнимаешь и опять все на мне сомнешь, а сейчас убить хотел. Пойдем-ка в зал, я обещал тебя представить.
– Кому?
– А тебе не все равно? Девушке потанцевать надо, недавно из института, я маменьке обещал – вот и все.
– Не пойду, не пойду.
– Да почему же?
– Потому что буду здесь Пушкина ждать. И с этого места не сойду.
– Святослав Афанасьевич! – взмолился Краевский, увидав подходившего к ним Раевского. – Объясните хоть вы, батюшка, этому гусару, что он тоже русский поэт и что не годится ему на лестнице дожидаться даже Пушкина, с которым я его нынче здесь познакомлю.
– «Тоже русский поэт»! – с волнением и гневом повторил Лермонтов. – У нас было и есть много поэтов. Но Пушкин у нас один. Есть и будет.
– И все-таки Андрей Александрович прав, Мишель, – сказал Раевский, – в вестибюле тебе ждать не место.
– Но ты понимаешь, что он может пройти через красный зал, и тогда я его пропущу! Вот чего я боюсь.
– Но тогда ты увидишь его в бальном зале.
– Куда я Михаила Юрьевича и приглашаю… – закончил Краевский, беря Лермонтова под руку.
– Нет, нет, Краевский, дорогой, ты лучший редактор в мире, но не тащи меня! Возьми, представь Святослава вместо меня. А я здесь… здесь подожду.
– Ну что с таким упрямцем будешь делать, – вздохнул Краевский. – Выручайте, Святослав Афанасьевич! Мне кавалер нужен.
Они уходят, а с хоров раздаются торжественные звуки польского. После него легкими вздохами скрипок проносится над залом вальс, и уже пролетают в танце белые, бледно-розовые, дымчатые и голубые прозрачные шелка.
И вдруг все останавливается. Несколько военных окружают молодого адъютанта, который только что вошел в зал. Потом к ним присоединяются и дамы, и капельмейстер на хорах кладет свою палочку.
Лермонтов быстро идет к дверям бального зала и сталкивается с Мартыновым, товарищем по Юнкерской школе, который выходит оттуда под руку с совсем еще молоденькой девушкой, вероятно, впервые появившейся в свете.
Лермонтов пытливо всматривается в группу мужчин, окруживших молодого адъютанта, в лица остановившихся танцоров.
– Николай Соломонович, – спрашивает он, не отводя глаз от толпы, окружившей адъютанта, – что там произошло? Почему оркестр замолчал?
– Там небольшой перерыв, но вальс сейчас начнется снова, – ответил Мартынов, поправляя свободной рукой свой воротник. – Я уступаю тебе даму, которая желает, чтобы ты был ей представлен, и бегу за другой.
– Но что же произошло? – повторяет Лермонтов, не делая никакого движения в сторону дамы, которая желает, чтобы он был ей представлен.
– Получено не совсем приятное известие: племянник голландского посланника стрелялся сегодня с Пушкиным и ранил его, кажется, довольно серьезно. Но об этом просят не говорить, чтобы не омрачать бала. Ну, вальс опять начался!
– Ранен?.. – прошептал Лермонтов. – Он ранен!.. Об этом не говорят, танцуя, господа офицеры!!. – вдруг крикнул он и, закрыв лицо руками, точно прорыдал задыхаясь: – Пушкин!.. Ранен!..
Когда он отнял руки от лица и посмотрел вокруг, уже неслись снова пестрые пары, скользя по паркету, опять гремела музыка с высоких хоров, и молодой адъютант, сообщивший страшную весть, кружился под упоительный вальс со своей дамой.
Лермонтов увидел пробиравшихся к нему через толпу Краевского и Святослава Афанасьевича и почувствовал, как Раевский крепко сжал его руки.
Но он выдернул свою руку.
– Оставь меня! – почти прокричал он. – Оставьте меня все!..
И под обстрелом удивленных, насмешливых и надменных взглядов сбежал с лестницы, схватил из рук швейцара шинель и, наскоро набросив ее на плечи, убежал в зимнюю ночь и там, в одиночестве, крикнул с отчаянием в темноту:
– Он ранен!..
ГЛАВА 8
Редко кто из жителей Петербурга не знал небольшого дома на Мойке с окнами, обращенными на канал, с подъездом под сводами ворот – дома, где жил Пушкин.
Вихри снега, подхваченные метелью, пролетали в тот вечер над его кровлей и бились в большие окна, где передвигались то темные фигуры людей, то огонек свечи, поспешно зажигаемый чьей-то рукой и так же поспешно исчезавший. Дверь подъезда беспрерывно открывалась, принимая и выпуская посетителей. Они входили и, пробыв несколько минут, возвращались, убитые горем.
Пробегали по лестницам обитатели дома, и плакал в углу прихожей старый слуга.
Перед дверью кабинета затихали, обрываясь, шаги и смолкали вопросы. Сюда входили с ободряющим видом, а уходили с отчаянием в сердце.
* * *
Лермонтов остановился перед подъездом, не решаясь войти. Увидел двух посетителей, выходивших на подъезд, услышал, как один сказал другому:
– Боже мой, боже мой, за что же так мучается человек?!. Как его надо было беречь!..
– Доверчив был Александр Сергеевич, – мрачно ответил другой. – Такие люди раз в пятьсот лет родятся.
– А у нас его травили!
Двое сошли со ступенек.
– Вы – домой?
– Нет, я пойду поброжу по улицам. Я никак не могу собрать своих мыслей… Не могу поверить, что Пушкин… наш Пушкин, который еще вчера… Нет, не могу!.. – оборвал он себя и, подняв воротник, спрятав в него лицо, зашагал в снежную мглу.
Лермонтов хотел остановить их, спросить, но, передумав, решительно подошел к подъезду.
– Войду и узнаю сам, – сказал он вполголоса самому себе и посторонился, пропуская высокую даму в черном, с седыми буклями над еще прекрасным лицом и Арендта, придворного врача.
– Неужели же, неужели нельзя помочь? – со слезами в голосе спрашивала дама.
Знаменитый врач без слов покачал отрицательно головой.
– Но вы врач!
– Да, – сказал он печально. – Увы, я только врач… Меня ждут во дворце, но, если разрешите, я довезу вас.
Он с удивлением посмотрел на преградившего им дорогу невысокого роста гусара, который с непокрытой головой стоял, держа кивер в руке. Гусар обратил на знаменитого доктора огромные глаза и тихо спросил:
– Скажите мне, ради бога, его рана опасна?.. Смертельна?..
– Весьма возможно.
– Но в чем опасность? В чем?.
Доктор секунду подумал и твердо ответил:
– И в месте ранения и в потере крови.
Он подал руку даме в черном, но гусар приблизился еще на шаг и, уже глядя не на доктора, а на прекрасное лицо седой дамы, шепотом спросил:
– Но все-таки есть надежда?! Не правда ли? Надежда есть?..
Наступила пауза, потом седая дама, взглянув в темные глаза странного гусара, сказала медленно:
– Ни-ка-кой!..
– Разрешите? – сказал доктор, вторично предлагая ей руку. Стук колес их кареты, заглушённый глубоким снегом, уже давно смолк за мостом, а Лермонтов все еще не двигался. Потом он отошел в темный угол у подъезда и заплакал, прижав голову к стене. Никто не слышал, как он бормотал невнятно:
– Погиб… Погиб поэт! Дивный гений угасает…
– Мишель! – раздался у ворот громкий голос, и Раевский быстро подошел к неподвижной фигуре, прижавшейся к стене. – Я так и знал, что ты здесь! Меня сани ждут… едем домой!
– Оставь меня, Святослав Афанасьевич, я один вернусь.
– Мишель, ты все равно ничем ему не поможешь…
– Но я хочу сказать за него! Какими словами, не знаю, но должен это сделать! Хочу сказать так, как сказала бы вся Россия, – все светлое, что в ней есть!
– Да ты хоть кивер-то надень! – Раевский взял из его рук кивер и надел на его голову. – С ума сошел! На такой вьюге с непокрытой головой! Поедем, Мишель!
– Нет, нет! Я побуду один. Я похожу немного.
Сани отъехали. В окне, обращенном на канал, погасла свеча. Ветер проносил в темноту охапки летящего снега, а Лермонтов все смотрел и смотрел на окно, за которым умирал Пушкин…
* * *
И толпа все стояла в ожидании перед небольшим домом на Мойке, куда весь день и всю ночь входили люди. Лермонтов не знал, сколько прошло времени до того часа, когда он снова подошел к этому дому, сколько прошло часов до той минуты, когда в раскрывшемся окне он увидел Жуковского и услыхал его голос, внятно раздавшийся над толпою:
– Александр Сергеевич Пушкин… скончался…
Тогда бесчисленные руки поднялись к шапкам, и головы медленно обнажились.
* * *
Лермонтов возвращался к себе на Садовую поздно ночью. Он шел, не видя ничего, и сердце его горело от гнева и горя. Никогда еще он не ощущал с такой силой жажды борьбы с тем черным и страшным, что его окружало, и никогда не видел так ясно, что у него в руках есть верное оружие – его поэтическое слово.
ГЛАВА 9
Он помнил, что был потом у гроба великого поэта и поцеловал руку, ледяными пальцами сжимавшую маленький золотой образок. Потом он сидел за своим столом, лихорадочно записывая и словно оттачивая шедшие прямо из сердца горькие, гневные строки. Не ладилось со строки «Его убийца хладнокровно…». Он менял слова, зачеркнул шесть строк, потом еще пять, в одной из которых называл Пушкина «певцом Кавказа» (ему показалось, что он обедняет этим образ великого поэта).
А потом… потом он лежал на диване в своем кабинете и бредил, широко открыв глаза.
В тревоге бабушка послала за Арендтом.
– Не давайте ему стрелять! Не давайте!.. – кричал ее внук в бреду.
Затих он только к утру. Знаменитый врач осмотрел его, сказал, что ему нужен полный покой, и, усевшись в кресло около больного, пристально вгляделся в его лицо.
– Я вас узнал, – сказал он, помолчав. – В вечер роковой дуэли вы приходили к дому поэта.
– Да, я был там, как и десятки тысяч людей.
Арендт опять помолчал.
– По городу ходят стихи на смерть Пушкина. Прекрасные стихи. Они читаются всеми, и даже я запомнил их первые строчки:
Погиб Поэт! – невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой…
Он покачал головой и, взглянув на Лермонтова, который сурово молчал, добавил:
– Ваше горе мне понятно, но не поддавайтесь слабости, мой молодой друг. У вас сильное нервическое потрясение… Постойте-ка!.. – вдруг оборвал он себя. – Я слышал, что это прекрасное стихотворение, облетевшее весь город, написано каким-то гусаром. Фамилию автора я не запомнил, но сейчас я подумал, что она похожа на вашу. Это вы?
Лермонтов молча кивнул головой.
– Грозное стихотворение, молодой человек. Оно взволновало меня глубоко. Оно достойно того, кому посвящено. А теперь, дорогой, вам нужно возвращаться к жизни. Она никого не ждет и зовет нас всех к нашим обязанностям, в том числе и меня.
Знаменитый врач пожал руку больному и уехал.
* * *
Дядюшка Николай Аркадьевич Столыпин вошел в кабинет Лермонтова с самым беззаботным видом, покручивая в руке лорнетку.
– Заехал, mon ami,[38]38
Мой друг (франц.).
[Закрыть] навестить тебя. Говорят, ты болен?
Лермонтов не любил этого великосветского франта.
Он ответил ему холодно:
– Садись и расскажи, какие новости.
– В свете, конечно, все говорят о Пушкине. Государь так благосклонен к его семье! Назначил большую пенсию и Пушкину простил его вину.
– Как ты сказал? Простил вину? Это какую же?
– Ты еще спрашиваешь!.. Дуэль, конечно!
– Ах, вот что!..
– Послушай, Мишель. Я считаю своим долгом предупредить тебя. Последние плоды твоей музы кое-кому очень не понравились. Ты меня понимаешь?.. Мне передали об этом люди, которым нельзя не доверять.
– Ну и что же?
– Милый вопрос! В моем присутствии стихи твои о смерти Пушкина были переданы двум сенаторам. И они были разгневаны!
– И вполне естественно!
– Погоди! Это еще не все. Ими недоволен и государь.
– Государь?
– Да. Ты, mon cher,[39]39
Мой милый (франц.).
[Закрыть] так сказать, апофеозируешь значение покойного сочинителя. А он был весьма вольных мыслей и очень злые эпиграммы писал. Но государь великодушен.
– Ну еще бы! Он и Дантеса тоже простил!
– Дантеса? А его вообще судить нельзя. Он знатный иностранец и защищал свою честь. Так все говорят.
Дядюшка не видел, как бешено сверкнули глаза Лермонтова, и вздрогнул, услышав его крик:
– Замолчи!.. Уйди от меня! Сейчас же!.. Уйди, или я за себя не отвечаю!..
Камер-юнкер быстро рванулся к двери и, убегая, успел только крикнуть:
– Mais il est fou á lier![40]40
Но он просто бешеный! (франц.).
[Закрыть]
Лермонтов схватил лист бумаги и, ломая карандаш, быстро начал писать. Почти без помарок, точно один сплошной крик боли и гнева, были в этот час написаны знаменитые шестнадцать строк добавления к стихам на смерть Пушкина.
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – все молчи!.
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью;
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
В тот же вечер он дал их Раевскому – для распространения по городу, среди всех, кому было дорого великое имя убитого поэта.
ГЛАВА 10
В физическом кабинете, помещавшемся в самом дальнем углу университетского коридора, в те вечера, когда никто из профессоров не вел там практических занятий, царили обычно пустота и безлюдье. Но в этот зимний вечер по коридору один за другим проходили студенты и, стараясь, чтобы их не заметили, скрывались за дверью кабинета.
Физический кабинет в этот вечер был полон. Сидели на подоконниках, стояли вдоль стен. Молодые лица были суровы и казались серовато-бледными в тусклом свете двух свечей, водруженных на высокую подставку.
Стоя на скамейке с поднятой, словно в угрожающем жесте, рукой, звонким голосом, в котором дрожали ноты гнева и горя, читал один из студентов стихи на смерть Пушкина, написанные никому до сих пор не известным гусаром Лермонтовым.
Он не успел дочитать, как дверь, которую осторожности ради придерживали изнутри, с усилием открылась и совсем юный первокурсник с безусым, почти девически нежным лицом, остановившись в дверях, прокричал:
– Господа! Я принес добавление к этим стихам! Его написал тот же Лермонтов!
Через мгновенье он уже был на скамейке рядом с первым чтецом.
– Это добавление мне удалось списать на улице у знакомого офицера. Лермонтов написал его нынче утром! Вот оно:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов…
Толпа замерла. Это звучало давно не слыханной смелостью, это было восхитительной дерзостью, от которой сильнее забились сердца.
– Сначала! Все сначала читайте! – кричали вокруг.
Когда было прочтено все сначала и шестнадцать последних строчек, глубокое потрясенное волнение охватило молодую аудиторию.
– Лермонтов! Браво, Лермонтов!.. – слышались голоса.
* * *
В старшем классе Школы правоведения только что кончился урок перед большой переменой, и ученики, выстроившись парами, как того требовал строгий регламент поведения, в сопровождении классного воспитателя отправились в сад. Побыв там несколько минут и убедившись, что «правоведы» ведут себя вполне благопристойно и ничем не роняют высокого звания учеников привилегированного учебного заведения, классный воспитатель удалился. Но как только его статная, подтянутая фигура скрылась в больших дверях, ученики привилегированного заведения резко изменили свое поведение. Они без всякого строя и порядка окружили одного из своих товарищей.
– Ты принес? Принес?.. Читай скорей!
Высокий юноша вынул из подкладки своей фуражки листок бумаги, оглянулся и, убедившись в том, что их никто не видит, вполголоса начал читать:
Погиб Поэт! – невольник чести…
Его еще не установившийся голос срывался, выдавая волнение чтеца. Молодые лица тесно окруживших его учеников были сосредоточенно-угрюмы, брови сдвинуты, губы крепко сжаты… На глазах у иных выступали слезы, и гневные слова были готовы сорваться с губ.
. . . . . . . . . .
Вечером в одном из отделов Департамента военных поселений, уже после окончания занятий, чиновники все еще продолжали жечь казенные свечи и поспешно что-то писали и переписывали, сидя за своими столами.
Молодой чиновник Раевский, из числа помощников его превосходительства, ходил между столами, отбирая уже написанные листки. Содержание их не имело ничего общего с делами департамента, что можно было заметить с первого же взгляда, потому что на листах и листочках виднелись стихотворные строки.
Чиновник Раевский пересчитал листки и рассовал их по своим карманам.
– Спасибо, господа! – сказал он.
– Не за что, Святослав Афанасьевич! Не за что! Стихи уж очень хорошие… Справедливые стихи!
Под гул этих возгласов Раевский выходит из департамента, берет извозчика и, доехав до кондитерской Вольфа, вбегает в ее гостеприимные двери.
– Вот! – говорит он быстро, подходя к одному из столиков, где его ожидает несколько человек. – Здесь пятнадцать списков!
Несколько рук протягиваются к нему.
– К ним есть добавление! – говорит Раевский.
– Читайте его, читайте!
– Здесь есть артист, пусть он прочитает.
Известный многим из присутствующих трагик петербургского театра берет список. Посетители встают от столиков и, окружив его, в потрясенном безмолвии слушают обличительные слова грозного стихотворения:
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!..
Когда он кончает, все обступают Раевского.
– Кто написал эти стихи? Кто автор? Где он? Кто этот поэт?
– Лермонтов, Лермонтов! – отвечает Раевский, уже торопясь в другое место.
– Гусар лейб-гвардии! И неужели ему только двадцать два года?
– Я сегодня же повезу это Одоевскому!
– Надо прочитать их Жуковскому!
– Жуковский убит горем, прочитаешь ему потом.
– Как вы назвали поэта?
– Лермонтов! Лермонтов! – повторяет, торопясь, Раевский и выходит на улицу.
– Господин чиновник! – вкрадчиво говорит, направляясь к нему, полицейский.
Но «господин чиновник» уже исчез.
Теперь он ехал к Мишелю, чтобы скорей, скорей рассказать ему обо всем.
А по всему Петербургу – и в частных домах и в местах общественных – люди, потрясенные тягчайшей утратой, читали, слушали и переписывали лермонтовские стихи на смерть Пушкина.








