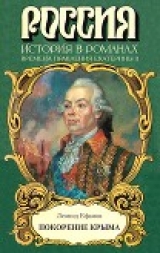
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 37 страниц)
Стремоухов не только следил, но и всячески старался привязать к себе предводителей орд. После долгих уговоров он убедил Джан-Мамбет-бея отдать ему для воспитания и обучения младшего сына и несколько внуков. О том же подполковник вёл разговоры и с другими ногайскими начальниками.
Екатерина по достоинству оценила его рвение – похвалила за дальновидность и посоветовала Щербинину забрать детей в Харьков под губернаторское попечение.
«Послужат оные питомцы, – писала она Щербинину, – как ныне надёжным залогом, так, напротив того, для последующего времени полезно быть имеет».
Между тем положение на Кубани обострилось ещё больше: в Суджук-Кале высадился прибывший из Константинополя хан Девлет-Гирей с несколькими пирейскими султанами...
Разуверившись в способности Сагиб-Гирея выступить против России, турецкий султан Мустафа осуществил свою давнюю угрозу: назначил крымским ханом Девлет-Гирея, Шабас-Гирея – калгой, а Мубарек-Гирея – нуррадцин-султаном и послал всю троицу на Кубань побудить орды вернуться к прежнему, покорному Турции, состоянию. Одновременно султан приказал готовить большой флот, который должен был перевезти на Таманское побережье трёхбунчужного Хаджи-Али-бея с десятитысячным войском.
...Орды волновались не без причины – нужно было решить простой и невероятно сложный вопрос: на кого поставить, чтобы не проиграть?.. На Россию?.. Сагиб-Гирея?.. На Девлет-Гирея?
Оценив серьёзность угрозы, Щербинин решил ублажить ногайцев согласием на избрание сераскиром орд Казы-Гирей-султана, обитавшего в кубанских землях и давно домогавшегося сераскирской власти. Едисанцы поддерживали Казы, но у Евдокима Алексеевича были сомнения в его приверженности к союзу с Россией. (Другой претендент – Шагин-Гирей, доказавший уже свою преданность, в письмах ногайцев уже не упоминался).
«Ежели Казы имеет силу и доверенность у Джан-Мамбет-бея, – рассуждал Евдоким Алексеевич, – и от него ревностно подкрепляется, то весьма вероятно, что в своём искательстве он будет удачлив... Что же до Шагина, то, отлучившись от отечества, он исключил себя от соучаствования в татарских делах и теперь в соперничество пронырливому Казы никак не может быть употреблён. Всякая преждевременная попытка в пользу Шагина, несомненно, раздразнила бы Казы, который, поняв, что с нашей стороны ничего ожидать не приходится, мог бы, как легкомысленный и мстительный по дикости своей человек, сделаться тягостным злодеем и развратителем всех магометан Кубанского края... Да и Джан-Мамбет, видя бывшие за него заступления Казы, мог бы посчитать за неуважение к себе отвержение его домогательств...»
Терзаемый сомнениями, Евдоким Алексеевич написал Екатерине длинное письмо.
Она ответила скоро и ясно:
«За полезное находим мы представить ногайским ордам по собственному их соглашению выбрать себе в сераскиры Казы-Гирей-султана».
Щербинин должен был от своего имени приветствовать избрание Казы сераскиром и обнадёжить его покровительством.
Екатерина поступила правильно и дальновидно: если Казы станет сераскиром без разрешения Порты и Крыма, как это было принято по татарским обыкновениям, то для сохранения себя в этом достоинстве должен будет ласкаться к России, чтоб получить утверждение от неё. А Россия торопливость не проявит – посмотрит за его делами.
«Время покажет, – думала Екатерина, – достоин ли он нашего покровительства и утверждения в сераскирстве или же сделает нужным своё уничтожение... А тогда и Шагин пригодится!..»
* * *
Сентябрь – октябрь 1773 г.
Измотанной пятилетней войной России было уготовано ещё одно тяжёлое испытание. Озабоченный борьбой с сильным внешним неприятелем, бросая на его поражение всё новые силы и средства, Петербург не только истощал мощь империи, но и засевал ниву народного недовольства, замучив подданных рекрутскими наборами, многочисленными податями и повинностями. И в сентябре на Яике взбунтовались тамошние казаки.
Екатерина призадумалась.
Бунтами Русь удивить было трудно – бунтовали всегда. Даже в первопрестольной Москве два года назад поднялась чернь, ломилась в Кремль, убила архиерея Амвросия, других служилых людей, грабила и бесчинствовала. Но то бунтовала чернь – безоружная и пьяная. Посланный в Москву Григорий Орлов быстро восстановил порядок, наказал виновных... На Яике было другое: поднялись казаки – люди, в военном деле толк знающие, к дисциплине приученные, сабель и пушек не боящиеся. И самое пугающее – это имя покойного мужа императора Петра III, ставшее знаменем бунтовщиков. Ибо, по долетевшим в Петербург слухам, подвигнул казаков на мятеж именно он, Пётр, чудом якобы спасшийся тринадцать лет назад от смерти, скрывавшийся до поры в народе, а теперь возомнивший вернуть себе коварством отнятый престол и дать простому люду истинную волю.
«За царя сражаться сам Бог велел, – думала Екатерина, комкая подрагивающими пальцами вышитый платочек. – Только кто этот мерзавец, именем убиенного назвавшийся?..»
Через неделю-другую узнала – беглый колодник Емелька Пугачёв. И тотчас послала рескрипт оренбургскому генерал-губернатору Ивану Рейсдорпу, чтобы подавил бунт.
А в ответ – вести печальнее прежних: ширится смута, заполняет всё новые и новые земли. Уже не только казаки поднялись, но и башкиры, татары казанские, казахи, уральские работные люди. Рейсдорп рад бы усмирить их, да не может – малочисленными крепостными гарнизонами много не навоюешь.
«Видно, крепкое войско надобно, чтобы опрокинуть бунтовщиков, – сжала губы Екатерина. – Только нет войска – с турком оно накрепко повязано... Мир нужен, мир...»
Ломая перо, она быстро черкнула Панину записку: представить на ближайшем Совете свои рассуждения о скорейшем достижении желанного мира с Портой.
Панин повеление исполнил. На Совете говорил, по обыкновению, неторопливо, с ленцой, но умно и понятно:
– Рассмотрение всех прежних дел с Портой совершенно однозначно показывает, что её упорство в татарском вопросе, а особливо – в уступке нам крымских крепостей с их принадлежностями, встретило трудности доныне непреодолимые. Печально, но следует признать, что без всякого ослабления от времени и продолжительности военных действий они изо дня в день умножаются. Я зримо вижу, что намерение турецкого правительства и всей нации по вкоренённому её бесчеловечию и зверству говорит об их желании лучше вконец подвергнуть себя всем возможным бедствиям и опасностям от продолжения войны, нежели купить за оную цену мир. Мир, по собственному их признанию, им необходимо нужный и во всех других частях выгодный.
– Что же мешает тому? – поспешил спросить Вяземский, нервничавший почему-то сильнее других.
– Мешает мнение, что допущение России утвердить себя в Керчи и Еникале лишит навсегда Константинополь внешней безопасности.
– Царьград здесь ни при чём, – сказал Орлов. – Турки понимают, что если Россия заимеет военный флот на Чёрном море, то их владычество в тамошних водах и в Крыму закончится раз и навсегда.
– Это так, – согласился Панин, – но то упорство, с которым они не хотят идти на уступки, не может не тревожить нас. А состояние кризиса, в коем находится Российская империя, вынуждает меня предложить Совету упомянутое кем-то ранее предложение... – Панин сделал паузу и закончил со вздохом: – Следует отказаться от нашего требования Керчи и Еникале.
Орлов с удивлением посмотрел на Панина и спросил со злой иронией:
– Может, нам сразу признать поражение?
– Не язвите, граф, – обиженно ответил Панин. – Наши победы у нас никто не отнимет... Но империи нужен мир!.. Мир любой ценой!.. Даже уступкой упомянутых крепостей.
– Отдать такие удобные крепости – значит остаться без флота, – горячо возразил Иван Чернышёв. Будучи вице-президентом Морской коллегии, он не желал уступать туркам приобретённые черноморские порты.
– Они не столь уж удобные, чтобы держаться за них намертво, – возразил Панин.
– Это почему же?
– Содержание, оборона и снабжение сих крепостей не только стали бы требовать весьма значительных расходов, но были бы неминуемо подвержены крайним неудобствам и затруднениям. Ибо вся коммуникация с ними сокращалась бы до одной навигации по Азовскому морю. А море сие, как известно, каждую зиму совсем невозможным для плавания бывает... Да и само естественное положение крепостей не представляет замену никаких важных выгод. Ни для охранения татар, ни для основания на Чёрном море собственного нашего кораблеплавания они должным образом не пригодны.
– Однако ранее вы считали иначе, – проронил колюче Иван Чернышёв.
– При определении наших мирных кондиций сие предполагалось возможным и удобным по одним теоретическим сведениям. Но теперь известно, что ни одно из тех мест не имеет ни гавани к помещению судов некоторой величины, ни каких-либо преимуществ перед нынешними нашими верфями, заведёнными на Дону. В окружности сих мест совершенно недостаёт всяких материалов к судовому строительству, почему оные надлежало бы сплавлять Доном из верховых городов.
– Так что же получается, граф? После всех завоеваний и пролитой крови мы на Чёрном море ничего не поимеем?
– Поимеем... Кинбурн!.. Сей город, лежащий в самом устье реки Днепр, соединяет в себе несравненно большие удобства для желаемых нами выгод и в обуздании татар, и в надёжном противовесе Очакову, который у турок почитается ключом Крыма, и в заведении собственного кораблестроения и торговли... У Кинбурна есть место для пристанища судам большой величины. Кроме того, государственная экономия требует открыть рекой Днепр из прилегающих к ней провинций новый путь коммуникации.
Все задумались над словами Панина, но Орлов спросил въедливо:
– С чего вы взяли, что Кинбурн хорош? При нём нет не токмо пристани, но и никаких прочих удобств. А обилие великих мелей, далеко в море и в залив распространившихся, не даст возможности содержать там флот... Нет, Кинбурн никакой пользы империи не принесёт!.. А вот в Керчи имеется весьма удобная гавань! И, владея требуемыми крепостями, можно спокойно проводить суда из Азовского в Чёрное море. А строить их будем на старых верфях.
– Я хочу владеть морем, – сказала Екатерина, озабоченно слушая спор. – И иметь там военный флот, могущий упредить все турецкие происки против Крыма.
– Если мы отдадим Керчь и Еникале крымцам, то турки – будучи с ними одной веры и имея сторонников в тамошнем правительстве – уговорят татар уступить им сии крепости. А значит, выход в море нам заказан! – воскликнул с жаром Орлов. – Господи! Ведь очевидно же, что на совершенное отделение татар от турок потребно ещё много времени и трудов!
– В политике излишняя горячность во вред делу оборачивается, – сказал Панин с намёком на поведение графа в Фокшанах. – Мы можем о многом говорить, выставлять разные резоны. Но всё идёт к тому, что ныне условия мира с турками нам продиктует Пугачёв... Да-да, господа, именно он!.. Бунт ширится, и России придётся проиграть войну, отозвав из армии многие полки на борьбу с Емелькой.
– Как проиграть? – вскинулся Вяземский. – Мы не можем её проиграть!
– Мы проиграем, если быстро не найдём пути к миру!
– А я знаю одно – Кинбурн не может заменить нашу уступку туркам! – воскликнул Орлов, вскакивая со стула. И тут же сел под строгим взглядом Екатерины. – Кинбурн крепость небольшая, лежащая в отдалённом месте, ни порта, ни рейда не имеющая... Тогда надо требовать от них ещё приобретений!
– Каких?
– Очаков! И всю землю, принадлежащую туркам между Днепром и Днестром! И не допускать им селиться в Бессарабии!
– Может ещё и Константинополь потребовать? – снисходительно спросил молчавший до этого Захар Чернышёв. После того как в конце августа Екатерина произвела его в генерал-фельдмаршалы и назначила президентом Военной коллегии, Захар Григорьевич разговаривал с бывшим фаворитом государыни с некоторой небрежностью.
– Да уж, граф, – поддержал Чернышёва вице-канцлер Голицын, – не чаятельно, чтобы турки согласились на отдачу Очакова.
– Тогда его надобно разрушить! – потребовал Орлов.
– Нет, – возразил Панин, – его следует отдать в целости Порте. Ибо этим поступком нам будет легче доказать, что обе империи имеют равные удобности для наблюдения татар в их новом политическом бытии... Ежели Порта убедится, что мы лишаем себя всякого способа утвердить своё влияние в Крыму – она станет сговорчивее. Татары же, получа в свои руки и в свою власть все нынешние крепости на Крымском полуострове и на Тамайском острове, сделаются через то самое совсем особливым и отдельным народом, без чего, конечно, Россия никогда не согласится на мир.
– Чепуха! – бросил Орлов. – Если мы уйдём – турки будут там хозяевами!
– Никита Иванович, вы же раньше сами ратовали за Крым, – сказал Вяземский, утирая платочком вспотевший нос. – Что же вы ныне отступаете?
Панин медленно повернул толстое лицо к генерал-прокурору и выдохнул:
– Обстоятельства ныне другие, Александр Александрович. Мир нужен! Ибо Емелька, что по Волге бродит, во сто крат опаснее и турок и татар. Это не просто бунт – это ещё одна война! Внутренняя, а поэтому самая опасная... С Портой мы можем вести негоциации, договариваться о мире, выторговывать выгодные кондиции. С бунтовщиками же мира быть не может! Либо мы их всех перевешаем, либо... – Никита Иванович махнул рукой, перевёл взгляд на Екатерину. – Наступающее зимнее время удобно к негоциации с турками и может быть с пользою употреблено к учинению оной без всякого с нашей стороны компрометирования. Если только ваше величество соизволит для скорейшего доставления своим подданным вожделенного мира удостоить высочайшей апробации сии мри рассуждения.
Екатерина ответила с промедлением, после некоторого раздумья:
– Надобно намекнуть господину послу Цегелину внушить рейс-эфенди мысль, чтобы Порта, отвергнувшая наши последние мирные кондиции, учинила теперь со своей стороны какие-либо новые предложения для возобновления негоциации... А особливо представила России в замену Керчи и Еникале уступку Кинбурна...
* * *
Октябрь 1773 г. – февраль 1774 г.
Попытка Казы-Гирей-султана утвердить себя сераскиром всех ногайских орд успеха не имела. Не помогла и поддержка Джан-Мамбет-бея. Несмотря на все его увещевания, предводители орд не торопились с ответом, выжидали. И всё больше прислушивались, что делается в таманской стороне, где обитали посланцы турецкого султана – новый хан Девлет-Гирей и его братья. А те понапрасну времени не теряли: слали и слали в орды своих нарочных с деньгами и подарками, с письменными ласкательствами и угрозами, стремясь поколебать нестойкое единство ногайцев, подвинуть их к разрыву с Россией и возвращению под покровительство и власть Порты.
Кал га Шабас-Гирей лично приехал к Джан-Мамбет-бею и, вручив ему ханские подарки, передал скрученное в свиток письмо.
«Да будет вам известно, – писал бею Девлет-Гирей, – что я прислан от турецкого султана в город Тамань для того, чтобы все вы были мне подвластными, в знак чего имею я от султана ферман и большое законное знамя. И поэтому прошу вас, для общего согласия, приехать в Тамань. А кто не согласится, тот будет сочтён мною и султаном противником магометанского закона».
Джан-Мамбет-бей выслушал – по своей неграмотности – зачитанное вслух письмо, задумчиво затянулся сизым табачным дымом, потом ответил дряблым старческим голосом:
– Я не знаю, кто из нас останется в дураках – мы или хан, прибывший сюда воевать с Россией... Напрасно он грозит нам! Я, доживая восьмой десяток, видел на своём веку и грозные султанские ферманы, и турецкие армии числом побольше, чем теперь под рукой хана. Но видел я и разорение собственных жилищ, смерть моих людей, турецкое небрежение к нам... Стеснённый русскими войсками во время войны, я униженно просил великого везира пропустить мои кибитки через Дунай, обещал служить ему со своим народом против неприятеля. Но он отверг моё прошение!.. Я потерпел разорение и был вынужден просить милости у России. И, к удивлению, нашёл самое наилучшее понимание. Ибо всё, что я просил, для меня было сделано! Как щенят в зубах, я перенёс свой народ через Дон на здешние места, которыми вольно пользуюсь по милости России... Но сколько ещё бедных моих людей добывает себе хлеб в России? Право, их там больше, нежели находится у вас. Могу ли я после этого воевать против русских?.. Нет!.. И не буду, ибо никогда не забуду российских благодеяний... И скорее соглашусь умереть, чем нарушить учинённую присягу.
Седого бея поддержали мурзы:
– Хотя мы и приняли бакшиш от хана, но помощи ему против русских не окажем!..
Едисанцы и буджаки, никогда особо не жаловавшие крымских ханов, за исключением покойного Керим-Гирея, остались верны данному России слову. Джамбуйлуки продолжали колебаться. А развращённые ханскими нарочными едичкулы стали скрытно покидать места зимовки и переходить к Девлет-Гирею.
Подполковник Стремоухов призывал едичкульского Исмаил-бея силой возвращать клятвопреступников и примерно их наказывать, ругал поручика Павлова, находившегося приставом при орде, за нерасторопность и попустительство. Но бей на письма не отвечал, аулы, прячась в ночи, продолжали уходить, а в поручика, гонявшегося по степи с казачьей командой за беглецами, несколько раз стреляли, к счастью, неточно.
Обеспокоенный разбродом ногайцев, Стремоухов отправил рапорты Долгорукову и Щербинину. Те поспешили переслать их в Петербург.
Но Екатерина и Совет, поглощённые заботами, связанными с подавлением восстания Пугачёва и поисками способов к окончанию войны с Портой, опасения генералов не разделяли.
– Предательство ногайцев представляется мне сумнительным, – сказал Никита Иванович Панин. – Они, конечно, в силу своей дикости и необузданного нрава, всегда были подвержены колебленности. Но бегство нескольких сотен не есть предмет, требующий вмешательства оружия... Надобно, пользуясь их врождённой алчностью и корыстолюбием, употребить сильно действующий способ к удержанию орд в спокойном состоянии: умножить жалованье Джан-Мамбет-бею[24]24
С 1772 года Джан-Мамбет-бей получал от российской казны годовое жалованье в две тысячи рублей.
[Закрыть], приласкать деньгами и подарками, превышающими турецкие и ханские, всех ногайских начальников. А получив от нас снабдение сверх меры, они – в ожидании столь же щедрых будущих денег – умерят свою поползновенность к Порте.
Совет поддержал Панина, и Щербинину был отправлен рескрипт, разрешавший взять из Слободской губернской канцелярии до 30 тысяч рублей на подкуп ордынцев.
Тем временем Стремоухов, взволнованный развратом едичкулов, оставил при ордах подполковника Бухвостова, а сам в первые дни января – под предлогом личной встречи с Щербининым – поспешил выехать в Харьков.
Бухвостов был не дурак – понимал, что подполковник струсил. Но попрекать не стал. Выпил с ним на дорожку, отёр ладонью усы и подумал беззлобно: «Бог ему судья, коль чести не имеет...»
Стремоухов с небольшой охраной ускакал к Азову.
А Бухвостов решил напомнить о себе высокому начальству:
«Здешний народ, – написал он 9 января в рапорте, – будучи развращаем беспрестанно подущением Девлет-Гирей-хана, пребывает до сего времени, по природному своему обыкновению, в волнении. Но как обитающий со мною в одном месте едисанский бей Джан-Мамбет в крепости к России пребывает непоколебим и явно отрёкся от всех Девлет-Гирей-хана обольщений, а притом и народ, имея к престарелому сему бею преданность и уважение, не может предпринимать без воли и согласия его ничего важного, то потому и надеюсь, что доколе почтенный сей старик пребудет в клятве своей верности к России непеременен, то ни здешние мурзы, ни чернь, а тем менее другие малые беи ничего дерзкого против России начать не могут».
Однако с отъездом Стремоухова ногайцы побежали ещё сильнее – к февралю число перешедших на сторону Девлет-Гирея достигло десяти тысяч.
А вскоре пришло известие ещё хуже: 6 февраля при речке Чёрной Протоке едичкулы взяли в плен поручика Павлова и полсотни его казаков, привезли их к Исмаил-бею, который, желая выслужиться перед Девлетом, велел отвезти пленных в подарок хану.
Бухвостов с чугунным лицом выслушал Джан-Мамбет-бея, сообщившего о предательстве Исмаила, натянул на самые брови суконную шляпу и, загребая кривыми ногами льдистый снег, угрюмо пошёл к своему лагерю. Против многотысячной татарско-ногайской конницы у него было всего четыреста штыков и сабель и четыре единорога.
* * *
Январь – февраль 1774 г.
В январе Румянцев сильно расхворался. В длинной до пят рубашке, в колпаке, укрытый толстым одеялом, он лежал в постели и с отвращением, морщась и кряхтя, глотал горькие микстуры, которыми его обильно потчевали доктора. За три недели он похудел, ослаб, и требовалось время, чтобы тело окрепло. Лишь к февралю ему полегчало. Он стал заниматься делами, но выборочно: читал только высочайшие рескрипты, а прочие поступавшие бумаги отсылал в канцелярию. Тем не менее рапорт генерал-аншефа Ивана Петровича Салтыкова был доложен фельдмаршалу без промедления – во время ужина.
Салтыков писал, что сбежавший из Рущука из турецкого плена солдат на допросе показал, будто 21 января в том городе обнародован указ о смерти султана Мустафы III и восшествии на престол нового султана Абдул-Гамида I, младшего брата покойного.
Румянцев бросил ложку, которой хлебал молочную кашу, взял рапорт, сам перечитал строки о перебежчике.
– Как отужинаю – подошлите писаря, – сказал он, снова принимаясь за кашу. – Письмо государыне надиктую...
Событие произошло, конечно, важное: перемена государя – это почти всегда перемена политики. Мало зная о характере нового турецкого султана, Екатерина тем не менее сказала на заседании Совета:
– По примерам прежних времён можно помышлять, что такая перемена произведёт бесспорное волнение в серале. И сие повлечёт некоторую расстройку в общих политических делах и в военных мерах Порты. Благоразумная прозорливость требует от нас поставить себя в готовое состояние воспользоваться наилучшим образом могущей быть оплошностью нашего неприятеля... – Она повернула голову к Чернышёву: – Захар Григорьевич, сколько войска будет в Первой армии?
– Тридцать восемь пехотных полков, двадцать три кавалерийских, инженерный батальон, донские и мало-российские казаки – всего до пятидесяти двух тысяч.
– Как с таким войском можно навредить Порте?
– Устроив без всякой огласки достаточный корпус, граф Румянцев мог бы перенестись на супротивный берег Дуная и без промедления ударить на Силистрию и Варну. Такая экспедиция, пользуясь расстройством неприятеля от перемены верховного правительства, может без знатного урона отдать в наши руки помянутые крепости и послужит внушительным средством к вынуждению мира от турок.
– Покамест о посольствах договариваться станем – удобное для кампании время упустим, – предостерёг Орлов.
– Не упустим, коль отдадим негоциацию самому Румянцеву, – заметил Панин.
Екатерина прислушалась к советчикам – Румянцеву был отправлен рескрипт:
«Сколь скоро сии оба места или же одно из них войсками нашими схвачены были, вы, не упуская первого в неприятеле ужаса, предложили бы от себя верховному везиру возобновление мирной негоциации. Но с тем, чтобы оную – для выигрывания времени и сокращения всяких затруднений – производить уже между вами обоими...»
Румянцев воспринял рескрипт без восторга – проворчал, откладывая бумагу:
– Уповать на непременное расстройство неприятеля – мечтание, конечно, заманчивое. Однако и предосторожность соблюдать надобно... Ну как новый государь, внемля советам своих фаворитов, решится на отважное воинское дело, дабы ознаменовать восшествие на престол окончательной викторией...
Фельдмаршал опасался не зря: ему доносили, что в турецких войсках во весь голос идут разглашения, будто Абдул-Гамид весьма поощряет янычар на скорую победу, что все турецкие паши желают порадовать султана удачными сражениями с русскими и готовятся переправиться на левобережье Дуная.
– Советовать легко, – тихо, под нос, продолжал ворчать Румянцев. – Ладно Силистрия на Дунае стоит. Но ведь к Варне двести вёрст маршировать! Ни скоро, ни скрытно дойти нельзя...
Пётр Александрович не мог забыть прошлогоднюю неудачную кампанию, стыдился её и не желал повторения позора. Поэтому в своей реляции он обрисовал трудности, испытываемые армией, её неготовность в ближайшие недели исполнить высочайшую волю. Но сделал это достаточно мягко, чтобы не возбуждать против себя Екатерину и Совет. И пообещал, что «как время и случаи только попадутся, я от всего умения и от всей моей возможности стану испытывать все средства, чтобы достигнуть желания и предположения вашего императорского величества».
А за доверенность вести негоциацию с турками – искренне поблагодарил.
* * *
Февраль 1774 г.
Переход власти в руки нового султана заставил Совет внимательнее отнестись к событиям на Кубани. Убедившись из реляций Долгорукова и Щербинина, что орды отвергли притязания Казы-Гирей-султана, а Джан-Мамбет-бей вновь стал звать к себе Шагин-Гирея, Совет решил воспользоваться удобным случаем и привести калгу к власти над ногайцами.
Выступая на заседании, Никита Иванович Панин обратил внимание Совета на необычное положение, сложившееся в Крымском ханстве: часть татар по-прежнему сохраняла верность Сагиб-Гирею; другая часть признала ханом Девлет-Гирея; ногайцы, признавая Сагиб-Гирея, тем не менее ему не подчинялись и ещё больше не желали – за исключением едичкулов – подчиняться Девлету.
– Татары всегда были своевольны и развратны, пока разными начальниками управлялись, – говорил Панин. – Обстоятельства требуют решительных действий по удержанию их, а особливо ногайцев, в положении, сообразующемся с пользой нашей империи. Нельзя допустить, чтобы Абдул-Гамид своими ласкательствами вернул их под своё крыло... Настало время бросить в игру до поры припрятываемую карту – Шагин-Гирея! Нечего ему в Полтаве попусту проживать дни. Пусть едет в орды!.. А для устрашения злоумышленников и для приобретения доброжелателей – дать ему сильное войско и достаточно денег.
– Войско найдём. А вот деньги?.. Щербинин пишет, что у него в канцелярии одни бумажные ассигнации, да и тех немного, – заметил Вяземский.
– Ерунда!.. У Долгорукова много серебряной монеты. Пусть поделится!
– Мне ведомо, что едичкулы никогда не жаловали Шагина, – сказала озабоченно Екатерина. – Не всколыхнёт ли его приезд ещё больший разврат в орде?
Панин пожал плечами.
А Орлов горячо воскликнул:
– Тогда надлежит уничтожить их без жалости и сострадания! И войско наше должную в том помощь калге оказать имеет.
Панин предупреждающе поднял руку:
– Искательство Шагином власти над ордами не может иметь вида принуждения!.. Следует соблюсти всю наружную свободность, что они его своим начальником добровольно избрали. Сие весьма нужно не токмо для самой цели и прочности его пребывания между ними, но и в предупреждение волнений крымцев.
– Тогда разъясните калге, – снова вступила в разговор Екатерина, сколь полезно для него будет удаляться от всяких строгих мер нашим оружием... Пусть ищет общую доверенность снисходительством и пристойными изъяснениями. А когда получит – и едичкулов присмирит!..
Панин написал Шагин-Гирею:
«Природа ваша и добродетели отличные достойные того, чтобы народы татарские, избавленные великодушным её императорского величества подвигом по единому человеколюбию из поносного рабства и неволи и в независимом состоянии здешним попечением и стражей охраняемые, но к удивлению и крайнему сожалению, по малой своей разборчивости, почти не чувствуя выгодности и превосходства настоящего своего жребия пред прежним презрительным, тяжким и бедственным, во всём том были вразумлены и приведены в прочный для них порядок чрез ваше сиятельство, и чтоб таким образом слава вашего имени и в будущее их потомство распространилась для примера и подражания...»
В письме к Джан-Мамбет-бею, предводительствовавшему Едисанской, Буджакской и Джамбуйлукской ордами, Панин выразил надежду, что Шагин-Гирей получит искомую им власть.
Едичкульского Исмаил-бея Никита Иванович предупредил о недопустимости нарушения торжественных обещаний и присяги, «чтоб не подвергнуть себя справедливым нареканиям и подозрению». И посоветовал – не называя имени Шагина – установить начальство, на все орды простирающееся, «в лице достойном общей доверенности и способном к исправлению столь нужной и важной должности».
* * *
Март 1774 г.
В середине месяца, слякотным, дождливым днём, в Яссы прискакал везирский нарочный Саид. В висевшей на его боку потёртой кожаной сумке лежало послание Муссун-заде – плотный, свёрнутый в трубку лист, перехваченный шёлковой нитью с красной восковой печатью, – и конверт с французской надписью – письмо прусского посла в Константинополе Цегелина. Лязгая зубами, словно голодный волк, продрогший в мокрых одеждах, Саид еле объяснил непослушным языком дежурному офицеру, что бумаги адресованы предводителю русской армии, и отдал сумку.
Фельдмаршал Румянцев, с болезненно бледным лицом, в толстом шлафроке, надетом поверх камзола, прикрыв ноги и грудь тёплым шерстяным одеялом, сидел в кресле у догоравшего камина и терпеливо ждал, когда ему принесут переписанное по-русски послание везира. Со слов переводчика Мельникова, бегло просмотревшего турецкий текст, выходило, будто везир просит мира.
Но Мельников ошибся: в недлинном письме Муссун-заде не столько говорил о мире, сколько намекал на него. Письмо было составлено умно: не желая открыто признать тяготы продолжающейся войны, давившие на Турцию не менее, чем на Россию, везир, упомянув о своём стремлении прекратить пролитие крови, как бы между прочим заметил, что посол Цегелин с одобрения своего короля изъявляет готовность стать посредником в примирении двух империй. И для большей убедительности приложил его, Цегелиново, письмо.
«Горделив турок, – подумал Румянцев, складывая толстыми пальцами бумагу, – но рассудка не лишён. Ежели только не хитрит... – Пётр Александрович не очень поверил в искренность Муссун-заде. Он хорошо помнил, как тот своими указаниями намертво связал руки турецким полномочным в Бухаресте, что в конце концов привело конгресс к разрыву. – Видимо, хочет оттянуть начало нашей кампании. Или же вовсе оную сорвать... Только я тоже ведаю, как письма пишутся...»
По болезненной слабости он сам перо в руки не взял – тихим сухим голосом продиктовал ответ.
Напомнив Муссун-заде об ультиматуме, представленном российской стороной, он указал, что ожидает уведомления «на те последние предложения, которые на Бухарестском конгрессе послом её императорского величества были сделаны к прекращению войны и для мира вечного».








