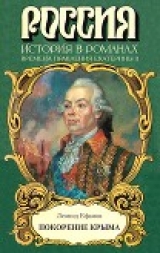
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 37 страниц)
– Крепости мы не отдадим, – спокойно и властно сказал Долгоруков. – В них безопасность всего полуострова заключена.
Шагин одобрительно закивал:
– Правильно, правильно... Если сие препятствие не удержите, то Порта – несмотря на все данные ею обещания – тотчас устремит свои происки к завладению Крымом. И тогда беи с мурзами станут ей надёжной опорой в названном злом умысле. Они трактат, подписанный в Карасувбазаре, блюсти не будут... А я буду!
От Долгорукова не ускользнула прежняя претензия калги на ханство, но обнадёживать его он не стал. Правда, прощаясь, напомнил, что Россия готова принять калгу с должным уважением и поселить там, где он сам пожелает жить.
В лагерь генералы вернулись на закате. Направляясь к своей палатке, Берг, пожелав покойного сна командующему, заметил гнусаво:
– Не дай Бог иметь такого калгу в своём отечестве.
– В своём – не дай... А в чужом такие даже полезны, – благоразумно ответствовал Долгоруков. – Лишь бы нам верность хранил да от турок подальше держался.
– Сохранит ли?
– Выбора у него теперь нет... Сохранит!
А ночью Василию Михайловичу приснился странный и тягостный сон: Шагин-Гирей весело, с прибаутками рубит палаческим топором головы мурзам, тела сбрасывает в яму, а затем, оскользнувшись в пролитой крови, сам падает туда.
Утром он припомнил сон, за завтраком рассказал Бергу.
Прожёвывая холодную осетрину, генерал прочавкал полным ртом:
– Сон-то пророческий... Попомните моё слово – калга плохо кончит...
После ещё одного – прощального – обеда у Прозоровского командующий со всей свитой и охраной покинул лагерь, направившись в Бахчисарай, чтобы навестить хана. Преодолев за три часа пятнадцать вёрст иссохшей, пыльной дороги, отряд остановился на ночлег у небольшой реки Булганак, бойко журчавшей по каменистому руслу, обвешанному с двух сторон плакучими ивами. Здесь на него наехали чиновники хана. Они доставили ответ Сагиб-Гирея на послание Долгорукова, отправленное двумя днями ранее из лагеря Прозоровского...
Василий Михайлович послал церемониал, согласно которому хану надлежало встретить его во дворце, а в зал они – Долгоруков и Сагиб – должны были войти одновременно. Хан же ответил: поскольку он принимает русского генерала, тот войдёт один.
...Едва Якуб-ara перевёл последние слова, Берг возмущённо заворчал:
– Хан много мнит о важности своей персоны... Может, ещё и шляпы прикажет нам снять?
Долгоруков такого унижения стерпеть не мог – сломав густые брови, надменно сверкнув глазами, сказал чугунным голосом:
– Либо мы вместе войдём, либо я проеду мимо... Я от хана кондиций не приемлю!
Несмотря на опускающуюся ночь, чиновников без задержки отправили в Бахчисарай.
А Долгоруков, подогреваемый едкими замечаниями Берга, ещё долго ругался:
– Слыханное дело!.. Меня – покорителя Крыма! – хан примет как заурядную особу!.. Сволочь!..
И он миновал бы Бахчисарай, но на рассвете в лагерь прискакал нарочный от Веселицкого, доложивший, что по резидентскому настоянию хан согласился на предписанный церемониал...
Узнав от Абдувелли-аги, какой ответ отправил хан, Пётр Петрович тотчас присоветовал are повлиять на своего господина, ибо чин и должность Долгорукова были столь высоки, что предложенный им обряд не умалял ни достоинства, ни чести хана.
– Отказ от встречи, о которой уже всем известно, – строго сказал Веселицкий, – может быть истолкован превратно: будто бы хан не желает дружбы с Россией, коль не принимает предводителя армии, обороняющей вольность Крыма.
Абдувелли-ага убедил Сагиб-Гирея, но его чиновники уже находились в пути.
Веселицкий мысленно выбранил хана за поспешность, поблагодарил агу за услугу и отправил вдогонку вахмистра Семёнова.
Вахмистр, держа в руке заряженный пистолет, боязливо вглядываясь в темноту – в последние недели татары часто устраивали засады, нападая на курьеров, – лёгкой рысью трусил полночи по извилистой дороге, мутно белевшей в лунном свете, и, лишь увидев огни лагеря, услышав окрик часового, облегчённо вздохнул, отозвался, спрятал пистолет в ольстру и, пришпорив коня, влетел в лагерь отчаянным храбрецом.
...Долгоруков сперва хотел проучить хана за дерзость, продолжив путь к Балаклаве, но затем раздумал – приказал ехать в Бахчисарай.
В десяти вёрстах от города его встретили два десятка конных татар – почётное охранение, выделенное ханом для знатного гостя. Чернобородый плечистый мурза, не приближаясь к Долгорукову, развернул свой отряд, стал в голову колонны. Далее так и ехали: впереди татары, за ними офицеры свиты, кареты генералов, гусарский полк и казаки.
К полудню показался Бахчисарай.
С вершины горы, на которую неторопливо вползла растянувшаяся колонна, спрятавшийся в долине город был как на ладони – уютный, зелёный, чуть затуманенный дымами очагов, словно нарисованный кистью искусного живописца; можно было разглядеть снующих муравьями по кривым улицам и проулкам людей, медленно тянувшиеся горбатые арбы, запряжённые игрушечными верблюдами и быками.
Татарский мурза подскакал к каретам, размахивая рукой, что-то прокричал Якуб-аге.
– Он говорит, что в каретах спускаться опасно, – перевёл Якуб.
Долгоруков недовольно вылез из кареты.
Генералы тоже вышли.
Денщики засуетились у лошадей, накидывая на гладкие лоснящиеся спины седла, подтягивая подпруги.
Ожидая, когда подведут лошадей, придерживая руками готовые сорваться с голов под порывами ветра шляпы, генералы с интересом разглядывали крымскую столицу. Разглядывали молча, пока Берг с какой-то злой мечтательностью не процедил:
– Поставить здесь один картаульный единорог – через полчаса токмо головешки останутся.
– Место действительно удобное, – согласился князь Голицын.
Грушецкий одобрительно покивал головой.
– Вам бы, господа, только воевать, – буркнул без упрёка Долгоруков. – Ну где там кони?
Денщики, держа лошадей под уздцы, подбежали к генералам, помогли взобраться в сёдла, отскочили в стороны. Долгоруков махнул рукой – мурза и татары стали осторожно спускаться с горы. За ними вытянулись остальные.
У дворца Долгорукова встретили чиновники, провели к залу, у дверей которого ожидал Сагиб-Гирей. В зал все вошли по утверждённому церемониалу, расселись. Сгорбленные слуги молниеносно и бесшумно подали кофе, шербет, конфеты, трубки.
Сагиб-Гирей долго и многословно изливал похвалы её величеству за доставленную вольность, заверял в соблюдении дружбы и союза.
Василий Михайлович не стал упрекать его в поползновенности к Порте, но заметил значительно:
– В бытность мою в здешней земле заморских злодеев, покушавшихся на татарскую вольность, водилось изрядно. Однако победоносным оружием её величества все они были разбиты и изгнаны прочь... Но вот я снова здесь и вижу, что благостный покой кем-то нарушен, а подданные хана в тревоге обитают... Успокойте их!.. Россия оборонит народную вольность!.. Я уничтожу всякого, кто осмелится похитить вашу независимость возвращением в прежнее порабощение Порте!
Веселицкий, присоединившийся к свите у дворца, отдал должное командующему за столь заботливое предупреждение. По заискивающему тону хана, опять начавшего уверять в своей верности подписанному трактату, было видно – он тоже понял, что имел в виду Долгоруков.
Проявляя подобострастное гостеприимство, хан в конце встречи предложил Василию Михайловичу осмотреть город, но тот отказался и, отобедав у Веселицкого, приказал выступать в путь.
Ночевал отряд у речки Бельбек. А утром казачий разъезд, осмотрев уползающую в горы дорогу, доложил, что обозы далее пройти не смогут.
– Какая там дорога? —сетовал пышноусый хорунжий, привыкший к простору степей и чувствовавший себя в горах неуютно и скованно. – Это ж тропа: две лошади с трудом пройдут... И горы крутые больно – кареты не удержим.
Поразмыслив, Долгоруков отправил обоз и оба конных полка по обходной дороге к деревушке Бельбек, у которой стоял отряд подполковника Бока, а сам с генералами и небольшой охраной верхом на лошадях переправился через реку и стал подниматься в гору.
Хорунжий не обманул: дорога действительно была ужасная. Поросшая по обочинам редкими кустами шиповника, игриво светившегося розовыми звёздочками распустившихся цветов, она то круто лезла вверх, то столь же круто опускалась; в некоторых местах шла почти по краю обрыва, захватывая дух людей страхом падения в пропасть и восторгом мощной природной красоты, открывавшейся вокруг. Долгоруков даже подумал, что такие горы, такие виды приучают татар к смелости и гордости.
Сдерживая коня, Василий Михайлович старался ехать подальше от обрыва, покрикивал на офицеров, бравировавших своей храбростью перед генералами и норовивших пустить лошадей едва ли не по самой кромке.
– Мне покойники без надобности, – басовито покрикивал он, грозя кулаком. – Ну как конь оскользнётся?.. Отпевать некому... Умереть от пули – честь, а подохнуть в пропасти – дурь!..
Спустя четыре часа отряд благополучно достиг деташемента генерал-майора Кохиуса. Тот, как и ранее Прозоровский, встретил командующего со всеми почестями: гремели литавры, гулко, с многократным эхом бахали салютующие пушки, выстроенный у невысоких, сложенных из камней укреплений Брянский пехотный полк звучно кричал здравицы. Правда, обед был не такой обильный, как у Прозоровского, но тоже с пушечными залпами.
Выстрелы услышали в Балаклаве, расположенной ниже, в двух вёрстах от лагеря Кохиуса. Через час в горы поднялись с рапортами капитан 1-го ранга Сухотин и капитан 3-го ранга Консберген, корабли которых стояли в бухте.
Разгорячённый вином и торжествами Долгоруков принял рапорты, расцеловал бравых офицеров, потопивших месяц назад несколько турецких судов. Суровые, просоленные ветрами капитаны не привыкли к такому обхождению – смутились. А Берг, подметивший их растерянность, улыбчиво пошутил:
– Топить турок, поди, легче, а?
Все засмеялись.
– Пусть топят! – крикнул Долгоруков. – Дно морское широкое!.. – Он обхватил пальцами серебряный стаканчик, вскинул руку вверх. – Ранее сие море звалось Русским. Теперь оно Чёрное. Но нашими трудами стало и останется вечно русским морем... За российский Черноморский флот! За российское оружие! За её величество! Виват!
Опрокидывая шаткие походные стульчики, все разом вскочили с мест, нестройно, но громко прокричали здравицу и осушили бокалы.
После обеда Долгоруков спустился вниз, в Балаклаву, чтобы осмотреть гавань и стоявшие в ней корабли. Свои подвиги Василий Михайлович вершил в сухопутных баталиях, в морском деле ничего не смыслил, но даже он сообразил, насколько удобна для флота раскинувшаяся перед ним бухта. Окружённая с трёх сторон высокими обрывистыми горами, она длинным, многовёрстным языком уходила в глубь полуострова; узкий пролив, отделяющий бухту от моря, надёжно защищался двумя батареями, поставленными на противоположных берегах. Долгоруков даже подумал досадливо, что не только Керчь и Еникале следовало выторговывать у татар, а и эту бухту.
Стоявший рядом с ним Сухотин, указывая рукой на корабли, давал краткие пояснения, называя тип корабля, число пушек, состав команды. Флотилия была небольшая, но грозная: два 32-пушечных фрегата – Консбергена и самого Сухотина, – четыре 12-пушечных «новоизобретённых» корабля и палубный бот с 20 пушками.
– В нашей силе закрыть побережье от Козлова до Керчи, – горделиво тряхнув головой, закончил пояснения Сухотин.
– Иного не дано! – коротко ответил Долгоруков. – Коль пустим десант на берег – выбивать придётся с кровью.
По настоятельной просьбе капитанов Василий Михайлович посетил оба фрегата, похвалил команды за отвагу и вечером, провожаемый пушечным салютом, вернулся в лагерь Кохиуса.
На рассвете отряд командующего направился к Бельбеку, к подполковнику Боку, где его поджидали гусары и донцы с обозом, а на следующий день весь отряд вошёл в Кезлев.
Некогда шумный и многолюдный город опустел ещё больше: татары, замордованные грабежами русских солдат, как-то незаметно и тихо покинули свои дома; из жителей остались только христиане – греки и армяне.
Долгоруков задерживаться в Кезлеве не стал – устроил короткий смотр гарнизону, переночевал и утром выехал к Перекопу.
Рассеянно поглядывая на безжизненную, душную степь, бугрившуюся круглыми шапками редких скифских курганов, Василий Михайлович погрузился в неторопливые думы.
Эта непродолжительная поездка, носившая главным образом демонстративно-устрашающий характер, оказалась достаточно полезной. Беседы с калгой и ханом, с генералами и офицерами Крымского корпуса, с резидентом Веселицким, подробно обрисовавшим скрытое от глаз, но ощутимое по мелким внешним деталям, а ещё больше по донесениям конфидентов соперничество внутри татарского общества, – всё это убеждало, что за Крым предстоит ещё долгая и трудная борьба. Генерал припомнил образное, но очень точное сравнение, брошенное в разговоре Веселицким.
– Турция подобна солнцу, – говорил статский советник, – а Крым – тень от него. Покамест светит солнце – тень не исчезнет. Оставляя по проектируемому договору султану духовную власть, мы оставляем частицу света, которая будет и впредь порождать тень...
«Прав советник, ох прав, – думал, вздыхая, Долгоруков. – Войско неприятеля можно разбить, флот – потопить. Но как сломать веру?..»
23 июля он вернулся в свой лагерь у Днепра.
А через несколько дней Веселицкий прислал письмо, что Шагин-Гирей сложил с себя должность калги-султана и собирается выехать из Крыма к командующему.
* * *
Июнь – август 1773 г.
Высочайший рескрипт, предписывающий «выудить у неприятеля силой оружия то, чего доселе не могли переговорами достигнуть, а для того с армией или частью её, перешед Дунай, атаковать везира и главную его армию», Румянцев получил ещё в середине марта.
Настойчивость, с которой Екатерина требовала разгромить турок, при иных обстоятельствах была бы похвальна, но долгая и трудная зима подорвала силы Первой армии. Румянцев уже отправил одну реляцию, где честно написал, что «всей вдруг армии выступить в поле не дозволяет ни воздушная суровость, только что тут оканчивающейся зимы, ни неимение подножного корма, которого ещё ни малейше на земле не произрастает, старая же трава для лучшего новой произрастания обыкновенно здесь выжигается, как только сойдёт снег с земли».
Понимая, что военные действия открывать необходимо, он собирался тревожить неприятеля нападениями на посты и небольшие отряды, выжидая удобного времени для нанесения внезапного и сильного удара. Однако вводить в действие всю армию раньше второй половины апреля Пётр Александрович считал преждевременным...
Ему подготовили ведомости о наличии людей, и цифры эти не радовали: на середину марта некомплект полков и батальонов составлял 16 тысяч человек. Из выделенных Военной коллегией для армии 11 тысяч рекрутов прибыло пока только 3 тысячи. К этому следовало добавить трудности со снабжением припасами и довольствием армии, растянутой вдоль Дуная на семьсот пятьдесят вёрст.
...Стараясь выиграть время, Румянцев 25 марта послал Екатерине ещё одну реляцию с подробным изложением своих соображений о предстоящих военных действиях. Он знал, что нарочный офицер обернётся за месяц – срок небольшой, но всё же достаточный, чтобы и погода наладилась, и армия подкрепилась.
Увы, сикурса он не дождался и был вынужден открыть новую кампанию с прежними силами.
Первыми вступили в дело отряды генералов Григория Потёмкина и Отто Вейсмана фон Вейсенштейна. Переправившись на лодках на правый берег Дуная, они совершили несколько внезапных и успешных нападений на турецкие посты.
Турки в долгу не остались – тоже переходили Дунай, пытались найти слабые места в расположении русских дивизий, но были отбиты с большими потерями.
Армия готовилась к предстоящей переправе, и, желая провести её как можно успешнее и быстрее, Румянцев приказал генералам действовать решительнее.
7 июня с двух сторон Потёмкин и Вейсман атаковали местечко Гуробалы, выбили оттуда шеститысячный отряд турок, очистив удобный плацдарм.
За два дня пехотные и конные полки, артиллерия, инженерные части и обозы перебрались через Дунай и подступили к крепости Силистрия, чтобы, взяв её, ударить затем по ставке великого везира в Шумле.
Шедший в авангарде генерал-поручик Алексей Ступишин отправил двухбунчужному Осман-паше письмо с требованием сдать крепость на капитуляцию.
Турок ответил надменным отказом.
– Добром не хотят – возьмём силой! – рассердился Румянцев. – На штурм!
Под жестоким огнём турок гренадерские батальоны устремились к крепости. Гарнизон её сражался яростно и бесстрашно – подошедшая к ретраншементу колонна полковника Фёдора Лукина была изрублена янычарами и отступила, расстроив другую колонну – полковника Николая Языкова, также побежавшую назад. Положение спасли полковники Франц Кличка и Михаил Леонтьев: первый повёл в атаку Кабардинский полк и взял ретраншемент, второй – с Рижским карабинерным полком – ударил в тыл туркам.
Бой разгорелся с новой силой. Штурмовые колонны напористо шли на приступ – турки отчаянно оборонялись. Обе стороны бросали в сражение всё новые и новые резервы, но добиться решающего успеха не могли.
Румянцев, натянув на глаза шляпу, верхом на коне объехал позиции, угрюмо глядя на безуспешные атаки. Следовало остановить колонны, перегруппировать силы, найти слабое место в турецкой обороне и лишь затем возобновить штурм. Он так и сделал.
Но великий везир Муссун-заде тоже не дремал – послал двадцатитысячный корпус Нуман-паши в тыл русским, чтоб отрезать штурмовые батальоны от лагеря.
Румянцев, едва ему доложили о движении турок, мгновенно понял, какую угрозу таит этот неприятельский манёвр, и бросил навстречу паше корпус Вейсмана. Генерал с доблестью выполнил приказ фельдмаршала: остановил турок у деревни Кючук-Кайнарджи и, получив пулю в грудь, погиб.
Угроза окружения миновала, однако облегчения не наступило: люди были измотаны затяжными сражениями, кавалерия, кормленная высохшим тростником, вконец ослабела.
Румянцев собрал генералов на совет, говорил просто и сурово, как говорят о неизбежном:
– Посланные в разведывание дозоры доносят, что дорога к Шумле между гор и ущелий столь тесна, что не токмо артиллерию, но и повозки с провиантом подвозить нет никакой удобности... И воды там не имеется... Пройти большим корпусом к Шумле невозможно, а малым – бессмысленно. Тамошнее везирское войско сильно!.. Ежели мы хотим сохранить армию в надлежащей силе и способности, то штурмовать крепость безрассудно. Из чего я заключаю, что ныне Шумлу мы должны оставить в покое... Можно, конечно, совершить вторичное покушение на Силистрию. Но все видели при атаке ретраншемента, сколь превосходящее число неприятеля остаётся в крепости в полной готовности её оборонять. Судя по нашим утратам у ретраншемента, предстоит и у крепости потерять несколько тысяч. Утрата же такого большого числа людей – даже при полной виктории! – неминуемо доведёт нас до бессилия. Тогда мы не сможем действовать на здешнем берегу и к поданию сикурса на оба фланга – в Валахию и Бессарабию – будем неспособны.
– Выходит, нам здесь дела нет, – сдержанно сказал Потёмкин.
На него презрительно глянул барон Ингельстрем:
– Вы желаете отступить?
Потёмкин сказал хрипло:
– Я желаю воевать турок, барон. Но не желаю быть битым... Силистрия не такой пункт, взятием которого решается вся нынешняя кампания.
– Смерти боитесь?
Вскипеть Потёмкин не успел – Ступишин резко прикрикнул на Ингельстрема:
– Оставьте упрёки, Осип Андреевич!.. Григорий Александрович о другом печаль имеет!
– О чём же? – Ингельстрем задиристо окинул взглядом генералов, ища у них поддержки.
Генералы отмолчались.
А Ступишин с досадой спросил:
– Вы разве не знаете, что лошадей который день фуражируют одним тростником, сухим и несъедобным по застарелости?.. Когда падут все лошади – турки нас голыми руками возьмут.
Ингельстрем смутился, посмотрел на Румянцева.
Тот сидел на раскладном стульчике, ссутулившись, низко опустив голову, безжизненно свесив с колен побуревшие от солнца руки. В череде славных побед, одержанных фельдмаршалом на протяжении всей войны, предстоящее отступление окажется первым. Начиная переправу через Дунай, а затем штурм Силистрии, он предполагал, что будет нелегко, но рассчитывал на удаль русского солдата, свой полководческий дар и Божью милость... Была удаль, был дар – не было удачи... И теперь, усеяв подступы к крепости трупами гренадер и фузилёров, он должен вернуться назад, на левый берег Дуная... Тяжело... Стыдно... Но – нет выхода.
– Перейдя Дунай, – голос Румянцева звучал сдавленно, – не щадя ни трудов, ни жизни, я старался исполнить высочайшую волю, имея под именем армии только небольшой корпус в тринадцать тысяч человек... Мне некого упрекнуть в трусости или нерадивости – все воевали храбро. Однако силы оказались неравными, а трудности, испытанные нами, непредугаданными... Мы брали у неприятеля лагеря, обозы, пушки. Но побить наголову его войско сейчас никак нельзя. Оно в здешних горах и ущельях, лесах и оврагах – везде прибежище находит. А нашей кавалерии и пехоте, тягостному обозу и артиллерии ходить тут затруднительно до крайности. Туркам же, напротив, легко засады делать и внезапно нападать, к сему и было покушение Нуман-паши, доблестью славного Вейсмана отбитое... И что особенно огорчительно – в здешних жителях я не приметил никакой приверженности нашим войскам, несущим им освобождение от турецкого ига. Не было ни одного, кто бы по доброй воле подал нам известие о неприятеле. А те, что попадались в наши руки, больше походили на подосланных со стороны Порты, нежели приносили достоверности. И если... – Румянцев не договорил фразу, замолк.
Он вдруг подумал, что всё сказанное им сейчас смахивает на оправдания неудачника. А каяться ему было не в чем! И, переменив тон, голосом властным и решительным, он приказал:
– Главный корпус отводим за Дунай! Здесь же, при Гуробалах... Корпусу, пришедшему из Бессарабии, идти через Карасудо Тульчи, где переправиться в Измаил!.. Вы, генерал, – он посмотрел на Потёмкина, – уходите с этого берега последним. Проследите, чтоб ни одного человека, какое бы звание он ни имел, здесь не оставить... Решение о переходе на левый берег подпишут все члены военного совета!..
Спустя неделю, 30 июня, будучи уже в лагере при деревушке Жигалей, Румянцев отправил в Петербург реляцию и приватное письмо Екатерине с подробным изъяснением причин возвращения на прежние позиции.
И написал без обиняков, что для успешного продолжения действий на Дунае «утроить надобно армию, ибо толикого числа требует твёрдая нога, которой без того иметь там не можно в рассуждении широты реки, позади остающейся, и трудных проходов, способствующих отрезанию со всех сторон, для прикрытия которых надобно поставить особливые корпуса, не связывая тем руки наступательно действующего, который через леса и горы себе путь сам должен вновь строить...».
Румянцевскую реляцию зачитали на заседании Совета 15 июля при полном молчании присутствующих. Все уже знали, что армия отступила, и теперь слушали подробности сражения под Силистрией. Слушали по-разному: недовольные широкой славой и популярностью полководца – с тайным злорадством, почитатели – с недоумением и тревогой. Но и те и другие понимали, что произошло неприятное, трагическое событие, которое не может не оказать влияние на дальнейший ход кампании.
А потом наступила пауза, столь долгая и тягостная, что Екатерина, желавшая выслушать рассуждения Совета, не сдержалась:
– Посиделки, господа, устроим в другой раз... Извольте говорить.
Первым подал голос Григорий Орлов:
– Когда одна армия делает ретираду – супротивная крепнет духом и идёт вперёд с верой в конечную победу. Возвращение графа на левый берег никаких выгод и преимуществ нам не принесёт – одни только неприятности. Отныне, испытав радостный успех, турки непомерно возгордятся и желаемое заключение мира отдалится ещё более.
Екатерина хмуро посмотрела на Чернышёва.
Захар Григорьевич понял – его черёд говорить.
– Сия печальная весть не должна затуманивать разум, – изрёк он успокоительно. – Война ещё не закончена, и следует обдумать способы, коими мы можем переломить неблагоприятное начало кампании... Графу Румянцеву нелегко теперь войти в прежний порядок оборонительного положения и восстановить в нём ту же твёрдость, которая порушилась переходом через Дунай. Тогда все транспорты и магазины, делившиеся по разным пунктам и довольствовавшие каждую часть войска, сведены были к одному. К тому же в армии остаётся мало старых солдат – полки состоят из слабых рекрутов, которые не навыкли бесстрашно входить в огонь. А вот неприятельское войско состоит, как пишет граф, «из самых лучших и выборных храбрецов».
– У нас нет лишних полков для усиления его армии, – посетовал Вяземский.
– Лишних нет. Но по настоящему положению польских дел можно послать в армию несколько полков из тамошнего корпуса. Графа надобно ободрить, уведомив об увеличении его армии.
– Два-три полка должного усиления не дадут. Недостаток в людях столь велик, что впору говорить о новом рекрутском наборе, – заметил Иван Чернышёв. И тут же смущённо засопел, натолкнувшись на обжигающий взгляд Екатерины.
– Румянцеву надобны воины, а не мужики! – воскликнула она недовольно. – Присылаемые же ему рекруты не составляют подкрепление армии, но, напротив, ослабляют её. Ибо для их обережения и научения он должен отделять знатную часть старых солдат. А полки, будучи в действиях против неприятеля, не имели времени ни выучить, ни обмундировать их. Оттого рекруты по сию пору в своём образе остаются, то есть в серых мужичьих кафтанах...
Тем не менее через месяц о рекрутском наборе заговорили снова, поскольку без значительного увеличения Первой армии помышлять о скорой победе не приходилось.
И снова Екатерина проявила недовольство:
– На моей памяти это будет шестой набор с шестьдесят седьмого года!.. Со всей империи уже до трёхсот тысяч рекрутов было собрано. И снова набирать?!
– Оборона государства того требует, ваше величество, – покорно заметил Захар Чернышёв.
– Оборона-а... Я всякий раз со сжиманием сердца подписываю набор, видя, что оные для пресечения войны по сию пору бесплодны были. И хотя мы неприятелю нанесли много ущерба, но и сами изрядного числа людей лишились.
– На то воля Господа, – развёл руки Чернышёв.
– Воля?! А так ли вы употребили сих людей, чтобы желаемый мир приблизить?.. Я вижу, что кампания повсюду тщетна!.. Из рекрутского набора, предлагаемого ныне, я заключаю, что вы упражняетесь в снабдении армий, но мало думаете о достижении виктории. Дайте же всем командующим такие наставления, что позволят действовать против турок решительно и приведут их к прошению мира!
Екатерина помолчала, затем взяла перо, макнула в чернильницу, быстро подписала указ и жёстко посмотрела Чернышёву в глаза:
– Имейте в виду, граф. Это последний набор, который я даю вам!..
Через неделю Захар Григорьевич огласил на Совете план дальнейших действий: увеличить армию Румянцева до 116 тысяч человек, перейти на правый берег Дуная и окончательно разбить турок; Вторая армия при поддержке флота должна была взять Кинбурн, а если получит усиление от Первой – Очаков.
– Сии действия не могут, однако, препятствовать достижению мира переговорами, – сказал Чернышёв, складывая бумаги. – Но для их успеха надобно отстать от некоторых прежних артикулов.
– Это от каких же? – спросил Орлов.
– Отстать от требования Керчи и Еникале, приобретение которых не даёт преимуществ, коль мы заполучим Кинбурн и Очаков...
* * *
Август – октябрь 1773 г.
Шагин-Гирей покинул Крым в самом конце лета. Покинул тайно, ночью. В свете полной луны, холодно и надменно глядевшей с сажевого неба, трижды сменив лошадей, он стремительно пронёсся к Op-Капу, оставляя позади дорогую и ненавистную землю. И спешил он не из-за боязни покушения – хотел избежать презрительных взглядов татар, не принявших ни его европейский облик, ни его стремление сблизиться с Россией.
В полевом лагере Долгорукова Шатин вёл себя скромно, просительно и всё сокрушался, заискивающе поглядывая на командующего:
– Аллах удалил меня за грехи из отечества, пустив странствовать по чужим углам и дворам... Теперь, видимо, в Петербург лежит моя дорога.
Василий Михайлович пожалел его, сказал снисходительно:
– Учинённое ранее обнадёживание о выборе места пребывания остаётся в силе.
И отправил Шагина в главную квартиру армии – Полтаву, назначив согласно высочайшему повелению содержание в 500 рублей ежедневно.
А потом доложил обо всём в Петербург.
Ответ пришёл не скоро, в середине октября, когда Василий Михайлович вернулся из полевого лагеря в Полтаву.
«Пока дела крымские не переменятся, – писала Екатерина, – он под нашим ближайшим попечением находиться будет. Но между тем, рассуждая с другой стороны, по образу его жизни, а более ещё и по самым удобностям к сношению с Крымом и с ногайскими татарами, и чтоб, следовательно, представляющиеся впредь случаи к перемене настоящей его судьбины могли быть безотлагательно употреблены в его пользу, за пристойное поэтому находим остаться ему до времени на границе».
Долгоруков вызвал Шагин-Гирея к себе в кабинет и разъяснил ошибочность его желания перебраться на жительство в Петербург:
– Удалясь от Крыма, вы неминуемо окажетесь как бы вовсе отторгнувшимся от своего отечества и от всех татар. А сие приведёт не токмо к подкреплению ваших недоброжелателей, но и к погашению памяти о вас в народах, ещё недавно усердно почитавших своего калгу... В вашей же пользе состоит не отставать совершенно от татар! Не отказываться от участвования в их делах! И быть в готовности при первом же случае явиться в Крым, дабы вступить в правление им.
В карих глазах Шагина мелькнула искорка самодовольства: Россия нуждается в нём, а значит, не оставит попыток утвердить его в ханском достоинстве.
* * *
Сентябрь 1773 г.
Отъезд калги из Крыма послужил сигналом к новым волнениям: участились стычки между татарами и русскими солдатами, опять поплыли слухи о скором турецком десанте с таманского побережья.
А на кубанской стороне заволновались ногайские орды, состояние которых в последние месяцы внушало особое опасение.
Стремясь удержать ногайцев от измены, Евдоким Алексеевич Щербинин несколько раз посылал Джан-Мамбет-бею деньги, прозрачно намекал в письмах на жестокие кары, что последуют в случае предательства. Приставу при ордах подполковнику Стремоухову генерал писал коротко и ясно: следить в оба глаза за каждым шагом ордынцев и доносить о малейших поползновениях к Порте.








