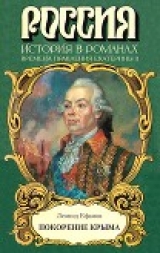
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц)
Оба плана выглядели заманчиво, но осуществление их оказалось невозможно, поскольку проявлявшие в последние дни недовольство испытываемыми лишениями казаки и калмыки дружно взбунтовались и отказались переходить на крымский берег.
– Воды – нет! Корму лошадям – нет! Пропадём там! – кричали казаки, тряся чубами.
Приученные к дисциплине регулярные полки явно не роптали, но по их настроению было видно, что они поддерживают казаков.
Войско действительно страдало от безводья и бескормицы. Нестерпимо палящее солнце выжгло в степи всю траву, а здесь, у посеребрённых солью берегов Сиваша, стелился лишь серый ковыль. У исхудавших лошадей проступили рёбра. Разморённые духотой и зноем, люди стали злыми, непослушными.
Воинственный Штофельн потребовал примерно наказать зачинщиков бунта и провести атаку тет-де-пона силами пехоты.
– Возьмём батарею, – запальчиво говорил он, – у казаков меньше страха будет. А как в Крым войдём – в татарских аулах сыщем и воду, и корм, и провиант.
– Хорошая вода, хорошая трава в этой земле только у рек, – хмуро заметил Берг. – До ближайшей из них – Салгира – вёрст до восьмидесяти. При нашей нынешней слабости – это два-три дня пути. Дойдём ли?.. Особливо ежели татары бросят противу деташемента свою конницу и навяжут нам беспрерывные стычки.
– Дойти-то, видимо, дойдём, – неуверенно сказал Романиус. – Только вот вернёмся ли назад?
– Да уж... – неопределённо протянул Берг. – Мне, господа, конечно, зазорно давать приказ о ретираде. Но чтобы не сгубить весь деташемент – я переступаю через гордыню и поворачиваю полки назад...
В рапорте Румянцеву Берг так объяснил причину невыполнения ордера командующего:
«Степь была выжжена, корму для лошадей достать было не можно, а при том не было иной воды, кроме колодезной гнилой, вонючей и горькой, да и той недоставало для всех...»
А чтобы гнев командующего был не слишком велик, пространно похвалился хорошей добычей, захваченной у ногайцев: 5 тысяч лошадей, 200 верблюдов, 3 тысячи голов скота и 10 тысяч овец.
* * *
Июль – сентябрь 1769 г.
Генерал-аншеф Голицын, встревоженный неожиданной резкостью рескрипта Екатерины и не желая быть посмешищем Петербурга, снова перевёл свою армию через Днестр. Но на этот раз осмелевшие турки не спешили отступать – попытались остановить её движение на подступах к Хотину, атаковав авангард генерал-майора Прозоровского. Тот смело принял бой, отбил наскоки янычар и сипахов, а затем удачной контратакой принудил неприятеля бежать в крепость.
Эта не имеющая большого значения победа тем не менее очень порадовала Голицына. Он похвалил Прозоровского за отвагу и приказал начать обстрел Хотина из орудий. А генералам пояснил:
– Сия бомбардирада производится для единого токмо покушения – не сдастся ли неприятель страха ради?..
В полночь 4 июля, разрывая густой мрак яркими всполохами огня, раскатисто загрохотали армейские пушки, мортиры, единороги, бросая ядра и бомбы на крепостные стены. С бастионов Хотина тотчас ответила турецкая артиллерия, стараясь поразить русские батареи.
Канонада гремела всю ночь, пропитав днестровский воздух кислыми запахами сгоревшего пороха.
А поутру Голицын прекратил обстрел, долго рассматривал в зрительную трубу крепостные башни в поисках белых флагов или каких-либо других признаков готовности турок сложить оружие, затем сказал досадливо:
– Коль страха не имеют для сдачи – попробуем осадой Хотин достать.
Он приказал блокировать крепость с трёх сторон (с четвёртой естественным рубежом окружения стал Днестр), но, опасаясь подкрепления осаждённого гарнизона переправившимся через Дунай войском нового великого везира Али Молдаванжи-паши, послал Румянцеву письмо с прежним требованием двигаться к Бендерам, чтобы угрозой штурма этой стратегически важной крепости оттянуть на себя часть турецких сил.
Покинувший в середине июня Крюковый шанец Румянцев перевёл свой штаб в Святую Елизавету. Сюда и примчался нарочный офицер от Голицына.
Бегло прочитав письмо генерала, Румянцев раздражённо засопел носом, порывисто сунул бумагу в руки сидевшего рядом Долгорукова, прошипел сквозь зубы:
– Вот, князь, полюбопытствуйте, к чему толкает меня Голицын.
И, не дожидаясь ответа, бухнув кулаком по столу, воскликнул огорчённо:
– Господи, ну как же можно так упорствовать в заблуждении?! Ведь даже слепой узреет, что ежели я пойду за Буг, то открою все наши здешние границы от Бендер до Очакова! И путь на Киев открою!
– Князь пишет, будто везир неподвижно стоит между Хотином и Бендерами, – сказал басовито Долгоруков.
– А вот на сие я сомневаюсь полагаться!.. Маскируя нынешним недолгим стоянием своё намереваемое прямое движение, Али-паша может вдруг повернуть на восток и ударить внезапно... Что тогда делать?.. Князь-то ответчиком перед государыней не будет!
– Но, согласитесь, ему нужна подмога. Берг выпустил татар из Крыма, и они, по сведениям конфидентов, держат путь к Хотину.
– С татарами Голицын управится сам, коль будет смел и решителен... А я должен свою службу справить – границы защитить от турок!
Но, подумав, всё же отправил к Бендерам гусарский полк генерал-майора Максима Зорича, а к Очакову – отряд запорожцев.
Тем временем положение под осаждённым Хотином изменилось – к крепости подошёл хан Девлет-Гирей с 25-тысячной татарско-ногайской конницей. Хан попытался прорвать кольцо окружения, но, напоровшись на разящий картечный огонь полевой артиллерии, его атака быстро захлебнулась. Понеся тяжёлые потери, хан увёл конницу на юг, решив дождаться подхода Али Молдаванжи-паши.
– Уж теперь-то злопыхатели прикусят языки! – радовался ободрённый успешным боем Голицын. – Не всё мне за Днестр бегать!
Однако радость его была недолгой. Разбитые татары соединились с конницей великого везира, стоявшего у Рябой Могилы, и спустя три дня – 25 июля – многотысячное войско грозно надвинулось на Первую армию.
Когда посланные на разведывание казаки донесли Голицыну о числе неприятеля, он упал духом и велел немедленно собрать генералов на военный совет.
– Устоять противу такого войска мои полки не смогут, – сказал он блёклым голосом, стараясь не смотреть в глаза генералов – И чтобы сохранить армию, я приказываю снять осаду и отойти за Днестр...
Повторного бесславного отступления князю в Петербурге не простили! На собравшемся 13 августа Совете все без исключения – даже Чернышёв – поносили Голицына за трусость.
– В рассуждении моём, – говорил Никита Иванович Панин с неподдельным волнением, – когда неприятель видит свои земли избавленными от пребывания войск вашего величества, имеет свободные руки и не потерпевшие ещё урона собранные силы, то следует ожидать, что теперь он устремит свои действия против наших собственных границ... И получается, что, решив на Совете вести войну наступательную – и начав оную! – мы станем защищаться.
Екатерина сама понимала, что огромная турецкая армия на месте стоять не будет. Но она чувствовала свою личную вину за то, что, вняв протекции Чернышёва, ошиблась в назначении командующего. Поэтому, высказав резкое неудовольствие метаниями Голицына, предложила заменить его на более решительного генерала.
Оживлённый обмен мнениями враз притих: предложение императрицы явилось для всех неожиданным.
Екатерина первой нарушила тишину.
– Есть ли у нас генералы, способные не дать поблекнуть славе моего оружия, или нет? – с досадой спросила она Чернышёва.
Захар Григорьевич мог назвать несколько имён, но не знал, какое нужно назвать.
А Екатерина снова спросила:
– Не кажется ли вам, граф, что весьма разумные доселе действия Румянцева могут поспособствовать изменению постыдных ретирад?.. Не следует ли ему поручить предводительство Первой армией?
Чернышёв отозвался сразу – уверенно и громко:
– Граф Пётр Александрович хорошо известен своей отвагой и умением, кои он с доблестью проявил в минувшую войну с Пруссией. Я как раз собирался предложить вашему величеству и Совету сего именитого генерала.
Екатерина быстро оглядела собравшихся.
Все, соглашаясь, одобрительно кивали напудренными париками.
– Граф прекрасный воин, прекрасный!
– Конечно, господа, Румянцев!.. Вспомните, как он пруссаков бивал!
– Да-да, граф сможет добиться виктории!
Только Пётр Панин, опять обойдённый вниманием, смолчал, с преувеличенной заботливостью поправляя шёлковый галстук, тугой петлёй обтягивавший жилистую шею.
– Тогда я сегодня же подпишу рескрипт, – сказала Екатерина властно. – А вы, Захар Григорьевич, издайте указ по своей коллегии.
Чернышёв покорно кивнул и тут же спросил:
– А кому отдадим Вторую армию?
Все, кроме Паниных, посмотрели на Екатерину. А Никита Иванович, разглядывая полированные ногти, как бы между прочим бросил вполголоса подсказку:
– У нас в Совете один только вольный генерал остался – Пётр Иванович.
– Но у Румянцева в армии есть князь Долгоруков, – недоумённо возразил Панину Вяземский. – Пристойно ли будет присылать другого генерал-аншефа, когда там собственный имеется?
– Князь Василий Михайлович – боевой генерал, – поспешно сказал Чернышёв, – и вполне сможет заменить графа Румянцева...
Чернышёв и Панины взаимно ненавидели друг друга. И даже недавняя женитьба Петра Ивановича на Марии Вейдель – родной сестре жены Захара Григорьевича – никак не сблизила заклятых недругов.
...Решать должна была Екатерина. Однако она – не говоря ни «да» ни «нет» – спросила вдруг Панина:
– А вы что скажете, граф?
Все полагали, что Панин, как приличествует в подобных случаях, ответит что-нибудь определённое, вручая свою судьбу в милостивые руки государыни. Но прямой, злой Пётр Иванович не стал кривить душой – громко, может быть даже резко, сказал, поднявшись с кресла и склонив голову:
– Я тоже смогу заменить Румянцева, ваше величество!
Все замерли. Стало слышно, как нудно жужжит у канделябра одинокая муха. Из-под белого парика Панина беспокойно выползла капелька пота и, оставляя блестящий след, тягуче потекла по виску.
Екатерина долгим, немигающим взглядом посмотрела на графа, затем коротко изрекла:
– Быть по сему.
Панин, дёрнув кадыком, сглотнул слюну, поклонился ещё раз – медленно, низко, благодарно.
«В конце концов сия армия погоды не делает, – беззлобно подумала Екатерина. – Да и на будущее, видимо, в том же состоянии останется... Зато у Паниных не будет повода злословить, что я потакаю Чернышёву... А коль Петька провалит дело, то и Никишка поутихнет...»
На следующий день были изданы указы Военной коллегии о смене командующих армиями. Голицыну предписывалось вернуться в Петербург, а Румянцеву, оставив за себя до приезда Петра Панина князя Долгорукова, отправляться в Первую армию...
Сразу после заседания Совета Пётр Иванович поехал домой.
В Петербурге с утра моросил дождь, улицы были скучны и малолюдны, и запряжённая четвёркой пегих лошадей, мерно раскачиваясь на мягких рессорах, двухместная карета неторопливо катила по серой мостовой. Склонив голову на плечо, Панин невидящим взглядом смотрел в окошко, по которому тонкой плёнкой струилась вода, размывая очертания проносящихся мимо домов. Он всё ещё размышлял о свершившемся назначении. В душе его неугасимо продолжал тлеть огонёк досады, что не его, а Румянцева поставили предводителем Первой армии. Но, с другой стороны, теперь появилась возможность показать всем злопыхателям свой полководческий дар.
«Ничего, – успокаивал он себя, – ещё неизвестно, как будет у Румянцева... Даст Бог – и мне фортуна улыбнётся...»
За 48 лет жизни Панин успел повидать и пережить многое: 14-летним подростком он начал службу в лейб-гвардии Измайловском полку; спустя год императрица Анна Иоанновна за мелкий проступок в карауле отправила его в армию генерал-фельдмаршала Миниха, и юный Панин штурмовал Перекоп, был в Крыму; затем он участвовал в войне со Швецией; во время Семилетней войны за битву при Цорндорфе получил чин генерал-поручика; позже высочайшим рескриптом был пожалован генерал-аншефом и – вместе с братом Никитой – графским титулом.
Неуживчивость Панина, возмутительная резкость его суждений, откровенная грубость поражали почти всех, кто с ним общался. Казалось, эти скверные качества проникли в самые дальние уголки его души и сердца, вытеснив из них последние остатки добра и отзывчивости. И лишь немногие, хорошо и давно знавшие его люди, видели, что невыносимый характер графа сложился под влиянием горьких семейных трагедий, с завидным постоянством посещавших дом Панина.
Его первая жена Анна Алексеевна, урождённая Татищева, за 16 лет супружества родила Петру Ивановичу 17 детей. Но все они – кто едва появившись на свет, кто немного пожив – умирали. Панин остро переживал смерть детей, со страхом ожидал очередных родов, молил Бога не наказывать его хоть в этот раз, но радость рождения наследника или наследницы опять сменялась горем утраты и трауром.
А в октябре 1764 года последовал новый удар: вконец измотанная бесконечными родами, увядшая, болезненная Анна Алексеевна скоропостижно скончалась. Несколько дней Панин пил, пьяно придирался к слугам, кричал, ругался, бил с размаха крепким кулаком в лицо...
Недавняя женитьба на Марии Вейдель вдохнула в графа новые силы и надежды, размягчила озлобленное сердце, сделала чуть сдержаннее.
(Но он не мог знать, что впереди его ждали прежние испытания: из пяти детей, что родит ему вторая супруга, выживут лишь двое – сын Никита и дочь Софья).
...Карета, качнувшись, остановилась у панинского дома.
Высокий, с пышными бакенбардами лакей торопливо сбежал с крыльца, услужливо прикрыл графа зонтиком.
Оставляя на наборном паркете мокрые следы, Пётр Иванович вошёл в прихожую, скинул на руки лакея плащ и шляпу, резко спросил:
– Где графиня?
– У себя, ваше сиятельство... Изволют читать.
Панин быстро прошёл по чистым, прибранным комнатам, распахнул дверь в спальню.
Сидевшая у большого окна Мария Родионовна, увидев мужа, отложила книгу, встала. Она всё ещё привыкала к трудному характеру супруга и немного побаивалась его.
Пётр Иванович подошёл к ней, поцеловал в щёку и ломким голосом объявил хвастливо:
– С сего дня я главнокомандующий армией! А через неделю мы, сударыня, поедем в Малороссию... Пусть мне принесут вина... В кабинет.
Мария Родионовна не знала, хорошо это или плохо, что они уедут из Петербурга, но, судя по выражению лица мужа, взволнованному, просветлённому, поняла – произошло важное для него событие.
– Хорошо, Пётр Иванович. Я сейчас распоряжусь, – сказала она приятным грудным голосом, беря в руку колокольчик.
Панин вышел из спальни, стремительно прошагал в кабинет, сбросил на пол лежавшие на столе бумаги, развернул большую карту России и, щурясь, пришёптывая, долго разглядывал южные границы империи, на которых теперь придётся повоевать...
Утром к нему явился курьер из Военной коллегии, доставивший бумаги о состоянии Второй армии.
Навалившись грудью на стол, Пётр Иванович придирчиво изучил списки генералов и офицеров, артиллерийские, амуничные, провиантские и прочие ведомости. По бумагам выходило, что полки хорошо укомплектованы и довольствие разное имеют в достатке. Но репортиции, присланные Чернышёвым, были двухмесячной давности и вряд ли отражали нынешнее состояние армии.
Панин вызвал писаря и продиктовал ордер Долгорукову, потребовав от князя сообщить численность полков и их расположение, в каких местах и с какими припасами учреждены магазины, где стоят госпитали и какими средствами располагает армейская казна. Армии же он приказал следовать от Святой Елизаветы к реке Синюхе и там дожидаться его приезда.
Письмо было вручено нарочному офицеру – прапорщику Тобольского полка Никите Осипову.
– Поедешь к князю Долгорукову, – строго сказал Панин. – Отдашь в руки! И поторопи, чтоб не медлил с ответом... Ждать тебя здесь не буду – навстречу мне поедешь. Ступай!..
Спустя три дня, вслед за Осиповым, из Петербурга выехал штаб командующего. Опасаясь, что на почтовых станциях не хватит свежих лошадей, Панин разделил шестьдесят пять штабных упряжек на две части, отправив их с суточным интервалом. А затем занялся составлением своего обоза.
Кроме 10 тысяч рублей «на подъём», ему за счёт казны были выделены одна карета, две коляски и шесть роспусков. Собственный багаж Петра Ивановича был не особенно велик, но Мария Родионовна собиралась так, словно хотела поразить провинциальных модниц обилием и богатством нарядов.
– Не на бал едем, сударыня, – сдержанно попрекнул её граф, глядя, как слуги грузят на роспуски большие сундуки. – На войну поспешаем.
Но оставил всё, что было приготовлено.
Обоз покинул Петербург 23 августа. Панины выехали на следующий день. Меняя на каждой станции уставших лошадей, проезжая за сутки до 130 вёрст, они 1 сентября прибыли в Москву.
Сюда же, в Первопрестольную, примчался с рапортом Долгорукова прапорщик Осипов. Князь доложил командующему, что расположил армию между реками Синюхой и Бугом, а главную квартиру поставил в деревне Добрянке.
Отдохнув в Москве несколько дней, Панины продолжили свой путь в Малороссию.
Почти две недели карета катила по скверным и унылым просёлкам. Ставшее серым и низким небо дохнуло осенней прохладой, засочилось моросящими дождями. Над скошенными побуревшими полями по утрам раскачивались зыбкие туманы, жёлто-красные леса сыпали опадающей листвой. В почерневших деревнях вязко тянуло навозом, хрипели на покосившихся плетнях петухи, вместо дороги – от избы до избы – синеватая грязь.
Утомлённая длинными перегонами, ночлегами в чужих домах, без привычных удобств, Мария Родионовна поскучнела лицом, захандрила, всё чаще прижимала кружевной платочек к слезливым глазам. Ещё в Москве она почувствовала, что понесла от Петра Ивановича своего первенца, и теперь опасалась, что её растрясёт на ухабистых дорогах.
Панин тоже встревожился за судьбу будущего наследника – приказал ехать медленнее, осторожнее. И, участливо поглядывая на жену, успокаивал:
– Ничего, Маша, осталось недолго... Потерпи...
17 сентября в трёх вёрстах от Добрянки командующего встретил дежурный генерал-майор граф Христиан фон Витгенштейн с группой штаб-офицеров.
– Коня! – коротко и хмуро бросил Панин, открыв дверцу.
К карете подвели статного темно-гнедого с подпалинами жеребца.
Пётр Иванович лихо, прямо с каретной ступеньки, уселся в седло, дёрнул поводья.
Последние вёрсты ехали не спеша. Панин почти всю дорогу молчал. Офицеры тихо переговаривались, обсуждая не то командующего, не то его жену, белевшую в каретном оконце любопытствующим лицом.
Вскоре показалась деревня, у которой в две линии выстроились пехотные и кавалерийские полки.
Сутуловатый Панин выпятил грудь колесом, ткнул каблуками упругие караковые бока жеребца, перешёл на рысь. Витгенштейн и офицеры скакали позади, ловко уклоняясь от летевших в них комьев грязи, срывавшихся с копыт коня командующего.
Навстречу Панину выехал Долгоруков, отрапортовал зычным, густым голосом... Ухнули, салютуя, пушки, пустив над полем пепельные плотные дымы... Дружно закричали солдаты.
Панин неторопливо объехал полки, обернулся к Долгорукову, бросил гнусаво:
– Довольно, князь... Устал я с дороги...
* * *
Август – сентябрь 1769 г.
Генерал-аншеф Голицын понимал, что, несмотря на покровительство Екатерины и благожелательное отношение к его персоне со стороны Совета, второе отступление армии вызовет в Петербурге неприятный отзвук и последствия для дальнейшей карьеры могут быть весьма плачевными. Приближалась осень, кампания заканчивалась, а он не только не прибавил славы российскому оружию, но и фактически сорвал утверждённый Советом план военных действий. Этого императрица могла ему не простить. И скорее от отчаяния, чем от храбрости, которой у него всегда недоставало, князь решил предпринять ещё одну, последнюю, попытку взять Хотин.
В середине августа, оставив полевые лагеря, он снова повёл полки к Днестру. Вот только путь к нему теперь оказался сложнее.
Узнав от пеших и конных лазутчиков о движении российской армии, Али-Молдаванжи-паша предусмотрительно переправил часть своего войска на левый берег Днестра, приказав остановить неприятеля на подходе к реке. Дважды – 22 августа и 6 сентября – турки отважно ввязывались в баталии с авангардом генерал-майора Прозоровского, но оба раза были разбиты и, поняв тщетность своих попыток, поспешили вернуться на правый берег. Едва они закончили переправу, как к Днестру подступил Прозоровский, а за ним – главные силы Первой армии.
Ближе к вечеру Голицын вместе с генералами выехал на поросший редким леском пологий берег Днестра, чтобы осмотреть войско Али-паши, густо теснившееся вокруг стен Хотина.
– Оно даже к лучшему, что турки так стоят, – раздумчиво, ни к кому не обращаясь, сказал генерал-поручик Эссен, медленно скользя зрительной трубой по скопищу людей, лошадей, шатров, пушек, повозок. – Надобно подтянуть сюда батареи и всех разом накрыть.
Стоявший рядом Голицын навострил уши, быстро оценил разумность предложения, обещавшего крупный успех. А спустя некоторое время, сделав вид, что он не слышал слов генерала, громко объявил:
– Али-паша плохой предводитель, коль расположил армию в таком беззащитном месте... Посмотрим, что останется от неё завтра.
И приказал скрытно, ночью, поставить напротив турок несколько батарей, чтобы поутру провести бомбардирование.
Артиллерийские команды успели к заходу солнца выбрать удобные позиции, обозначили пути подъезда к ним. После полуночи они аккуратно, стараясь не потревожить шумом покой турок, провели упряжки к назначенным местам и изготовились к стрельбе.
Нарождавшийся день вздрогнул от дружного залпа выдвинутых на берег батарей.
Застигнутые врасплох турки с криками метались между охваченными пламенем шатрами, сражённые горячими осколками, падали на сырую траву, а затем, бросив оружие, пушки, обозы, в панике побежали из лагеря в окрестные леса. Высыпавший на стены гарнизон Хотина, видя беспорядочное отступление везирского войска, также стал покидать крепость.
К наблюдавшему за расстрелом неприятеля Голицыну подлетел на коне неугомонный Прозоровский, воскликнул бодро:
– Прикажете переправляться, ваше сиятельство?
Голицын, как обычно, заосторожничал:
– Разведать надобно, князь... Посмотреть... Пошлите-ка казаков.
Несколько донцов, раздевшись донага, переплыли на другой берег Днестра. Через полтора часа они вернулись, доложили, что неприятель отошёл от крепости на три-четыре версты и разбивает новый лагерь.
– Выдать лазутчикам по чарке водки! – изобразив на лице радость, приказал Голицын. Но армию переправлять не стал, продолжал держать её в бездеятельном ожидании.
– Неужто опять отойдём? – зароптали генералы. – Опять страшится... Стыдно, господа, совестно-то как!..
Утром 9 сентября Голицын снова послал казаков на разведывание.
– Дошли до самых ворот Хотина, ваше сиятельство, – доложили казаки, рассчитывая получить ещё по чарке. – Запертые они.
– Турки где?
– Нету, ваше сиятельство! Ни в крепости, ни в новом лагере нету.
– Откуда про крепость знаете? Ворота же закрыты... Может, затаились где?
– Так ведь ни голоса не слышно, ни скотины... Ушли турки, ваше сиятельство. Точно ушли!
Голицын схватил из рук адъютанта зрительную трубу, вдавил окуляр в глаз, долго рассматривал крепость.
«Никак, и впрямь ушли, – подумал он, всё ещё не веря в удачу. – На стенах пусто. И окрест никого...»
Он повернулся к генерал-поручику Эльмпту:
– Начинайте, граф!.. С Богом!
1-й и 3-й гренадерские полки, слаженно сбежав к теснившимся у берега понтонам и лодкам, стали переправляться через Днестр.
Подошедшие первыми к крепости команды майора Врангеля, капитанов Стакелберга и Гензеля по длинным лестницам взобрались на стены, спустились вниз и, сбив засовы, открыли ворота.
Полки осторожно вошли в крепость.
Растекаясь ручейками по узким улочкам, гренадеры обшарили все казармы, казематы, башни и дома – крепость была пуста. Нашли всего несколько стариков турок, отказавшихся уйти с гарнизоном. Потупив выцветшие глаза, старики сидели рядком у стены мечети, на вопросы офицеров не отвечали.
Потерявший терпение Гензель закатил двум туркам свинцовые оплеухи, пригрозил пыткой.
Сплюнув в пыль тягучую тёмную кровь, один из стариков протянул односложно:
– Яссы...
На следующий день генерал-поручик Эльмпт с гренадерами и тремя карабинерными полками бросился в погоню за войском великого везира, нестройными толпами отступавшего к Яссам.
Но чем закончилось преследование неприятеля, Голицын узнал уже в пути...
Спустя неделю после падения Хотина в армию прибыл новый главнокомандующий – Румянцев. Стараясь сохранить самообладание, побледнев, князь передал ему предводительство и 18 сентября выехал в Петербург. В дороге – в Мценске – его догнал квартирмейстер Ржевский, посланный с донесением в столицу. Он-то и сообщил подавленному Голицыну, что Эльмпт взял Яссы.
22 октября без всякой торжественности Голицын прибыл в Петербург, всё ещё обсуждавший непонятную милость Екатерины – она пожаловала бездарному князю чин генерал-фельдмаршала.
* * *
Сентябрь – октябрь 1769 г.
Отдохнув после утомительного путешествия, Пётр Иванович Панин потребовал подробных и точных докладов о состоянии вверенной ему армии.
Генерал-аншеф Василий Михайлович Долгоруков сбивчиво перечислил состав генералитета, сообщил о количестве пушек и лошадей в полках, о числе людей, отдельно упомянул убитых и умерших от ран. Затем генеральный штаб-доктор Кондрат Даль доложил о количестве больных, какими болезнями они одержаны и в каких госпиталях записаны, генерал-провиантмейстер Николай Колтовский – о наличии в магазинах провианта и фуража, а обер-кригс-комиссар Семён Гурьев – о денежном и вещевом довольствии.
Панин, хмурясь, выслушал доклады, отругал за упущения, но никаких указаний по поводу дальнейших действий генералам не дал – ждал вестей из Петербурга.
Полагая, что в осеннюю распутицу, с каждой неделей приближавшей снежную русскую зиму, кампанию этого года можно считать законченной, он никак не ожидал, что Совет решится на продолжение активных боевых предприятий. Поэтому поразился привезённому 8 октября нарочным офицером приказу о взятии Второй армией турецкой крепости Бендеры.
– Как можно говорить о Бендерах?! – гневно восклицал он, расхаживая по скрипучим половицам лучшей в Добрянке хаты, спешно оборудованной под штаб-квартиру командующего. – При таком состоянии полков я не токмо взять, но и осадить крепость должным образом не могу!.. Захарка намеренно подвигает меня на приступ, чтобы опорочить в глазах армии и света... Скудоумец!
– Ему виднее, – ответил Долгоруков, грустно поглядывая в запотевшее окошко. (Князь был обижен, что после ухода Румянцева армию доверили не ему, а этому выскочке Панину, у которого всего-то достоинств – брат высоко летает. Он не желал служить под командованием Панина и уже подумывал о письме Екатерине с просьбой об увольнении из армии якобы для лечения).
Панин не понял истинного состояния души Долгорукова, посчитал, что тот защищает Чернышёва, и заговорил в своей обычной манере – зло и резко:
– Говорите – виднее? А видит ли он, что армии надобно пройти триста вёрст, прежде чем осадить Бендеры?.. Это по такой-то погоде, по таким-то дорогам!.. И разве ему не ведомо, что осадные орудия могут быть доставлены сюда не ранее декабря?.. Боже мой! Как я могу их сюда переместить? Для тех семи пушек, что в Киеве находятся, потребно до шести сотен лошадей. Где я возьму столько?
Панин, вероятно, говорил бы ещё долго, но осерчавший Долгоруков бесцеремонно оборвал его:
– Так вы будете выполнять приказ?
У графа свирепо запрыгали мешки под глазами. Горящим взором он окинул Долгорукова, медленно и ядовито процедил сквозь зубы:
– Я сам знаю, что мне делать...
Армию он трогать не стал – отправил к Бендерам генерал-майоров Витгенштейна и Лебеля с четырьмя пехотными полками, тремя эскадронами кавалерии и тринадцатью пушками.
– Попытайте счастья, господа, – напутствовал он генералов. – А коль фортуна отвернёт свой лик – возвращайтесь...
Витгенштейн сделал стремительный марш и 13 октября остановился в двенадцати вёрстах от Бендер. Ближе подойти не удалось: турки постоянно нападали на отряд, и генерал, вместо продвижения вперёд, вынужден был отбивать их атаки. Продержавшись несколько дней, Витгенштейн, памятуя слова командующего, отступил...
Объясняя свой отказ осаждать Бендеры, Пётр Иванович написал брату:
«Чтобы назначенные осадной артиллерии тяжёлые орудия везти туда нынешней погодой и на обывательских здешних лошадях – к тому я совершенно моей возможности не нахожу. Ибо сколько осады при достаточном всего учреждении полезны и славны, столь в противность тому они убыточны и неудачны, а по нашему войску особливо будут тем бесславнее, если я ещё и свету покажу новую в них неудачу...»
* * *
Октябрь 1769 г.
Результаты минувшей кампании обеспокоили Екатерину. Победы, одержанные Первой армией, в силу их малой значимости, турок не испугали. Султан Мустафа не утратил воинственности, о мире даже не помышлял и по-прежнему держал у Дуная многотысячное войско.
– Сильного неприятеля придётся долго воевать, – предостерегал Екатерину Никита Иванович Панин. – Рассуждать о военном успехе совершенно рано, ибо неведомо, каким образом пойдут дела будущие... Политика, как известно, имеет матерью силу! И без военного успеха не будет успеха политического...
Захар Чернышёв в политику не лез – предпочитал разговаривать с турками языком пушек. И настоятельно советовал поскорее осадить Бендеры.
– Нам требуется крупная виктория! – убеждал он государыню. – Только так можно поколебать уверенность неприятеля. Да и татар поставим в трудное положение, поскольку им придётся гадать, что мы предпримем после Бендер: поход на Крым или на Царьград. В любом случае они должны будут держать войско в самом Крыму или поблизости от него, чтобы оборонить полуостров от оружия вашего величества...
Григорий Орлов, отдыхая после любовных утех в жаркой постели императрицы, тоже советовал:
– Ты, Като, по частям басурман обдирай... Увидят, что мяса на теле не осталось, – сговорчивей станут...
Все сходились в одном: для скорейшего и победоносного завершения войны необходимо ослабить Порту до такой степени, чтобы даже непримиримому Мустафе стало ясно – продолжать сопротивление бесполезно и гибельно. А таким решающим ослаблением, по мнению Екатерины, могло явиться не взятие Бендер, а лишение Турции её верного и сильного союзника – Крымского ханства.
– По разуменью моему, – говорила она в Совете, – истощить Порту и обезопасить себя мы можем либо заставив крымцев отторгнуться от неё и стать независимым, дружественным к нам государством, либо присоединив силой оружия ханство к России... Второй способ, возможно, более быстр. Но он грозит немалыми политическими издержками. Ибо мы предстанем перед всей просвещённой Европой злобными завоевателями, поработившими несчастный татарский народ...








