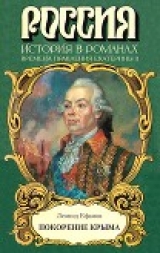
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
Комендант крепости генерал-майор Александр Исаков, которому доложили о приближении татар, поспешил вывести гарнизон на стены и больше часа простоял на бастионе, прислушиваясь к доносившимся снизу приглушённым крикам, вглядываясь в мерцание множества факелов. Батальоны были готовы отразить приступ, но татары почему-то медлили. Изрядно продрогнув, Исаков спустился вниз, вернулся в свой дом, приказав полковнику Корфу прислать за ним в случае начала штурма.
Замерзая на студёном ветру, под лёгкий перезвон колоколов соборной Троицкой церкви российские солдаты провели на стенах всю ночь, так и не сомкнув глаз. Татары же, греясь у жарких костров, мирно отдыхали, радуясь хитрой уловке хана. Лишь под утро вконец иззябший Корф, поняв, что неприятель обвёл его вокруг пальца, оставил на стенах усиленные посты и вместе с батальонами отправился в казармы.
Днём Керим-Гирей объехал крепость, ещё раз внимательно осмотрел бастионы, пересчитал пушки и окончательно отказался от намерения её штурмовать. Подняв своё войско, он обошёл Святую Елизавету и, спалив дотла стоявшие неподалёку сёла Аджамку и Лелековку, устремился дальше.
Жаждавший сражения Корф предложил Исакову послать в погоню гарнизонную кавалерию. Но генерал, округлив глаза, раздражённо замахал руками:
– Ни в коем случае, полковник!.. Мы выведем батальоны в поле, а басурманы повернут и порубят всех!
Отказ звучал убедительно, но по тому тону, каким он был произнесён, Корф понял, что комендант трусит и хочет отсидеться за мощными каменными стенами.
«Батальоны бережёт... Ишь какой заботливый, – пренебрежительно думал полковник, шагая по протоптанной в скрипучем снегу дорожке к казарме. – Кто ж пехотой конницу догоняет? Страте-ег...»
Исаков так и не вышел из крепости. А Керим-Гирей, оставляя за собой пылающие сёла, продолжал беспрепятственно углубляться в Елизаветинскую провинцию...
Отряд Али-аги, насчитывавший до полутысячи сабель, подошёл к Суботицкому на исходе дня, но, чтобы не встревожить обитателей, остановился в версте от него на опушке перелеска. Судя по безмятежному, идиллическому виду села, весть о татарском набеге сюда, видимо, не донеслась. Вытянув в тёмное небо длинные пухлые столбики печных дымов, Суботицкое тихо и мирно засыпало, не подозревая о надвигающейся опасности.
Стремясь не упустить по тёмному времени ни единого человека, Али-ага не стал спешить с нападением. Послав сотню едисанцев в обход села, чтобы перекрыть с тыла протянувшуюся через Суботицкое дорогу, он отвёл отряд в лесок, где, отдыхая, скоротал всю ночь. И лишь в бледном зареве рассвета ворвался в село...
Кузнец Никита, растирая круглыми кулаками слипшиеся глаза, спросонья никак не мог понять, кто это в такую рань ломится в дверь и почему кричат жена и дети. Вчера он хорошо угостился у соседа Григория и теперь, всё ещё хмельной, всклокоченный, сидел, сгорбившись, на лавке, бездумно и мутно глядя на воющую в голос жену, на тихо скуливших в её подол детей. И только когда до него дошёл наконец надрывный вопль «Татары!» – мгновенно протрезвел, вскочил на ноги и, подхватив валявшийся у печи топор, бросился к двери. Скинув засов, он пинком распахнул её – два ногайца, колотившие в дверь кривыми саблями, веером разлетелись в снег – и выскочил за порог.
Налитый ночным морозом воздух обжёг лицо, колко залез под рубаху. Никита судорожно закрутил головой, оглядываясь по сторонам.
Мохнатый седой дым сочно клубился над Сретенской церковкой; кругом, вскидывая вверх огненные языки, чадяще горели хаты селян; повсюду сновали конные и пешие ногайцы – выбрасывали в двери и разбитые окна домашний скарб, выводили связанных пленников, выгоняли из хлевов скотину... Хата соседа Григория уже дымилась, а сам Гришка, в окружении всхлипывающих детей, в одном исподнем валялся у стены со связанными за спиной руками; по доносившимся из амбара стонущим крикам Никита понял, что ногайцы делают с Гришкиной женой.
И лютая, нечеловеческая злоба крепко стиснула сердце кузнеца: представил, что и его мальцы, босые, в рубашонках, будут стоять на снегу, заливаясь слезами, что его Мария изойдёт криком, отбиваясь от мерзких зловонных насильников.
– А-а-а, бусурманы-ы! – взревел Никита, вздымая над головой топор. – Крови захотелось?!
Он прыгнул вперёд и – р-раз! Захрустела, раскалываясь на куски под железным обухом едисанская голова.
Другой едисанец, маленький, шустрый, подскочил сбоку, полоснул кузнеца саблей по руке, но тут же, не успев даже вскрикнуть, упал – Никита обернулся и страшным ударом развалил слабую грудь едисанца, как полено, на две части.
Расправившись с непрошеными гостями, кузнец – руки в крови, глаза бешеные – косолапо полез по сугробам, чтобы освободить Гришку. Но едва сделал несколько шагов, охнул, остановился – невесть откуда свистнувшая злая пуля ударила в широкую спину, расплылась багровым пятном на рубахе. Тяжело дыша, он повернулся, поднял голову.
К плетню, придерживая резвого коня, неторопливо подъехал всадник, в руке которого дымился после выстрела пистолет. Это был Али-ага, видевший смертную схватку кузнеца с едисанцами.
Не чувствуя растекающейся по телу боли, раскачиваясь на слабеющих ногах, Никита медленно шагнул к are.
Али не устрашился – подождал, когда тот подойдёт поближе, и ловким, заученным движением метнул кинжал.
Захлёбываясь хлынувшей из горла кровью, кузнец выронил топор и, насаживая себя на острый клинок, рухнул лицом в снег.
Али-ага равнодушно посмотрел на распростёртое тело гяура, отъехал в сторону, стал не спеша заряжать пистолет.
Погоняя захваченных лошадей, волов, овец, коз, к центру Суботицкого отовсюду подтягивались воины аги; на их запасных лошадях покачивались пленные селяне: взрослые – верхом, дети – в притороченных к сёдлам мешках. Едисанцы, потерявшие всего несколько человек, были довольны: и скотины взяли много, и пленников до сотни.
Разгромив Суботицкое, отряд Али-аги покинул пылающее село и к полудню соединился с главными силами Керим-Гирея...
А войско хана, обременённое обильной добычей, двигалось всё медленнее, становилось трудно управляемым. На упрёки барона Тотта, не раз высказывавшего недовольство этими обстоятельствами, Керим отвечал однообразно, с иронией:
– Можешь перерезать весь скот и пленников...
Но главные неприятности, как оказалось, были ещё впереди. Стремительно накатившие с севера жестокие морозы выкашивали слабеющее ханское войско. В одну из ужасных ночей, когда к двадцатиградусному морозу прибавился тугой ледяной ветер, разметавший все костры, Керим-Гирей враз потерял три тысячи человек и 13 тысяч лошадей.
Утром место ночёвки представляло собой огромное, засыпанное снегом, бугристое кладбище.
Отощавший барон Тотт, замотав побелевшее лицо шерстяным шарфом – только глаза видны, – едва шевеля стылыми непослушными губами, стал умолять хана прекратить этот безумный поход.
– Потери вашей светлости будут такими, что их не восполнят никакие приобретения, – сипел барон.
Керим-Гирей, сдирая с бороды сосульки, злобно накричал на него. Но, понимая, что набег обречён, повернул войско к польской границе...
Посланный Воейковым в Елизаветинскую провинцию секунд-майор Грачёв объехал в марте разорённые земли и составил подробные ведомости понесённых убытков. Позднее – в реляции от 24 апреля – Фёдор Матвеевич, основываясь на подсчётах майора, донесёт Екатерине:
«Взято в плен мужского полу 624, женского 559 душ; порублены, найдены и погребены 100 мужчин, 26 женщин; отогнано рогатого скота 13 567, овец и коз 17 100, лошадей 1557; сожжено 4 церкви, 6 мельниц, 1190 домов, много сена и прочего...»
* * *
Февраль 1769 г.
О татарском нашествии на Елизаветинскую провинцию Румянцев узнал в Киеве, куда прибыл 23 февраля для согласования действий вверенной ему армии с армией Голицына. Предпринять что-либо для отражения набега Пётр Александрович не мог: приказы, разосланные ранее, не соответствовали складывающейся на местах обстановке. Оставалось уповать на смелость и решительность генералов.
– Полноте, граф, – снисходительно успокаивал его Голицын. – Стоит ли так тревожиться?.. Господа генералы, верно, уже разбили супостатов. Только нарочные с пакетами о том приятном известии в пути задерживаются...
Сидя в уютном Киеве, за сотни вёрст от Елизаветинской провинции, имея под рукой несколько полков, Голицын чувствовал себя уверенно и мог пренебрежительно говорить о татарах. Внешне он, конечно, выказывал сочувствие Румянцеву, но в душе его мало заботили волнения генерала. Для Голицына более важной представлялась подготовка Первой армии к предстоящему походу на Хотин. Он даже был рад, что татары ввязались в столь тяжёлый зимний набег, который, несомненно, подорвёт их силы, сделает менее способными к помощи турецким войскам и облегчит выполнение поставленной перед армией задачи.
Но нарочные по-прежнему радостных вестей не привозили. А полученный от Исакова рапорт привёл Румянцева в крайнее возмущение.
– Как мог сей генерал поступить подобным и постыдным для российской армии образом? – оскорблённо говорил он Голицыну. – Ведь под его началом и пехота добрая есть, и конница! И должен был он, прознавши о выступлении неприятеля, встречать его вооружённой силой. И если бы не смог в сражении одержать верх, тогда с приличием ретировался бы под защиту крепостных пушек... Так нет же!.. Струсил!.. И тем самым своими руками отдал многие места на разорение татарам... Всякому видеть можно из его объяснений, что недостойный страх увеличивает в воображении число неприятеля и, напротив, умаляет достоинства собственных сил. Не стыдно ли ему так унижать себя?
– У генерала, видимо, не было должных способов к отражению татар, – лениво заметил Голицын. – Нам тут в Киеве хорошо рассуждать.
Колкость князя не осталась незамеченной.
– А я скажу справедливо: ко всему были и есть способы, – сверкнул глазами Румянцев. – Недостаёт только одной диспозиции. А её-то дать Исаков как раз и не смог!.. Боже мой, позор-то какой!.. Ведь знали, что татары готовятся. Знали, что нападут. И меры приняли к надлежащей обороне. И вот... Всё, всё враз опрокинуто из-за нераспорядительности одного генерала.
Румянцев не стал скрывать своего неудовольствия бездействием Исакова – направил ему ордер, в котором пространно и жёстко отругал за трусость:
«Вы, господин генерал, ответствовать будете за всё то, что вы уже упустили и ещё паче, ежели неприятель беспрепятственно и ко Днепру дойдёт и вы его не отважитесь, сзади или со стороны ударив, приостановить своим оружием, не возлагая того на счёт других командиров, которым, конечно, могут встретиться свои должности, где они, имевши в предмете верность присяге, долг отечеству и собственную честь, не по-вашему стараться станут остановить отвагу неприятеля и показать силу оружия нашего, заменив тем ваши слабости, взбодрившие его...»
Румянцев строго предупредил генерала «исполнить непременно от меня прежде поведённое и по крайности последним поведением загладить начатки, не приносящие вам славы».
Получив такой крутой ордер, Исаков струхнул, что придётся действительно отвечать, и бросил в погоню за татарами двухтысячный отряд лёгкой кавалерии полковника князя Багратиона. А на следующий день вышел из Святой Елизаветы сам, взяв под команду два полка пехоты. Но догнать Керим-Гирея, разумеется, не смог...
Лишь генерал-поручик Авраам Иванович Романиус порадовал Румянцева. Когда двадцатитысячное войско калги-султана, грабя и сжигая всё на своём пути, приблизилось к Бахмуту, командовавший здесь российскими полками Романиус не стал отсиживаться за крепостными стенами, как Исаков, – смело вышел навстречу неприятелю и, разбив в коротких боях несколько отрядов, заставил калгу повернуть к югу.
Однако и Романиус допустил оплошность. Правда, она была не от трусости, а, напротив, от излишнего усердия.
Приняв конницу калги-султана за передовой отряд татарского войска, генерал стал ждать, когда подойдёт ханское войско, и упустил время. Спохватившись, он послал в преследование донских казаков, но было уже поздно – ногайцы ушли далеко.
Попытка кошевого атамана Калнишевского перехватить отступавшего калгу также закончилась неудачей: глубокие, вязкие снега помешали запорожским казакам добраться до неприятеля, двигавшегося по берегу Азовского моря в сторону Крыма.
Часть вторая
ВОЙНА. ОТТОРЖЕНИЕ НОГАЙЦЕВ
(Февраль 1769 г. – декабрь 1770 г.)

Февраль – апрель 1769 г.
Как ни опустошителен был набег татар на российские земли, он не мог определить исход предстоящей войны, ибо она, по сути дела, ещё не начиналась. Да и решаться всё должно было не в коротких столкновениях с татарскими отрядами, а в баталиях с турецкими войсками в Молдавии и Валахии, где их число прибавлялось с каждым месяцем. Даже Крым, представлявший несомненную угрозу для России, при всей важности его стратегического местоположения, не мог стать полем генерального сражения, после которого победившая сторона продиктует поверженной свои условия мира. Главные силы турок были на юго-западе, и дорога к миру пролегала именно в тех землях...
Ещё в минувшем декабре Захар Чернышёв подготовил план действий каждой российской армии на предстоящую весенне-летнюю кампанию и подал его на утверждение Екатерине и Совету. Императрица в делах военных разбиралась плохо, поэтому полностью доверилась опыту и знаниям бывалого генерала – 5 января план был одобрен и в виде высочайших рескриптов разослан командующим армиями.
В большом, на шести листах, рескрипте, полученном Румянцевым, предполагалось, что турки станут действовать с двух сторон: «из Молдавии и от Хотина в Польшу и ещё прямо к границам нашим». Кроме того, допускалась возможность турецкого удара со стороны Кубани с целью захвата и восстановления разорённой ранее крепости Азов. И если армия Голицына предназначалась для противостояния неприятелю «в первом месте», то Румянцеву надлежало защитить новороссийские и киевские границы от угрозы вторжения со стороны Крыма и от Бендер.
Готовя свой план, Чернышёв, разумеется, не знал, какой путь предпочтут турки, но, придерживаясь высказанного на ноябрьском заседании Совета мнения, считал, что они пойдут в Польшу на соединение с барскими конфедератами. Сражаться с ними должен был Голицын. Румянцеву же по плану отводилась роль наблюдателя. Правда, в случае, если князь из-за многочисленности неприятелей не сможет «не только наступать на них, но и стоять противу в занимаемой зимней позиции», то Румянцеву следовало выделить ему в помощь и подкрепление несколько полков из своей армии. Или же начать наступательное движение к Бугу, чтобы оттянуть на себя часть турецких сил и тем самым облегчить положение войска Голицына.
Петру Александровичу план кампании не понравился. Нависнув над расстеленной на столе картой, он приговаривал негромко:
– Ошибается Захар... Недодумал... Конфедераты никогда не доведут дело к тому, чтобы турки большими силами вошли в Польшу. Даже для опровержения наших тамошних приготовлений... Не такие они дураки!.. Их собственный интерес состоит в сохранении от разорения – нашего иль турецкого – отечества своего. А для этого они, конечно, станут понуждать турок все силы наклонить в российские границы и тем не только отвлечь наши войска от Польши, но и восстановить свободу на своей земле... А коли так, то нет нужды ждать, покамест турки ударят. Самим вперёд идти надобно!.. И не на Хотин, как предписано Голицыну, а на Очаков!
Стоявший за спиной командующего адъютант Каульбарс не сдержался – полюбопытствовал осторожно:
– Почему же на Очаков, ваше сиятельство? Он же и в том, и в другом случае в стороне от движения турок останется.
– Хотин своё снабжение от Очакова имеет, – заскользил пальцем по карте Румянцев. – А тот через водную коммуникацию из самого Царьграда всё может получать изобильно и в своё, и в хотинское укрепление. Вот и выходит, что ежели проведём наши действия против Очакова и сможем получить оную крепость, то много выиграем над неприятелем, лишив его возможности черпать всякие запасы для войны. А значит – обессилим Хотин.
– А коль сперва всё-таки на Хотин?
– Взять его, конечно, легче. Но должной защиты своим границам мы тем не сделаем, ибо неприятелю всегда подпорою будет Очаков... Да и Перекоп забывать не стоит...
Ещё в конце января, будучи в Киеве у Голицына, Пётр Александрович написал в Петербург Никите Ивановичу Панину:
«После Очакова Перекоп в моём воображении занимает равное или другое место; и кажутся сии два города такими предметами, что, не овладев оными прежде, нельзя нам возвыситься над неприятелем...»
...О своих раздумьях и предложениях он сообщил также в Военную коллегию, однако Чернышёв оставил план наступления на Хотин в силе.
Захар Григорьевич сам был боевым генералом и понимал, какую опасность представляет Перекоп, готовый в любое время выпустить на просторы Дикого поля многотысячную татарскую конницу. Поэтому он предусмотрел отправить во Вторую армию 20 тысяч волжских калмыков. По первой траве они должны были выступить с мест кочевий, дойти до Дона, а оттуда – подкреплённые несколькими полками и артиллерией из обсервационного корпуса генерал-поручика Берга – провести экспедицию к Сивашу и Перекопу, чтобы «запереть Крым».
Румянцев опять обругал Чернышёва:
– Захаркины уловки славно смотрятся в Петербурге. А здесь лучше вижу я!.. Находясь в безводной степи под палящим солнцем, пехота и калмыки не смогут надолго запереть татар в полуострове. Первейшая мера по защищению наших границ есть только одна – удержать неприятеля страхом потерять свои крепости, которые послужили бы нам ключом к дальнейшим викториям. Перекоп – вот что надо брать!.. И Очаков тоже!
Однако, понимая, что всё уже решено, что Екатерина план кампании не изменит, Румянцев с ещё большей ревностью продолжал укреплять южные рубежи. По его приказу князь Долгоруков должен был подготовить к переправе на правый берег Днепра корпус генерал-поручика Георга фон Далке, в который входили бригада генерал-майора графа Валентина Мусина-Пушкина (Черниговский и Воронежский пехотные полки) и бригада генерал-майора Вильгельма фон Лебеля (Белёвский, Рижский и Елецкий полки). Кроме того, были даны ордера о передвижении на новые места нескольких пехотных и кавалерийских полков, неразумно поставленных генералом Исаковым у польских земель, а самого Исакова, опозорившего себя недостойным поведением во время татарского набега, Пётр Александрович сменил в должности коменданта Святой Елизаветы на фон Лебеля.
Насторожил Румянцева и рапорт Петра Калнишевского, полученный 3 апреля, в котором кошевой атаман сообщил о внезапной смерти Керим-Гирея...
С наступлением весны жаждавшие мести за недавний татарский набег запорожские казаки стали всё чаще проникать в земли Крымского ханства. Скрываясь по оврагам и балкам, один из отрядов подошёл со стороны Буга к Очакову, на рассвете 22 марта подстерёг турецкий разъезд и в короткой схватке разбил его. А раненого командира Бешлей-агу казаки захватили с собой в Сечь.
Калнишевский допросил пленного, который, боясь пытки, скороговоркой подробно рассказал об очаковском гарнизоне, о числе пушек, припасов. И, между прочим, упомянул, что тело хана на днях привезли в Очаков, морем переправили в Кинбурн, а далее – в Крым, чтобы похоронить на родовом кладбище Гиреев в Бахчисарае.
– Погоди, погоди, – удивлённо изогнул бровь Калнишевский. – Крым-Гирей помер?
– И хан, и пять его знатных мурз в одну ночь разом преставились, – охотно пояснил ага. И добавил с доверительно-униженной улыбкой: – Молва их несчастную смерть приписывает отраве...
Новым ханом стал племянник Керим-Гирея – Девлет-Гирей-султан, сын покойного Арслан-Гирей-хана. Завистники распустили в народе слух, будто бы Девлет был лично причастен к скоропостижной смерти дяди, явившейся – а этого никто не скрывал! – суровым отмщением Порты за неудачный набег.
Барон де Тотт, бывший при Керим-Гирее всю зиму, заподозрил в отравлении лекаря Сираполо, потребовал арестовать грека и даже поехал в Константинополь, чтобы добиться суда над ним. Но в серале к его жалобам отнеслись прохладно и оставили без последствий.
Знаки ханской власти, присланные султаном Мустафой, Девлет-Гирей принял без колебаний, как должное.
...Тревога Румянцева основывалась на простом рассуждении: новый хан был обязан показать султану свою верность. И лучшим способом для этого стал бы внезапный удар со стороны Перекопа в тыл Второй армии.
* * *
Апрель – май 1769 г.
Покинув в начале месяца зимние квартиры, полки Первой армии, обременённые длинными обозными колоннами, неторопливо подползли к Днестру. Наладив в удобных местах переправы, они 15 апреля перешли на правый берег и, вспарывая колёсами телег и пушек размокшие после весенних дождей дороги, продолжили путь к Хотину.
Опасаясь, что неприятель попытается частыми атаками задержать движение армии, Голицын выслал вперёд сильный авангард. Но, против его ожидания, турки проявили непонятную робость – уклоняясь от боев, поспешили отступить под защиту крепостной артиллерии. Голицын заподозрил в этом хитрый умысел, насторожился, но остановить марширующие полки не решился.
19 апреля армия подошла к Хотину и три дня простояла в его окрестностях в полном бездействии, поскольку Голицын – всё ещё боясь какой-нибудь западни – ни штурмовать его, ни осадить не отважился. И, оправдывая свою нерешительность, нудно жаловался генералам, тыча зрительной трубой в сторону крепости:
– Перед приступом надобно хорошенько бомбардировать Хотин. Но чем?.. Тяжёлых пушек у нас маловато, а начинать осаду без достатка оных я не могу. Нет-нет, господа, не могу... Следует подождать, когда пушек будет поболее... Я приказываю отойти.
– Как отойти? – крякнул бледнолицый генерал-аншеф Пётр Иванович Олиц, думая, что ослышался. – Ваше сиятельство! Мы оставляем Хотин?!
Голицын втянул голову в плечи, сгорбился, но повторил, воровато пряча глаза:
– Да-да, господа, надобно отойти: А потом вернёмся. Обязательно вернёмся... Когда пушки доставят...
24 апреля полки, проклиная командующего за трусость, переправились на левый берег Днестра...
В Петербурге, с нетерпением ожидавшем первых победных реляций, такие хождения Голицына восприняли с крайним раздражением. Даже Захар Чернышёв, по предложению которого князя назначили главнокомандующим, недоумевал в узком кругу приятелей:
– Что ж он мечется, как заяц? Сие для чести полководца совершенно неприемлемо и постыдно!..
Пётр Панин громогласно, без всякого стеснения злорадствовал, намекая на заседание Совета:
– Ему б на колени перед пашой упасть да слезу выдавить. Глядишь, тот и сдал бы Хотин...
Никита Иванович Панин вёл себя сдержанней своего брата. Но в присутствии императрицы проявил чрезмерную озабоченность, предупреждая, что подобные действия командующего самой сильной и многочисленной армии могут быть истолкованы турками как неготовность России к войне, как её слабость.
– Действительно, слава нашего оружия требует отмены настоящей его позиции! – раздосадованно сверкнув глазами, согласилась Екатерина.
Через несколько дней она подписала рескрипт, в котором строго выговаривала Голицыну:
«Надобно упреждать неприятеля и отнюдь не допускать его до приобретения себе в пользу тех выгод, кои мы сами перед ним выиграть и удобно сохранить можем. Повторяем вам желание наше, и со славою оружия, и с истинной пользой отечества согласное, чтобы вы употребили сие примечание в пользу и к концу кампании, переходя со всей армией на тамошний берег Днестра, пошли прямо на неприятеля и, всячески его притесняя, понуждали не только к поспешному за Дунай возвращению, но и изыскивали случай окончить кампанию с одержанием победы...»
* * *
Май – июнь 1769 г.
В середине благоухающего свежей зеленью мая Румянцев переехал со своим штабом в Крюковый шанец, откуда собирался руководить переправой полков через Днепр, чтобы соединить их у местечка Самбор в сильное войско, способное противостоять туркам и татарам. Однако переправа задерживалась из-за отсутствия крепкого надёжного моста, и главное – в армию, имевшую всего девять пушек, до сих пор не прибыла назначенная артиллерия.
В это же время сюда, в шанец, прискакал нарочный офицер с письмом князя Голицына, сообщившим, что по возвращении своём за Днестр он «не предвидит уже никакой возможности» опять за сию реку перейти. Такой вывод князь объяснил опасностью лишений, связанных с недостатком пропитания для полков, поскольку турки разорили всю Молдавию. А в конце письма попрекнул Румянцева за то, что он не сделал движения к Бендерам, когда Первая армия подходила к Хотину.
Поражённый незаслуженным и вздорным упрёком, Пётр Александрович вскипел:
– Из ума, что ли, выжил старый чёрт?.. Какие Бендеры? Какое движение?.. Знает же, что мои полки ещё не переправились через Днепр... Интриган!.. Постыдную слабость свою мною прикрыть желает!
А когда гнев схлынул, уже более спокойно, но всё ещё с нотками раздражения, поделился своими опасениями с Долгоруковым:
– В сих обстоятельствах я вижу, что армия князя не будет далее отвлекать на себя неприятеля. И коль турки не станут ждать от неё главных действий и ничто их там удерживать не будет – обратятся они всеми силами в наши, князь Василий Михайлович, пределы... Моё положение таково, что в южных открытых степях нельзя во всей обширности найти какого-либо пункта, который по правилам военного искусства можно было бы употребить себе в защиту. Тут нет способов ни маскировать движения полков, ни скрыть от неприятельских глаз количество людей. А заметив их малочисленность, турки, без сомнения, получат взбодрение и станут наглее в своих происках... К тому же знатное число войска я должен употребить на разъезды и посты, держа их от устья реки Синюхи до Сечи, чтоб за неприятелем следить и не дать ему охватить меня с тыла... Вот так, князь! Пространство наше открыто, и я едва ли смогу заслонить его вверенными войсками.
Долгоруков долго молчал, слепо уставившись на расстеленную на столе карту, потом произнёс бесцветным голосом:
– Конфиденты доносят, что везир с армией в сто тысяч переходит Дунай... А ежели ещё татары ударят от Перекопа вдоль Днепра и отделят нас от путей ретирады, то...
– Ну нет! – перебив его, воскликнул Румянцев, слух которого резануло слово «ретирада». – Татар из Крыма мы не выпустим! Не для того я в той стороне корпус Берга и калмык держу!..
И 1 июня он послал генерал-поручику Бергу ордер открыть «прямые военные действия внесением оружия в неприятельские границы и распространить в скором обороте свои поиски переходом удобным через Гнилое море в самой Крым, дабы тем испытать, сколь велики тамо его силы, и, озаботив защитой собственных границ, отвлекти от сей стороны и расстроить его преднамерения...».
К этому времени пехотные полки, обозы и артиллерия уже несколько дней переправлялись через Днепр. Мост, на быстрое сооружение которого рассчитывал поначалу Румянцев, из-за малого количества строительных материалов так и не был сооружён. Грубо обругав инженеров за нерасторопность, Пётр Александрович приказал наладить у Кременчуга и Переволочны паромные переправы.
Подгоняемые обозлёнными офицерами, инженерные команды, поспешая, закончили работу в два дня. Но в составленное расписание перевоза людей и грузов неожиданно вмешалась непогода. Сильный порывистый ветер, погнавший по Днепру бугристые пенные волны, и обильные дожди, лившие почти непрерывно днём и ночью, нарушили все планы. Лишь в первую неделю июня полки перебрались на правый берег и унылыми походными колоннами медленно двинулись по раскисшим дорогам к Самбору.
* * *
Июнь – июль 1769 г.
Покинув 7 июня шумный и пыльный Бахмут, Густав фон Берг ускоренным маршем вёл свой отряд к Кальмиусу и уже через три дня вышел к верховьям реки. Из выделенного в его подчинение указом Военной коллегии обсервационного корпуса генерал-поручик взял в поход четыре полка – Владимирский пехотный, Астраханский драгунский, Бахмутский гусарский и Луганский пикинёрный, 500 донских казаков полковника Горбикова и пять тысяч калмыков Енген-баши. Простояв на Кальмиусе неделю, Берг разделил отряд на две колонны: одну отдал под командование генерал-майору Карлу фон Штофельну, другую – генерал-майору Аврааму Романиусу, отличившемуся в феврале разгромом калги-султана. Обе колонны, проделав десятидневный марш. 27 июня вновь соединились на берегу неширокой плавноводной Берды.
Опасаясь внезапного удара татар – их, по слухам, скопилось у Перекопа до сорока тысяч. – Берг послал в разведывание донцов Горбикова и полтысячи калмыков. Несколько дней, пугая степных птиц, полковник тщетно рыскал по Приазовью и лишь 3 июля – при ночной переправе через реку Молочную – неожиданно столкнулся с едисанцами, перегонявшими свои стада поближе к Крыму.
Оберегая скот, едисанцы сделали попытку задержать переправу казаков, но, потеряв в короткой стычке больше двадцати человек убитыми, отступили и стали отходить к Енишу, бросая уставших лошадей, скот, медленно ползущие отары овец.
Не зная, сколь велика численность ногайцев, Горбиков побоялся их преследовать, остановил свой отряд у Молочной и послал нарочного к Бергу, хлопоча о сикурсе. Генерал прибавил полковнику ещё полторы тысячи калмыков, легко скользивших по холмистой степи. Взбодрившийся Горбиков погнался за едисанцами, но те были уже далеко.
Глотая серую степную пыль, отряд Берга за неделю прошёл путь от Берды до Ениша, небольшого селения, скучно дремавшего на берегу Азовского моря, и 15 июля – так и не встретив татар – вышел к Гнилому морю (Сивашу), парившему под жарким солнцем солено-горьким зловонием.
Как и предписывалось в ордере командующего, Берг намеревался вторгнуться в пределы Крыма у Чонгара, где Сиваш был неглубок, а ширина пролива не превышала четверти версты. Однако, осмотрев издали в зрительную трубу плоский крымский берег, он отказался от задуманного.
На противоположной стороне пролива, у полуразрушенных остатков тет-де-пона и палисада, сооружённых ещё тридцать лет назад генералом Ласси, турки установили батарею в пять пушек, державших под прицелом и все подходы к Чонгару, и само место переправы. Любая попытка вторжения была бы отбита картечным огнём с большими потерями для атакующих. А подавить батарею Берг не мог – имевшиеся в отряде четыре лёгкие полевые пушки не выдержали бы артиллерийской дуэли.
– Надобно в других местах броды искать, – огорчённо изрёк генерал, опустив зрительную трубу. – Здесь нас в Крым малой кровью не пустят.
Романиус предложил отойти вёрст на пять к северу и разведать броды там. У Штофельна замысел был иной: отобрать полсотни охотников из казаков, ближе к рассвету послать их пешим ходом через Чонгар на батарею, чтобы вырезали орудийную прислугу, и при первом всплеске боя бросить на тет-де-пон конных калмыков.








