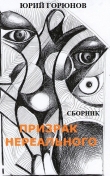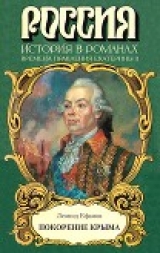
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц)
Одобряя слова соплеменников, мурзы возбуждённо зашумели.
Взбешённый открытым неповиновением, Каплан-Гирей запальчиво кричал на ногайцев, грозил наказать непокорных.
Но мурзы твёрдо стояли на своём:
– Если турецкие войска не поддержат нас – мы сами на русских не пойдём!..
Брошенные турками, едисанцы в январе отправили султану и новому великому везиру Халил-бею письма, в которых просили защищения от русских армий и предупреждали, что иначе «принуждены будем изыскать более удобный способ к свободному проживанию на своих землях, предавшись России, за что Порта и везир будут отвечать перед Аллахом...». Упрёки Каплан-Гирея свидетельствовали о нежелании Порты внять просьбам ногайцев.
...Строптивость мурз была слишком очевидна и опасна, чтобы хан, стремившийся с первых дней показать себя сильным властелином, оставил её без последствий.
– Я заставлю вас исполнить волю султана! – вскричал он, взмахом руки подозвал турецких стражников и наугад ткнул пальцем в толпу.
Турки схватили нескольких мурз, тут же публично высекли плетьми, а двоих, особенно рьяно сопротивлявшихся бесчестью, повесили на ближних деревьях. Остальные мурзы не стали ждать наказания – вскочили на лошадей и ускакали в свои кочевья...
Пленённому Илиасу крепко повезло, что буджаки прибыли в Каушаны спустя два дня после казни. Иначе под горячую руку он тоже угодил бы на виселицу. Перепуганный едисанец передал хану все имевшиеся у него письма и, валяясь в ногах, молил о пощаде:
– Я никому их не показывал... Их никто не видел, кроме вашей светлости.
Каплан презрительно пнул его ногой, велел убираться прочь.
Благодаря хана за милость, Илиас на коленях выполз за дверь, выбежал из дворца, юрко прыгнул в седло и погнал коня подальше от Каушан.
В Яссах он сбивчиво рассказал Бастевику о своих злоключениях, воздал хвалу Аллаху, сохранившему ему жизнь, и замолк, ожидая сочувствия.
Майор, нахмурившись, долго набивал трубку тёмным кнастером, раскурил её от свечи, потом проговорил:
– Ты, видимо, забыл о братьях, что в нашем плену томятся... Мне нет заботы, что буджаки тебя повязали и к хану привели. Изволь отправляться в орду!.. И пока письма не передашь – не возвращайся!
Илиас враз поскучнел лицом, угодливо согнувшись, попятился к выходу, сжимая в руке заготовленные впрок копии.
А Бастевик, не глядя на него, дёрнул из кубка перо и, зло пыхтя трубкой, принялся писать рапорт Веселицкому...
В донесении Петру Панину Веселицкий, тщательно подобрав слова, обрисовал неудачу всех агентов как поразительное невезение. Огорчённый Панин сначала немного побушевал, потом приказал заготовить новые послания – на этот раз Джан-Мамбет-бею и Бахти-Гирей-султану.
Изрядно отклонившись от образца текста, полученного минувшей осенью из Петербурга, Пётр Иванович лаской и угрозами ещё раз изъяснил ногайцам выгоды отторжения от Порты и невыгоды дальнейшего сопротивления такому шагу. Дряхлеющего Джан-Мамбет-бея он напыщенно величал «вашим высокостепенством», а более молодому сыну покойного Керим-Гирея прямо посоветовал «возвести себя с помощью храбрых и славных едисанцев в ханское достоинство» и пообещал всемерную поддержку в борьбе с соперниками.
В заключение своих посланий он припугнул бея и султана, что подходит время летней кампании, в которую одна часть Второй армии назначена якобы для завоевания Крыма, а другая – к покорению ногайцев. Единственной мерой «к отвращению изготовленного на поражение татар мечом и огнём жестокого удара» являлось, разумеется, отторжение ханства от Порты.
Письма были отправлены в середине февраля. И в те же дни, желая весомее подтвердить свои дружеские намерения, Панин распорядился отпустить в орду ещё одну группу пленных едисанцев.
* * *
Январь – февраль 1770 г.
Главные силы Первой армии зимовали на огромном пространстве между Днестром и Бугом, упираясь одним флангом в воевавший в Польше корпус генерал-поручика Ивана фон Веймарна, другим – в правый фланг Второй армии. В Молдавии и Валахии оставался лишь корпус генерал-поручика Христофора фон Штофельна, которому Румянцев предписал удерживать от турецких происков завоёванные летом крепости и земли.
Рассыпанная из-за недостатка припасов по сёлам и местечкам армия – где рота, где батальон – перестала являть собой единую мощную силу, способную быстро организовать отпор неприятелю, если тот попытается наступать. А такая угроза как раз нависла со стороны Журжи и Браилова, где Халил-бей держал значительное число конницы и янычар.
Упреждая великого везира, Румянцев приказал Штофельну атаковать Браилов – опорный пункт турок на Дунае, без овладения которым нельзя было помышлять о прочном утверждении российской ноги в Валахии.
«Завладение сим выгоднейшим постом, – писал в ордере Румянцев, – почитаемо быть всем прочим объектам, которые с покорением означенного города удобнее достигнуть...»
Но озабоченный долгим подвозом припасов по растянутым коммуникациям, Штофельн медлил с выступлением. Халил-бей, напротив, спешно усилил гарнизоны крепостей и двинул десятитысячный отряд на Фокшаны, намереваясь разрезать российский корпус, вытянувшийся от Ясс до Бухареста. Однако достичь задуманного ему не удалось: в начале января молодые и энергичные генерал-майоры Георгий Подгоричани и Григорий Потёмкин дважды разбили отряд, заставив турок ретироваться.
Эти успехи придали уверенность Штофельну. В середине месяца он сделал попытку атаковать Браилов, но, встретив ожесточённое сопротивление гарнизона, снял осаду и стал отходить к Бухаресту, безжалостно выжигая все селения, что попадались на пути. Впрочем, долго сидеть в Бухаресте ему не пришлось: распространившийся слух о выступлении турок из Журжи вынудил генерала вывести полки навстречу неприятелю. Разбив в коротком бою конницу трёхбунчужного Челеби-паши, 4 февраля Штофельн с ходу взял Журжу, потеряв при штурме всего триста человек убитыми и ранеными. А затем продолжил предавать огню волошские сёла, превратив всё пространство по Дунаю от Прута до Ольты – двести пятьдесят вёрст! – в выжженную пустыню.
Необузданная жестокость Штофельна, испепелившего более четырёхсот деревень, вызвала возмущение Екатерины.
– Ну что ж он так злобствует? – хмурясь, вопрошала она на Совете. – Одно дело бить турок и крепости брать... Но зачем палить мужичьи дома?
Совет воспринял её слова равнодушно.
А Чернышёв, пожав плечами, сказал небрежно:
– На войне, ваше величество, разное приходится делать.
Екатерину такое объяснение не удовлетворило – она написала Румянцеву:
«Упражнения господина Штофельна в выжигании города за городом и деревень сотнями, признаюсь, мне весьма неприятны. Мне кажется, что без крайности на такое варварство поступать не должно... Пожалуй, уймите Штофельна. Истребление всех тамошних мест ни ему лавры не принесут, ни нам барыша...»
Румянцеву письмо не понравилось.
– В Петербурге с чрезмерным усердием заботятся о приличии, – ворчливо пожаловался он Петру Ивановичу Олицу. – Там, верно, забыли, что война делается огнём и кровью. Без этого викторий не бывает!.. Целость сожжённых ныне селений послужила бы туркам к утверждению их на берегах Дуная, помогла б производить непрестанные предприятия на разорение Валахии и к утомлению наших войск. Теперь же, благодаря усердию Христофора Фёдоровича, у турок отняты способы перебраться всей армией на сию сторону Дуная, поскольку в опустошённых местах они не отыщут ничего потребного для движения: ни домов, ни лошадей, ни корму скоту, ни пропитания солдатам...
Екатерине же он ответил бесстрастно, не драматизируя положение: не столько обещал унять беспощадного генерала, сколько объяснял необходимость таких его действий,:
«Поистине, настоящая война имеет вид того же варварства, каково обычайно было и нашим предкам, и всем диким народам, почему и трудно соблюдать меры благопристойности против такого неприятеля, которого поступки есть одна лютость и бесчеловечие... Генерал-поручик фон Штофельн, сколь мне самому его свойства известны, конечно бы, не предал огню неприятельские обиталища, если бы был в состоянии обратить оные в свою пользу или же мог бы инако обессилить против себя неприятеля...»
* * *
Март 1770 г.
Ещё не зная о провале агентов «Тайной экспедиции», Екатерина вызвала к себе Никиту Ивановича Панина и с видимой озабоченностью сказала:
– В нынешних условиях, когда граф Пётр Иванович уведомляет о скором начале негоциации с Крымом, нам надобно твёрдо и окончательно решить татарский жребий.
– Мы же уже постановили, что необходимо отторжение Крыма от Порты, ваше величество, – заметил с некоторым удивлением Панин.
– Я о другом, граф... А может, всё-таки присоединить татар к России?.. Будет ли польза от этого нам? Кроме, конечно, разгрома ослабеющей враз Порты и победоносного завершения войны.
Панин уверенно качнул головой:
– Крымские и ногайские народы по их свойству и положению никогда не станут полезными вашему величеству.
– Почему?
– Ну, скажем, по причине их крайней нищеты порядочные подати с орд собираемы быть не могут. Ведь доподлинно известно, что те же ногайцы каждую зиму голодуют. С таких много не возьмёшь!
– Но у них, как говаривал граф Чернышёв, добрая и многочисленная конница имеется. Может, прок будет в использовании её для охранения границ империи?
Панин улыбнулся:
– Граф должен знать, что для защищения границ татары служить не могут, ибо без них никто не нападёт на эти границы.
Екатерина уловила иронию, поняла, что неправильно задала вопрос, подставив под насмешку Чернышёва.
А Панин продолжал рассуждать:
– Нельзя тешить себя получением от Крыма какой-либо важной и существенной выгоды, ибо татарские народы под именем подданства, насколько известно, разумеют лишь право требовать всего в свою пользу. Что же касаемо пользы для других, то сия заключается только в том, что живут эти народы спокойно и не разбойничают... Нельзя оставлять без внимания и то, что с принятием Крымского ханства под непосредственное подданство. Россия неминуемо возбудит против себя общую и основательную зависть и подозрение европейских государей, кои могут увидеть в нём наше стремление бесконечно увеличивать свои владения покорением соседственных держав... Мы, помнится, и раньше высказывали эти опасения. Но теперь, когда негоциация почти началась, благоразумие требует остерегаться от возбуждения таких чувств в Европе.
– Из ваших слов я разумею, что Россия от принятия татар ничего корыстного не приобретёт, – заключила Екатерина.
– Увы, это так.
– Но что мы наживём, коль Крым станет самостоятельным?
– Ну-у, – протянул Панин, – здесь приобретения будут неизмеримы... Сколь мало для пользы империи даст подданство Крыма с принадлежащими ему другими татарскими народами, то, наоборот, чрезвычайно велико может быть приращение её сил, если татары отторгнутся от Порты и составят независимое владение. Ибо одним этим Порта относительно России перестанет морально существовать. Она не сможет впредь беспокоить русские границы, да и непросто будет переводить войска через Дунай, имея сбоку независимых татар...
Панин рассуждал свободно, уверенно, что свидетельствовало о давно сложившемся в его голове представлении о будущем положении Крыма. Екатерина недолюбливала Никиту Ивановича, но при этом всегда отдавала должное его пониманию политических дел, знала, что Иностранная коллегия находится в надёжных руках... «Никитка хоть и своенравен, – говаривала она как-то Григорию Орлову, – но до упадка дело не доведёт...»
– По разуменью моему, – продолжал рассуждать Панин, – мы уже в этой войне можем достать желаемое положение, ежели обратим наш постоянный интерес к свободному кораблеплаванию по Чёрному морю для ободрения и вспомоществования татарам. Надобно объявить им о принятии вашим величеством решения воевать Порту до тех пор, пока она торжественно не признает независимость Крыма.
– Потеря полуострова и ногайцев для Порты равна самоубийству, – заметила Екатерина. – Турки будут упрямиться.
– Если мы хотим получить задуманное – значит, должны твёрдо идти намеченным путём... Даже если для этого потребуется лишняя кампания!
Екатерина, желавшая поскорее закончить войну, недовольно поморщилась.
Панин заметил это и убеждённо добавил:
– Политический, военный и коммерческий барыш будет несравним с теми потерями, что мы понесём в результате затягивания войны.
– В таком случае в негоциации с татарами граф Пётр Иванович должен везде и твёрдо подчёркивать, что мы не требуем от татар быть нашими подданными. Независимость от Порты – вот что надобно Крыму... Но при нашем покровительстве!
– Их следует обнадёжить, что, ежели они нынче отторгнутся от турок и подпишут с нами договор – мы не заключим с Портой мира до тех пор, пока не утвердим с ней договором независимость Крыма, – повторил Панин.
– Хорошо бы решить дело полюбовно.
– Я надеюсь на это, ваше величество... Правда, некоторые наши генералы имеют другое мнение, – выразительно сказал Панин. – Но прибегать к силе оружия позволительно лишь тогда, когда нет возможности вести негоциацию.
Екатерина поняла, что он имел в виду Чернышёва, предлагавшего в минувшем ноябре провести кампанию на Крым.
– Не будем их строго судить, – вяло улыбнулась она. – Генералы на то и существуют, чтобы воевать.
– Надо бы им ещё и думать, – едко бросил Панин.
Фраза прозвучала резковато – Екатерина раздосадованно поджала губы.
– Оставим в покое генералов! – властно взмахнула она рукой. И уже спокойнее добавила: – Я полагаю, что, требуя от Порты признания независимости Крыма и обещая последнему своё покровительство, мы и от татар имеем надобность потребовать взаимности... Свободу Крыма следует охранять!.. А для этого татары должны предоставить нам способы защищать их от любых неприятелей, кои могут посягнуть на земли ханства. Лучшим к тому способом является принятие наших гарнизонов в некоторые крымские крепости – скажем, Перекоп, Арабат, Кафу – и отдача нам одной гавани на берегу, откуда российский флот мог бы препятствовать турецким десантам...
Позднее, читая протокол заседания Совета от 15 марта, она собственноручно напишет на полях: «Не менее нам необходимо иметь в своих руках проход из Азовского в Чёрное море, и для того об нем домогаться надлежит».
– При таком соглашении, естественно, должно быть поставлено условие о свободной сухопутной и водной торговле, – добавил Панин.
– Это приложится само собой!.. Граф Пётр Иванович обещает скорый успех. И коли так произойдёт уже в эту кампанию – надо быстро занять выговоренный порт Азовской флотилией Синявина. Тогда – начав с турками негоциацию – будем прелиминарными пунктами выговаривать проход нескольких наших кораблей из Средиземного в Чёрное море именно в этот порт. Тем самым утвердим действительное основание нашего флота и, следовательно, всего мореплавания на Чёрном море... Я прошу вас, граф, изложить наши размышления на бумаге и зачитать на ближайшем Совете. Пусть господа обсудят и примут решение...
Никто из членов Совета не возражал против изложенных Паниным предложений. Тем более что он упомянул о беседе с императрицей. Споры вызвал вопрос о том, как трактовать независимость татар.
– Независимости добиваются тогда, – рассуждал Григорий Орлов, неторопливо изливая слова из белозубого рта, – когда есть зависимость, от которой хочется избавиться. А желают ли такого избавления крымцы?.. Нет, не желают!.. Они с Портой единоверны, и те указы, что султан присылает для исполнения, не более суровы, чем в любом государстве... И потом, о какой независимости идёт речь? Она ведь тоже бывает разная. Мы в это слово вкладываем своё понимание. А что подумают татары?.. Независимость – это возможность державы самой определять свою политику, выбирать друзей и союзников, объявлять войны недругам. И ежели Крым станет независимым, то он может выбрать себе в друзья опять ту же Порту, а Россию – в недруги.
Никита Иванович Панин, подивившись блестящей основательности и чёткости суждений графа, поспешил пояснить:
– Мы действительно говорим о независимости Крыма. Но эта внешность – очевидная для всех! – будет внутренне подкреплена незаметными ограничениями.
– Какими же?
– Подписанием договора, в коем отдельными артикулами необходимо утвердить обязательства татар: во-первых, об отступлении от Порты навсегда, а во-вторых, о тесном и постоянном союзе Крыма с Россией.
– А что есть договор? – спросил Орлов. И сам же ответил: – Бумажка!.. Татары из всех наших неприятелей всегда были наиопаснейшими и наивреднейшими. И впредь могут быть таковыми, если у них совсем не будут отняты к тому способы... Они и мир-то с Россией заключали только тогда, когда он им был надобен.
– И всякий раз нарушали, – ворчливо вставил Кирилл Разумовский.
Орлов хотел продолжить монолог, но Панин решительно перебил его:
– Вы, граф, видимо, прослушали, когда я изъяснял способы, кои помогут нам держать независимых татар в жёстких руках. Для вас я повторю ещё раз... Размещение наших гарнизонов в тамошних крепостях! Гавань на Чёрном море для флота вице-адмирала Синявина! Крепости, что охраняют пролив между Чёрным и Азовским морями!.. Вот три наиполезнейших способа, что дадут нам твёрдую, но неприметную власть на полуострове.
– Власть? – усмехнулся Орлов.
– Править будет, конечно, хан. Но мы станем присматривать. И коль попробует вернуться под руку Порты или России каверзы чинить – сила всегда подмогой будет для внушения ему благоразумия.
Совет единогласно принял предложенное Паниным решение.
Общий смысл постановления, утверждённого затем Екатериной, был изложен одной фразой:
«Совсем нет нашего намерения иметь сей полуостров и татарские орды к нему принадлежащие в нашем подданстве, а желательно только, чтоб они отторглись от подданства турецкого и остались навсегда в независимости...»
Оно имело огромное значение, так как окончательно определяло основу всех последующих действий России по отношению к Крымскому ханству.
Слово «желательно» было вставлено не только по соображениям дипломатическим. Оно отражало неуверенность Екатерины и Совета, что татары захотят стать независимыми.
* * *
Март – апрель 1770 г.
В конце холодного и дождливого марта из Ясс в Харьков приехал секунд-майор Бастевик. Панин немедленно потребовал его к себе и около получаса расспрашивал, стараясь понять нынешние настроения ногайцев.
– Я, ваше сиятельство, – говорил Бастевик, стоя навытяжку перед командующим, – всё более укрепляюсь во мнении, что главное препятствие для их отторжения – боязнь турецкого возмездия. Орды могут оставить Порту, но у них нет никаких гарантий, что после окончания войны их земли не отойдут назад под власть султана. А тогда, без сомнения, последует жестокое наказание за предательство!
– По военному праву эти земли наши! Турки их не получат, – безапелляционно сказал Панин, как будто именно он, а не Петербург, станет диктовать туркам условия будущего мирного договора.
– Тогда крайне желательно и необходимо скорое вторжение в ногайские пределы и в Крым. Под претекстом невозможности сопротивления доблестному русскому оружию ордам легче будет перейти под протекцию империи. Они уже писали султану, что если сильное турецкое защищение им дано не будет, они примут покровительство России.
– Кампания на Крым нынче не планируется. Уговаривать надо... Хана и прочих знатных.
– Новый хан Каплан очень нелюбим ногайцами за свою строгость и необщительность. Между ним и мурзами сильные разногласия наблюдаются.
– Воевать не хотят?
– Не хотят!.. Хан старается принудить мурз к повиновению, но те его мало празднуют.
– Кто ж у них наиболее почитаем из Гиреев? На кого следует опереться?
– Сейчас – сераскир Бахти, старший сын отравленного Керим-Гирея... Он, как и отец, пользуется широкой поддержкой буджаков и едисанцев и при желании может поднять орды на отторжение. На Бахти надобно ставить!..
Пока Панин ждал, когда агенты «Тайной экспедиции» снюхаются с Бахти-Гиреем, и гадал, как поведёт себя Каплан-Гирей, последний в апреле неожиданно отозвался длинным письмом, явившим собой ответ на тайные послания ногайским мурзам, которые отдал хану, спасая свою жизнь, едисанец Илиас.
Хан писал, что русский начальник пытается убедить его и всё крымское правительство, что Порта склонна к завладению землями других государств, что заключённые ранее договоры она коварно нарушала и что за эту войну должен ответствовать султан Мустафа.
«Изъяснение твоё есть явная и всему народу известная ложь, – попрекал Панина хан, – потому что Порта на твою землю нападения никакого не делала и подданным твоим никакой обиды не нанесла, но вполне сохраняла мирные договоры... Всё оное напрасно на Порту возведено, да и всему народу известно, что от российского двора нарушение мира воспоследовало. Нам Порта обид не оказывала, а вот Россия чинила...»
Далее Каплан-Гирей красочно описал, как султан любит своих друзей, как всячески помогает им, и похвалился, что ему морем и сухим путём ныне доставлено много пушек, пороха и других припасов:
«Когда против вас пойдём, то во всём никакого недостатка иметь не будем».
Панин побагровел, зло ударил ладонью по бумаге:
– Жалкий хвастун!.. На словах грозен, а как дело до баталии дойдёт – посмотрим, что от твоих слов останется!
В письме, конечно, было немало хвастовства, но окончание его однозначно говорило о твёрдом намерении Каплана не идти ни на какие переговоры с русскими и непоколебимо стоять под главенством Порты:
«Объясняешь, что твоя королева желает прежние вольности татарские доставить, но подобные слова тебе писать не должно. Мы сами себя знаем. Мы Портою совершенно во всём довольны и благоденствием наслаждаемся. А в прежние времена, когда мы ещё независимыми от Порты Оттоманской были, какие междоусобные брани и внутри Крымской области беспокойства происходили. Всё это перед светом явно. И поэтому прежние наши обыкновения за лучшее нам представлять какая тебе нужда? Сохрани Аллах, чтобы мы до окончания света от Порты отторгнуться подумали, ибо во всём твоём намерении, кроме пустословия и безрассудства, ничего не заключается».
– Мальчишка!.. Сволочь! – взорвался Панин, обозлённый не столько отказом Каплана, сколько дерзким, оскорбительным тоном письма. – Грязный татарин, возомнивший себя Цезарем!.. Жалкий комедиант!.. Я проучу этого хвастуна! Я поймаю его и посажу на цепь у своей палатки! Как собаку!..
Панин кричал так громко, что всполошил весь дом. И, лишь увидев заглянувшую в кабинет жену, смутившись, осёкся.
Мария Родионовна, переваливаясь с боку на бок, утиной походкой медленно подошла к мужу, мягко положила руку на его плечо, сказала тихо и спокойно:
– Ко сну пора, Пётр Иванович... Бумаги подождут. Утро вечера мудренее.
– И то правда, Маша, – как-то сразу остыл Панин. Он посмотрел на выпирающий живот супруги, осторожно тронул рукой: – Скоро ль разрешишься?
– Доктор сказывал, недели через две, – приятно улыбнулась Мария Родионовна.
– Ну, дай Бог! – перекрестил жену Пётр Иванович и, шаркая стоптанными набок ночными туфлями, пошёл в спальню...
На следующий день он продиктовал Каплан-Гирею суровый ответ, указав, что могучая российская армия приближается к дверям татарского народа, дабы силой принудить хана принять предложение России, если он на то добровольно не соглашается. И подчеркнул, что хан ответит перед судом Божьим за то, что променял обещанное её императорским величеством благосостояние своего народа на личные, корыстолюбивые выгоды от турецкого двора.
Одновременно были составлены письма к татарским мурзам с пересказом текста послания командующего Каплан-Гирею и с прибавлением, что ответ должен быть «от общего народного совета», поскольку взгляды хана противны интересам крымского народа.
Ведение всех татарских дел Панин решил поручить Веселицкому, отправив ему ордер с приказом немедля сдать «Тайную экспедицию» подполковнику Рогожину и, получив тысячу рублей на проезд и пропитание, держать путь в Молдавию, куда в ближайшие дни отправляется сам, чтобы начать подготовку к осаде Бендер.
17 апреля погожим, солнечным днём полки Второй армии выступили с зимних квартир.
В этот же день у Петра Ивановича родился сын. Мария Родионовна благополучно разрешилась крепеньким горластым мальчиком, которого сияющий от счастья отец нарёк Никитой...
А спустя неделю к Хотину, назначенному местом сбора полков, двинулись колонны Первой армии Петра Александровича Румянцева.
* * *
Апрель – май 1770 г.
Вернувшись в Яссы, энергичный Бастевик, продолжая искать выходы на Бахти-Гирея, главные усилия направил на разведывания турецких приготовлений. Обе российские армии продвигались по весенним дорогам к Бендерам и Хотину, и следовало выявить неприятельскую силу, способную противостоять им в эту кампанию. Бастевик подыскивал молдаван, готовых за приличные деньги послужить империи, и, взяв с них клятву, посылал в Бендеры, Бадабаг, Хотин, Каушаны, Очаков...
Скупой на похвалу Панин был весьма доволен старательностью секунд-майора.
– Вот кабы всё так службу несли! – начальственно восклицал он, читая очередной рапорт, в котором Бастевик обстоятельно докладывал, что в Бендерах турецких войск до десяти тысяч наберётся и прибывают всё новые, что хлеба в крепости в достатке, но продают дорого, что в Яссах начинается «моровая язва» – чума – и есть уже умерши.
Последнее замечание насторожило Панина – он отбросил рапорт в сторону и больше к нему не прикасался. А все другие, что будут поступать в канцелярию из тех «моровых» мест, приказал окуривать и мочить в уксусе...
Тем временем Пётр Петрович Веселицкий, спешно завершив дела в Киеве, нагнал командующего у Буга и к Бендерам ехал при его штабе. По приказу Панина он взял в свои руки всю переписку с Бастевиком, касавшуюся отторжения татар и ногайцев.
Бастевик писал, что хан, при котором сейчас находится до тридцати тысяч ногайцев, держит Бахти-Гирея при себе. Все попытки нанять человека для передачи письма сераскиру пока успехом не увенчались: опасаясь за жизнь, никто из молдаван не хочет ехать в ставку хана с таким посланием. Даже за большие деньги.
– Ну ладно, майор не может склонить молдаван. Но где же ваши конфиденты? – недовольно брюзжал Панин, колюче поглядывая из-под мохнатых бровей на Веселицкого. – Я не верю, что в окружении хана не осталось ваших людей.
– Остались, ваше сиятельство... Но предатели.
– Кто?
– Якуб-ага. Он у Каплана нынче личным переводчиком состоит... В своё время был склонен господином майором к тайной переписке, но предал.
– Как?
– Балта!.. Балта – дело его рук.
Панин покривил рот:
– Нам его надёжность сейчас не нужна! Пусть за награждение только письмо передаст...
Веселицкий отправил Бастевику ордер об использовании Якуба для передачи панинского письма Бахти-Гирею.
* * *
Май 1770 г.
Подойдя к Днестру, Первая армия за три дня переправилась у Хотина на правый берег и, круто повернув на юг, двинулась полковыми колоннами к Пруту.
Май выдался пасмурным: частые затяжные ливни лишь изредка брали передышку, сменяясь на день-два по-летнему жарким зноем. Узкие дороги, рассекавшие густеющие свежей зеленью, едва подсохнув, снова превращались в вязкие болота. Теряя в топкой хляби колеса, хрустя ломающимися осями, тяжело ползли обозы и артиллерия. Растянувшиеся на десятки вёрст тылы не позволяли армии идти дальше к берегам Прута. Нужно было остановиться, подождать отставших.
Глядя на косые струи дождя, бившие в окошко молдаванской хаты, Румянцев желчно диктовал писарю реляцию:
– Здешний климат попеременно то дождями обильными, то зноем чрезмерным нас тяготит... В ясные дни, коих немного было, при самом почти солнечном всходе уже жар величайший настаёт, которого на походе солдаты, особливо из новых рекрут, снести не могут. А ночи, напротив, холодом не похожи на летние...
Но не только переменчивая, ненастная погода злила генерала – армия испытывала нужду в людях, лошадях, припасах. К тому же стали поступать сведения об участившихся случаях «моровой язвы». А когда пришло сообщение, что в Яссах умер генерал-поручик Штофельн, Пётр Александрович испытал безмерное огорчение: ему до слёз было жаль, что такой бравый генерал сложил свою голову не на поле брани в геройской баталии, а в беспамятстве, на грязной койке, к которой даже денщики боялись подходить.
И всё же, едва подтянулись обозы, Румянцев снова двинул полки вперёд.
* * *
Июнь 1770 г.
Преодолев за два месяца многовёрстный путь от Днепра до Бендер, 15 июня Вторая армия подошла к крепости.
Турки встретили авангард армии раскатистым грохотом тяжёлых орудий. И хотя пудовые ядра упали с большим недолётом, шедшие в авангарде гусары насторожились, лошадей придержали.
Стоявший на высокой башне Эмин-паша довольно поцокал языком, обернулся к офицерам, приказал атаковать неприятеля.
Увидев выходившую из-за крепости татарскую конницу, высыпавших из ворот янычар, гусары попятились к обозам, которые торопливо строились в вагенбург.
Татары с визгом ринулись вперёд и, скорее всего, смяли бы гусар, но положение спасли пехотные батальоны полковников Цеймерна, Друмантова и Вассермана, остановившие врага сильным ружейным огнём. Тут же через головы солдат полетели шипящие ядра батареи премьер-майора Зембулатова, рванули пламенем и дымом под лошадиными копытами, осыпав татар горячими осколками. Вздыбились, захрапев, раненые кони, сползли с сёдел сражённые всадники; турецкая пехота побежала назад к воротам.
Взбодрившиеся гусары выхватили сабли, посвистывая, помчались вдогонку, но грохот крепостных пушек мигом охладил их пыл – они остановились, опасаясь попасть под огонь...
Панин подъехал к Бендерам на следующий день и первым делом приказал выведать – нет ли в крепости «моровой язвы».
Язвы не было. Об этом поведал пленный турок, которого гусары привели к командующему. Турку вручили ультимативное письмо для Эмин-паши и отпустили.
– Какой глупый гяур! – воскликнул со смехом паша, прочитав ультиматум генерала. – Предлагать мне сдать крепость?.. Да легче вычерпать кувшинами Днестр, чем взять Бендеры!
Ответа Панин, разумеется, не дождался...
Веселицкий сидел на раскладном стульчике, поставленном рядом с палаткой, и просматривал полученные утром бумаги. Известий от Бастевика опять не было. Это начинало беспокоить Петра Петровича... «Уж не случилось ли чего? Третью неделю ни одного рапорта!..»
Поглощённый мрачными мыслями, не обратив внимания на надпись, он вскрыл пакет, в котором оказался рапорт генерал-поручика Эльмпта, адресованный командующему. (В походной канцелярии рапорт генерала по ошибке сунули в пачку писем, предназначавшихся Веселицкому). Пётр Петрович смутился, хотел было свернуть бумагу, но глаза выхватили из текста знакомую фамилию – Бастевик.