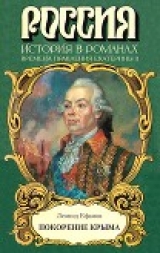
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 37 страниц)
– Болезнь помешала его превосходительству проследить за порядком. Но генерал Тургенев предпримет меры к наказанию виновных. Если таковые обнаружатся... Скажу, однако, откровенно, что подданные хана, отказавшись продавать войску дрова, сено и прочие припасы, в какой-то степени сами способствуют столкновениям и ссорам. Сытый голодного не разумеет!
– Если хозяин не хочет продавать припасы – никто не должен требовать от него торговли.
– А хан?.. Ведь стали же после распоряжений его светлости возить в Кезлев и другие места и дрова и сено. Деньги просят, конечно, немалые – за пуд сена девять копеек! – но возят. Значит, при желании можно жить в мире.
– Татары мира желают, но солдаты обиды чинят, – повторил бей.
– Позволю себе не согласиться, – возразил Веселицкий, решивший, что настал момент перейти в атаку и поумерить разговорчивость бея. – Как раз наоборот! Вчера ко мне прибыл нарочный от генерала Тургенева. Письмо привёз. Хотите почитать?
Пётр Петрович полез в карман синего кафтана, достал жёлтый квадрат бумаги.
– Я по-вашему не понимаю! – резко бросил Джелал-бей, предчувствуя, что русский поверенный приготовил что-то неприятное. – Отдай его нашему переводчику!
Веселицкий спрятал письмо в карман.
– Мы сами его переведём и позднее представим хану. Но кое-что из письма я перескажу... Господин генерал описывает происшествия, случившиеся в первые три дня ноября с вверенными ему войсками. Одного казака, посланного с пакетом из Кафы в Судак, убили из ружья... В пяти вёрстах от деревни Дуванкой, у речки Бельбек, нашим офицером найдены тела двух солдат, у которых отрублены головы, а с одного к тому же содрана кожа... Двадцать вооружённых татар отогнали у Керчи десятки пасущихся лошадей нашего казачьего полка.
Лицо Джелал-бея стало враждебным, взгляд налился ожесточением.
Веселицкий заметил это, но продолжал говорить:
– Третьего ноября разведка пехотного полка недалеко от Кафы наскочила на татар, которые выкапывали тела русских солдат, померших от моровой язвы. Двоих татар арестовали, и они показали на допросе, что выкапывали трупы, поскольку магометанский закон запрещает хоронить в их земле христиан... И все эти кровавые, противные благородству деяния совершены всего за три дня! Можете ли вы привести подобные бесчестные поступки со стороны наших солдат?
– Когда надо будет – приведём ещё больше, – процедил сквозь зубы бей. – Но пора заканчивать эти никчёмные разговоры!
Он сделал знак одному из чиновников.
Тот достал несколько свитков.
– Послушай, – коротко обронил бей, мельком глянув на Веселицкого.
Чиновник стал читать бумаги вслух.
Это были письма хана. В первом сообщалось об отторжении Крыма от Порты; в другом – просительном – содержалась просьба не требовать уступки городов; в третьем – к находившемуся в Петербурге калге Шагин-Гирею – говорилось о поднесении помянутых писем её императорскому величеству; в последнем письме – к Долгорукову – повторялась просьба о нетребовании крепостей.
– Отправьте их с вашим офицером, – сказал Джелал-бей, когда чиновник закончил чтение.
– Зачем? – поднял брови Веселицкий.
– Для безопасности и доверенности.
– Стоит ли так торопиться?
– А к чему медлить?
– Негоциации для того и существуют, чтобы идти на взаимные уступки, – примирительно произнёс Веселицкий, не теряя надежду уговорить татар. – Надобно найти приемлемые решения, которые будут выгодны и полезны как России, так и Крыму.
– Желание нашего народа тебе известно... А ваша уступка может состоять только в одном – нетребовании наших городов.
– А ваша?
– В согласии освободить русскую армию от тягот охранения крымских земель.
«Хороша уступка!.. – мысленно воскликнул Веселицкий. – Раздевают средь бела дня да ещё и радоваться заставляют...»
Он обвёл ледяным взглядом всех чиновников, сидевших вдоль стен зала и внимавших словам бея, и громко, даже слишком громко для формальных переговоров, сказал:
– Такого упорства от таких благоразумных и знаменитых чинов крымского правительства я не ожидал. Но коль мои слова и советы уважением не пользуются – делайте что хотите. Только я предупреждаю: потом каяться станете, но ошибку свою уже не поправите!
Веселицкий порывисто встал, кивнул бею и зашагал к двери...
Позднее, докладывая Долгорукову о ходе переговоров, он напишет:
«Если бы у меня знатная денежная сумма была, то все затруднения, преткновения и упорства, и самый пункт веры был бы преодолён и попран, ибо этот народ по корыстолюбию своему в пословицу ввёл, что деньги – суть вещи, дела совершающие. А без денег трудно обходиться с ними, особенно с духовными их чинами, которые к деньгам более других падки и лакомы».
Пётр Петрович был уверен, что «когда для пользы империи те три крепости неотменно надобны, то для чего бы полмиллиона, а хотя бы и миллион на сие важное и полезное приобретение не употребить, ибо коммерция скоро бы сие иждивение наградила...».
* * *
Октябрь – ноябрь 1771 г.
Татарская депутация во главе с калгой Шагин-Гиреем прибыла в Петербург в конце октября. Никита Иванович Панин прислал к калге чиновника Иностранной коллегии Александра Пиния обговорить вопросы, связанные с представлением депутации её величеству. Однако обычная дипломатическая процедура неожиданно превратилась в трудноразрешимую проблему – Шатин-Гирей потребовал, чтобы Панин первый нанёс ему визит.
Услышав такое, Пиний изумлённо вытянул лицо, возразил холодно:
– Эта просьба не может быть исполнена... Прибывающие в Санкт-Петербург министры, как гости, должны представляться первыми.
– Российская империя сделала татарский народ вольным, и мы надеемся, что она не унизит его, не сделает презренным, а, напротив, возвысит, – задиристо сказал кал га. – И просьба моя исходит от желания не иметь сравнения с министрами других держав... Я не министр!.. И отправлен сюда ни от хана, ни от татарского народа... Я приехал добровольно, чтобы сильнее распространить и крепче утвердить нашу дружбу.
Пиний недоумённо посмотрел на калгу, говорившего какие-то странные суждения, и терпеливо пояснил:
– Пример других министров представляется вам единственно в доказательство наблюдаемого в империи правила. Оно наблюдается с министрами, представляющими персоны их государей. И поэтому оно не может нанести вашей чести ни малейшего вреда.
– Я происхожу из древнего поколения Чингисхана! В Блистательной Порте великий везир первым делает ханам посещение.
– Ханам делает, но не калге, – возразил Пиний. – Я много лет прожил в Стамбуле – тамошние порядки знаю.
– Калге не делает, – скучно согласился Шагин, не ожидавший такого замечания. – Но трёхбунчужные паши делают.
– Между трёхбунчужным пашой и великим везиром большая разница, – покачал головой Пиний. – А первенствующий её императорского величества министр граф Панин находится в совершенно одинаковом положении с последним.
Шагин-Гирей проявил невиданное для гостя упорство.
– Я признаю правоту ваших слов, однако прошу сделать мне две уступки, – сказал он настойчиво.
– Что вы хотите?
– Чтобы граф Панин всё же сделал визит первым... И чтобы меня не принуждали снять шапку во время аудиенции у её величества.
– Это совершенно невозможно, – строго сказал Пиний. – И этого не будет.
Шагин вскочил со стула, вскричал:
– В моём кармане лежит и в моей силе состоит всё то, что касается татарского народа! В вашей воле делать поступки, желательные вам. Но я прошу, чтобы эта честь мне была оказана!..
Когда Пиний доложил Панину о содержании беседы, о неуступчивости калги-султана, щёки Никиты Ивановича заалели праведным гневом:
– Этот мальчишка ведёт себя совершенно недостойно и дерзко. Он, видимо, забыл, куда приехал и в каком положении находится. Я поставлю этого петуха на место!
Шагин-Гирею было направлено резкое письмо:
«Российский императорский двор с удивлением примечает упрямство калги-султана в исполнении обязанностей характера его по церемониалу и обрядам, всегда и непременно наблюдаемым при высочайшем дворе. Гость по справедливости и по пристойности обязан применяться и следовать обыкновениям двора, при котором он находится, а не двор его желаниям или прихотям. Всё делаемое министром или послом других держав относится к их государям, лицо которых они представляют. Калга-султан принимается в таком же характере и получит честь быть допущенным на аудиенцию её императорского величества как посланник брата своего, хана крымского, так как верховного правителя татарской области, имеющий от его имени просить о подтверждении в этом достоинстве, которое он получил хотя и по добровольному всего татарского народа избранию, однако пособием её императорского величества. Итак, он, калга-султан, может почитать себя только посланником хана, брата своего. А если бы не так было и приехал он не в таком значении, то здешний двор не мог бы его иначе принять как частного человека с уважением только к его происхождению».
Категоричный тон письма не оставлял сомнений, что требования Шагин-Гирея неуместны и выполнять их никто не собирается.
Калга смирил гордыню: согласился нанести визит первым. Но снимать шапку наотрез отказался.
– Этот поступок нанесёт мне крайнее бесславие на все остальные дни жизни, – горячась, заявил Шагин Пинию. – Наш закон не позволяет этого делать!.. И коль меня к такому позорному делу приневолят, то прошу тогда пожаловать мне содержание и позволить остаться навсегда в России. Ибо в отечество своё возвратиться я уже не смогу, поскольку буду подвергнут там всеобщему порицанию и ругательству.
То же он повторил при встрече с Паниным, состоявшейся на следующий день.
Упорство калги в церемониальном вопросе – снимать шапку или не снимать – затягивало представление татарской депутации Екатерине. Панин был вынужден доложить об этом на заседании Совета.
Принимая во внимание популярность Шагана среди ногайских орд, его заслуги в отторжении Крыма от Порты и виды, которые Россия имела на него, Совет пошёл на уступку, одобренную Екатериной:
«Позволить калге не снимать шапку и послать ему шапку в подарок с таким объявлением: её императорское величество, освободя татарские народы от зависимости Порты Оттоманской и признавая их вольными и ни от кого, кроме единого Бога, не зависимыми, изволит жаловать им при дворе своём по особливому своему благоволению и милости тот самый церемониал, который употребителен относительно других магометанских областей, то есть Порты Оттоманской и Персидского государства. И по этой причине жалует калге шапку, позволяя в то же время и всем вообще татарам являться отныне везде с покрытыми головами, дабы они в новом своём состоянии с другими магометанскими нациями пользовались совершенным равенством, тогда как прежде турками только унижаемы были».
Такое решение Совета устранило последнее препятствие, мешавшее пригласить Шагина на аудиенцию.
Утром к резиденции калги подкатили пять карет, сопровождаемые конными гвардейцами-рейтарами. Вышедшего из дворцовой кареты статского советника Бакунина встретили люди из свиты Шагина, проводили в дом. Вздрагивая локонами длинного, нависавшего на плечи парика, Бакунин напыщенно объявил, что прислан от её императорского величества для препровождения татарских депутатов на аудиенцию.
Спустя час процессия двинулась по улицам Петербурга, направляясь к Зимнему дворцу. Впереди, верхом на рослых каурых жеребцах, сжимая в руках обнажённые палаши, скакали семь рейтаров. За ними вытянулись запряжённые цугом кареты: три министерские, в которых разместились депутаты, и две дворцовые – в одной сидел Исмаил-ага, державший в руках бархатную подушку с лежавшей на ней ханской грамотой, в другой – Бакунин, Шагин-Гирей, переводчики. Замыкали процессию несколько стражников калги и рейтары.
Во дворце депутацию встретил церемониального департамента надворный советник Решетов, провёл в комнату для ожидания, а затем, по сигналу, он и Бакунин взяли калгу под руки и ввели в зал.
Вслед за калгой вошли Исмаил-ага, Азамет-ага, Мустафа-ага, другие свитские люди.
Сверкающая роскошь зала ослепила калгу, а многочисленные генералы и министры в богатых, с золотым и серебряным шитьём мундирах и кафтанах, с лентами и орденами смутили сердце. Под любопытствующими взглядами придворных он как-то сжался, стал меньше, худее; неуклюже отвесив поклон у двери, на негнущихся ногах дошёл до середины зала, ещё раз поклонился и, приблизившись к трону, на котором величаво восседала Екатерина, снова склонил голову.
Шедший за калгой Исмаил-ага поднёс ему грамоту и попятился к двери, где стояли остальные депутаты.
Дерзкий, упрямый Шагин, сам того не ожидая, был настолько взволнован, что читал грамоту долго, запинаясь, повторяя слова. (От внимательного взгляда Екатерины не ускользнула лёгкая дрожь тонких, унизанных перстнями пальцев калги, державших бумажный свиток).
Когда Бакунин закончил чтение русского перевода, Шагин сделал несколько шагов к трону и поднёс грамоту Екатерине.
Она выдержала недолгую паузу, в течение которой калга стоял чуть согнувшись с протянутой рукой, затем кивнула вице-канцлеру Голицыну.
Тот принял грамоту, уложил её на покрытый бархатом столик и ровным басовитым голосом объявил:
– Её императорское величество признает его светлость крымского хана Сагиб-Гирея законно избранным и независимым властелином и обещает его и татарские народы защищать всеми силами. Для заключения с ханом и правительством торжественного трактата о союзе и вечной дружбе её императорское величество отправит в Крым своего полномочного посла господина генерал-поручика Щербинина.
Когда надворный советник Крутов перевёл Шагин-Гирею сказанное вице-канцлером, он снова поклонился. Потом Решетов и Бакунин вывели его из зала, проводили к карете.
Тем же порядком, в сопровождении рейтар, татарская депутация вернулась в свою резиденцию.
* * *
Ноябрь – декабрь 1771 г.
Неудачная беседа с Джелал-беем оставила у Веселицкого неприятный осадок. Он чувствовал, что все отговорки татар, их ссылки на Коран – это внешнее проявление более глубоких замыслов... «Но каких? – спрашивал себя Пётр Петрович. – Почему они так упорствуют?.. На что надеются?..» Ответов он не находил, хотя склонялся к тому, что многие мурзы, видимо, рассчитывали получить за своё согласие большие деньги.
Переводчик Семён Дементьев, прибывший наконец-то в Бахчисарай, посоветовал не отчаиваться и посильнее надавить на хана и его фаворитов.
– Слово бея, других Ширинов, конечно, весомо, – флегматично рассуждал Дементьев. – Однако окончательное решение принимает всё же самовластный государь Крыма – Сагиб-Гирей. Так требует закон... Джелал-бей особа, разумеется, влиятельная. Но даже самые захудалые и слабые государи не любят быть игрушкой в чужих руках. При наружном расположении и послушании они используют любой удобный случай, чтобы показать свою власть и волю. И я не думаю, что Сагиб явит нам исключение. Надобно хорошенько присмотреться к его фаворитам и через них – в пику бею! – повлиять на решение хана...
Остаток ноября и весь декабрь Веселицкий посвятил укреплению прежних и завязыванию новых знакомств, выбирая в приятели людей влиятельных, способных оказать нажим на хана. Он побывал в гостях у хан-агасы Багадыр-аги, дефтердара Казы-Азамет-аги, здешнего каймакама Ислям-аги, близко сошёлся с племянником Сагиб-Гирея нурраддин-султаном Батыр-Гиреем, с кадиаскером Фейсуллах-эфенди, защитившим вместе с Шагин-Гиреем в начале года переводчика Маврова, познакомился даже с Олу-хани, восьмидесятилетней старшей сестрой Сагиб-Гирея, очень почитаемой всеми.
В непринуждённых беседах Пётр Петрович осторожно прощупывал новых знакомых, стараясь понять влияние дворцовой и прочей крымской знати на принятие важнейших решений. Теперь у него не было сомнений, что многие Ширины и значительная часть духовенства на уступку крепостей не пойдут. Однако не менее знатные и влиятельные нурраддин, кадиаскер, ахтаджи-бей проявили в своих речах некоторую податливость и вроде бы связывали будущее Крыма с российской протекцией. Именно их можно было использовать для склонения хана к уступке. Но для этого следовало умаслить фаворитов деньгами и подарками, а они, к сожалению Веселицкого, заканчивались...
Конец декабря выдался в Крыму непогожим: целыми днями моросил мелкий, словно пыль, дождь. На грязных улицах Бахчисарая расплылись огромные лужи. Сырой воздух пропитался острыми запахами дыма, навоза, прелого сена.
Зябко поводя плечами, Веселицкий грелся у очага, наблюдая, как слуга украшает мохнатую сосновую ветвь простенькими игрушками, вырезанными из цветной бумаги. Дементьев с прапорщиком Белухой, раздирая рты тягучими зевками, скучно перекидывались в карты. За стеной, в соседней комнате, кто-то из челяди, хрипло кашляя и причитая, звенел посудой, готовя ужин.
Заскрипевшая ржавыми петлями дверь впустила в дом караульного рейтара. Он стряхнул на дощатый пол мокрую шляпу и простуженно просипел:
– Там татарин... Просит принять.
– Кто таков? – не повернув головы, спросил Веселицкий.
– Да этот... как его... ахчибей. Говорит, что дело важное имеет.
Абдувелли-ага пришёл с ханским переводчиком Идрис-агой. Поприветствовав всех, он попросил Веселицкого о беседе с глазу на глаз; когда Дементьев, Донцов и слуга вышли, плотно закрыл за ними дверь, присел к столу, сказал вполголоса:
– Утром меня вызвал хан, допустил к руке и поведал, что хочет доверить мне тайну, которую я должен донести до вас. Но остерёг, чтобы она оставалась в эти четырёх стенах. Иначе я жизнью отвечу. Вот почему я попросил удалить лишних людей.
У Веселицкого слабой искоркой надежды ёкнуло сердце: «Неужто даст согласие на крепости?..» А вслух спросил, сохраняя на лице равнодушие:
– Что ж это за тайна, столь строго оберегаемая?
Абдувелли оглянулся на дверь – не подслушивает ли кто? – и так же вполголоса продолжил:
– Тайна такова... По давней летописи, когда татарская область была ещё вольной и независимой и на древнейших своих основаниях управлялась ханами гирейской породы, а с русскими государями пребывала в крепчайшей дружбе, почти ежегодно – в знак подтверждения оной! – от русских государей татарским ханам присылались подарки. И после присоединения Крыма к Порте возведённые от неё в ханы принцы крови продолжали в мирное время пользоваться таковыми правами. Нынешний хан Сагиб-Гирей отторгнулся от Порты, объявил себя российским приятелем и верным союзником и намедни в своём ханском достоинстве вашей королевой был подтверждён. Но он беспокоится: почему королева до сих пор не прислала регалии, подтверждавшие перед народом его ханство? И почему не пожаловала какой-либо денежной суммы?.. Хан просит прознать причины сей медлительности.
Слова аги разочаровали Веселицкого: он ошибся в своих предположениях. А услышав о подарках, мысленно ругнулся: «Дань мы вам, сволочам, действительно платили когда-то. Токмо теперь времена другие!..» И, подавляя растущее раздражение, сказал выразительно:
– Уважая доверенную мне тайну и внимая просьбе его светлости, я объясню помянутую медлительность. Но прежде хочу сослаться на слова, сказанные мне на прежних аудиенциях. Помните?.. Воля его светлости и всего народа состоит в оставлении просимых нами крепостей под крымским владычеством... Я предупреждал, что потом каяться станете! Теперь моё предсказание сбываться стало... Вы, кстати, сами говорили, что духовные чины против уступок. Вот и благодарите их! Своими неразумными советами и упрямством они только вред причиняют, нежели пользу.
Абдувелли-ага кисло покривил губы.
Веселицкий заметил это – прибавил голосу резкости:
– Я не хочу злословить напрасно, однако та же летопись показывает, сколько перемен произошло через духовных. Как часто, заботясь о вере, они забывали о собственном народе! Не они ли были главными виновниками стольким развратам, расколам, междоусобным браням и возмущениям, через кои многие тысячи людей безвинно пострадали, а государства приходили в упадок? Они!.. А коли это так, то сходно ли сим особам старые рассказы уважать и за незыблемые правила почитать?
Веселицкий встал, подошёл к полке, прибитой к стене у окна, взял оттуда толстую потрёпанную книгу.
– Они на статьи Корана упирают, поясняя своё упорство. Однако посмотрим, что в вашей святой книге пишется... – Он открыл Коран, нашёл нужную статью и, медленно водя пальцем по строчкам, сбивчиво прочитал: – Вот... «Не предвидя такой опасности, от которой конечная гибель обществу нанесена быть может, не соглашается на принятие представлений других народов, хотя бы оные и полезными казались, и тогда только, когда уже самая опасность предвидима и необходимость настоит, ибо нужда в таком обстоятельстве закон отменяет...» Отменяет!
Веселицкий захлопнул книгу, поставил на полку и с ноткой презрения воскликнул:
– Не сим ли пунктом веры защищалась Крымская область, когда из Полтавы подавались полезные советы о вступлении – по примеру ногайцев, без кровопролития! – в вечную дружбу с Россией?!
Абдувелли-ага помолчал, чувствуя некоторую неловкость: русский поверенный знал, что говорил.
– Чего ради духовные ныне упорствуют в уступке? – продолжал попрекать Веселицкий. – Ссылаться на веру, когда можно предвидеть гибель всего полуострова от вероломства Порты?! Ведь турецким кораблям от Стамбула до здешнего побережья плыть каких-нибудь тридцать часов. А Россия может укрепить вашу землю своими войсками не ранее чем через семь недель... Духовные знают это, но лицемерно надеются в такое разорительное для области время свою выгоду получить. Внешне являют собой целомудрие, святость и благочинение, а внутри желают поделить имущество ближнего.
Веселицкий подождал, когда Идрис-ага закончит переводить, и уже мягче, стараясь быть убедительным, сказал:
– Творец велел повиноваться своим властителям. Его светлость хан избран Божьим промыслом государем Крымской области. Он одарён всеми качествами, что способствуют добродетельному и благоразумному управлению подданными, снабжён искусными чинами правительства и должен заботиться о народе... Не духовных слушать, а о народе заботиться!.. Я надеюсь, что он поймёт простую истину: крепости надобно уступить для благополучия и защиты татарского народа!
Осмысленное лицо аги, сосредоточенный взгляд застывших глаз показывали, что речь Веселицкого произвела на него сильное впечатление. Логичным, основательным доводам канцелярии советника трудно было противопоставить что-либо убедительное, кроме слепого, безрассудного неприятия.
– Я перескажу хану ваши резоны, – подавленно сказал Абдувелли-ага, прощаясь. – И постараюсь убедить его в полезности уступки крепостей.
– В таком случае вы заслужите благодарность не только татарского народа, но и её величества, которая скупиться не станет, – многозначительно пообещал Веселицкий, намекая на хорошее награждение.
* * *
Декабрь 1771 г.
Для казачьего полковника Шаулы, оставленного с полком зимовать в Еникале, декабрьские дни выдались беспокойными. Здешние обыватели-христиане – армяне, греки, – побывавшие на Тамане, где вели обычную свою торговлю, возвращались в крепость с тревожными вестями. Говорили, что к кубанским землям прибыли турецкие суда с большим войском и сильной артиллерией; что турки намереваются дождаться, когда от крепких морозов замёрзнет море, чтобы перейти по льду через пролив на крымский берег и с помощью татар, сохранивших верность султану Мустафе, внезапным ударом овладеть Еникале, Керчью, Арабатом, а потом захватить Кафу. Ещё говорили, что турки уверены в лёгкой победе, поскольку считают русское войско малочисленным – 7—8 тысяч человек, – половина которого к тому же погублена моровой язвой. И все обыватели в один голос твердили: покушение на Крым готовится с ведома Сагиб-Гирей-хана, имеющего тайную переписку с турками на Тамане.
Шаула поспешил известить об этом командующего Крымским корпусом генерал-майора Тургенева.
Николай Иванович, прочитав рапорт полковника, выразил сомнение в истинности сведений:
– Турки не глупцы, чтобы лезть под огонь крепостных пушек Ениколя! А вот десант высадить могут. Где-нибудь в тихом месте.
И приказал сторожевым постам, разбросанным по всему побережью, усилить наблюдение за морем. Шауле же он отправил ордер с приказом допрашивать всех людей, прибывающих с Тамана, а подозрительных – брать под стражу.
29 декабря, в полдень, казаки Шаулы привели в полковую канцелярию четырёх татар, проживавших, по их словам, в деревне Судак.
– А почему со стороны Тамана плыли? – спросил полковник, зловеще буравя арестованных воспалёнными глазами.
– От тамошнего армянина Крикора письма везли.
– Кому?
– Здешнему Аведику Минасу.
– А на Тамане как оказались?
– По торговым делам ездили.
Шаула цепко оглядел по-нищенски бедно одетых татар... «Хитрят сволочи! Таким впору не торговать, а по миру с сумой ходить. Ну ничего, я дознаюсь правду!..»
Между тем старший из татар Айвас Добнгел в подтверждение своих слов достал из-за пазухи три помятых письма.
Шаула покрутил их в руках, пытаясь разобрать написанное – письма были на армянском языке, – кинул на стол и, обернувшись к стоявшему у двери казаку, коротко бросил:
– Минаса сюда!
Через полчаса армянин, проживавший неподалёку от канцелярии, предстал перед полковником.
– Ты Крикора знаешь? – спросил тот, ничего не объясняя.
– В приятельстве состою, – ответил Минас, опасливо оглядываясь на казаков.
– Тебе письма?.. – Полковник небрежно двинул бумаги к краю стола. – Он писал?
Минас быстро взглянул на листы:
– Его рука... Только мне два письма, а это здешнему торговцу Капрелу.
Шаула перевёл взгляд на татар:
– А где сам Крикор?
– Остался распродавать товар, деньги получить и овец закупить, – ответил Айвас Добнгел.
– А ты что скажешь? Пишет про овец? – обратился Шаула к армянину.
– Упоминает, – подтвердил тот, осторожно кладя бумаги на край стола.
Полковник нахмурился: выходило, что татары говорят правду... А верить не хотелось!.. Он оглядел татар.
Младший из них – двадцатичетырёхлетний Муса Уген – был худ, немощен и, судя по бегающим глазам, труслив.
– Этого оставить! – Полковник указал на Мусу. – Остальных прочь!
Казаки вывели татар и Минаса за дверь.
Шаула встал из-за стола, неторопливо переваливаясь на кривых ногах, подошёл к Мусе, угрюмо посмотрел на него:
– Приятели твои правду сказали?
– Клянусь Аллахом! – поспешил заверить Муса, едва толмач закончил переводить вопрос.
Шаула склонил голову на плечо, словно прислушиваясь к чему-то, и вдруг неожиданно, без замаха, ударил татарина чугунным кулаком. Тот, даже не охнув, полетел, опрокидывая скамьи, в угол комнаты, глухо ткнулся в стену, сполз на пол; некоторое время не шевелился, потом слабо застонал, обхватил лицо руками. Между грязных пальцев засочилась кровь. Вздрагивая всем телом, сплёвывая на грудь сгустки тягучей крови, он замычал что-то неразборчивое.
Полковник взял со стола глиняный кувшин с водой, опрокинул его на голову Мусы, подождал, пока тот придёт в себя, и нарочито медленно стал закатывать рукав на могучей волосатой руке, всем видом показывая, что главное ещё впереди.
Муса, блуждая глазами, размазывая по мокрому лицу кровь, слабо зашамкал разбитым ртом.
– Он говорит, что скажет правду, – перевёл толмач, охотно наблюдавший за безуспешными стараниями татарина встать. – У Айваса есть ещё письмо.
– Вот, значит, как, – процедил полковник. – А ну зови басурмана! – велел он толмачу.
Казаки втолкнули Айваса в комнату.
– Ну-ка, сволочь, показывай письмо, – зашипел полковник, угрожающе надвигаясь на Добнгела.
Тот увидел окровавленного Мусу, всё понял – вытащил из сапожка тонко скрученный бумажный свиток.
– От кого? – рявкнул Шаула.
– От Акгюз-Гирей-султана к крымским мурзам.
– О чём пишет?
– Не знаю... Писано по-армянски. Рукой Крикора.
– А те три?
– Нет... Их написал по приказу султана таманский армянин Хазак.
– Минаса сюда! – крикнул казакам Шаула.
Едва армянина ввели в комнату, как он, получив свинцовый полковничий удар, отлетел в тот же угол, где распластался Муса.
– Зараз ты мне всё расскажешь! – пообещал полковник барахтающемуся Минасу...
Спустя час Шаула продиктовал полковому писарю рапорты для Тургенева и вице-адмирала Синявина, предупредив о письмах Акгюз-Гирея, подтверждавших готовность турок атаковать в ближайшие недели Крым.
Алексей Наумович Синявин переслал рапорт Шаулы в Бахчисарай Веселицкому, чтобы тот потребовал от хана объяснений.
* * *
Декабрь 1771 г. – январь 1772 г.
Никита Иванович Панин около часа провёл за письменным столом, набрасывая черновые заметки о политическом и военном положении империи, которые собирался представить Екатерине. Писал он неторопливо, часто откладывая перо, подолгу обдумывая то или иное предложение, стараясь и мысль выразить точнее, и изящность слога соблюсти.
Положение измотанной военными действиями империи было затруднительным: война с Портой затягивалась, мятежники в Польше продолжали сопротивляться, дело независимости Крыма не достигло ещё желаемого завершения. К этому следовало добавить зарождавшиеся осложнения в отношениях с Австрией, ревниво наблюдавшей за победами русских войск в Крыму и особенно за стремлением России и Пруссии укрепить своё влияние в Польше.
«Венский двор, – писал Панин, – или, лучше сказать, первенствующий оного министр князь Кауниц питает в сердце своём величайшую ненависть и явное недоброжелательство к успехам оружия нашего. Искры одной, так сказать, недостаёт к превращению оных из пассивного умозрения в сущий активитет.
Обращаясь к сей несложной картине, нахожу я, что новые в ней открывшиеся тени требуют и новых времени и обстоятельствам свойственных средств, а особливо подчинения их всех точным и исправно размеренным правилам как по состоянию сил и ресурсов наших, так равным образом по количеству и важности опорствующих нам пружин. Если бы Венский двор оставался равнодушным зрителем нашей войны, то можно было бы оставить в Польше один корпус, а главными силами ополчиться против турок и действовать столь наступательно, чтобы принудить их безмолвно принять мир на наших кондициях. Но теперь, когда Кауниц, убедив себя и двор в необходимости сохранения равновесия между Россией и Портой, доводит дело до крайности и почти явного разрыва с нами, благоразумие требует уступить обстоятельствам и удовольствоваться тем, чтобы пункт вольности и независимости крымцев и прочих татар, как наиболее нас интересующий, прежде всего был определён и немедленно утверждён...»








