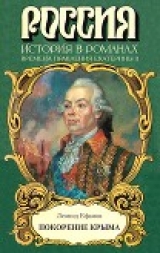
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 37 страниц)
Никита Иванович Панин был более практичен – в своём письме он предложил слова «оные крепости уступаются» заменить в случае необходимости на другие сочетания: «оные крепости приемлются в здешнее содержание» или «оные крепости содержаны будут с российской стороны».
Обсуждение проекта договора о союзе и дружбе между Россией и Крымским ханством началось 11 июля.
Для заседаний установили в русском лагере отдельную палатку – просторную, с затянутыми кисеей окошками, настелили ковры, поставили покрытые малиновыми атласными скатертями столы для делегаций, десяток хороших стульев. Россию представляли Щербинин и Веселицкий, которым помогали переводчики Константинов и Дементьев и канцеляристы Цебриков и Дзюбин. В татарскую депутацию хан определил Мегмет-мурзу, Тинай-агу, Абдувелли-агу и переводчика Идрис-агу. (Назначение двух последних Веселицкий воспринял с удовлетворением: он уже успел встретиться с ними наедине и презентовать каждому дорогие вещи, привезённые Щербининым).
Открывая первую конференцию, Евдоким Алексеевич ещё раз выразил пожелание о скорейшем подписании трактата и предложил начать обсуждение статей.
Первая статья, в которой объявлялось, что «союз, дружба и доверенность да пребудут вечно между Всероссийской империей и татарской областью без притеснения вер, законов и вольности», возражений со стороны татарских депутатов не вызвала. Краткость и чёткость формулировки была понятна и не оставляла никаких способов иного толкования.
Лёгкая искорка несогласия промелькнула при зачтении второй статьи, где ханы объявлялись носителями верховной власти в Крыму, в избрание которых ни Россия, ни Порта, ни прочие посторонние державы не должны были вмешиваться. В статье указывалось, что об «избрании и постановлении хана доносимо будет высочайшему российскому двору».
– Если избрание хана есть внутреннее дело вольного татарского народа, зачем же мы должны доносить об этой русской королеве? – спросил Мегмет-мурза.
Щербинин погасил эту искру, сославшись на первую статью:
– Коль мы будем иметь с вами дружеский договор, то разве зазорно уведомить вашу благодетельницу об избрании хана?.. Друзья не должны ничего друг от друга скрывать.
– Стало быть, и турецкому султану также надобно об этом доносить.
– Вы от Порты теперь навсегда отторглись и султану ничем не обязаны.
– Мы единоверные с турками.
– В Европе тоже много единоверных народов, но державы они имеют разные... Вера есть сущность духовного характера, а мы ведём речь о делах политических.
Мегмет не стал спорить, промолчал.
Далее в проекте договора указывалось, что все народы, бывшие до настоящей войны под властью крымского хана, по-прежнему остаются под его верховенством. Тем самым Россия подчёркивала, что выступает за целостное Крымское государство. Это должно было произвести на татар благоприятное впечатление.
Кроме того, Россия обязывалась не требовать себе в помощь войск от Крымской области, сняв тем самым опасения татар, что их – так же, как и калмыков, – будут заставлять воевать в составе армий империи. Но при этом подчёркивалось, что «крымские и татарские войска противу России ни в чём и ни под каким претекстом вспомоществовать не имеют».
– В договор особым артикулом включено обязательство её императорского величества защищать и сохранять Крымскую область во всех вышеозначенных правах и начальных положениях, – сказал Щербинин. – Он идёт под нумером пятым.
– Судя по вашим прежним словам, это защищение предполагает пребывание русских войск на нашей земле, – буркнул Мегмет-мурза.
– Пока настоящая война между Россией и Портой продолжается – а таковое состояние признается всеми державами до заключения трактата о мире, – военные резоны требуют, чтобы укреплённые крымские места были заняты нашими гарнизонами. В предполагаемом шестом артикуле сие обстоятельство изъяснено теми же словами... Хочу к этому добавить, что я имею повеление её величества снестись с командующим здесь генерал-поручиком Щербатовым и учинить распоряжения, дабы поставка в гарнизоны дров и фуража и само размещение их ни малейшую тягость крымским обывателям не составляла.
– Настоящая война длится уже не один год. И сколь ещё продлится – никто не знает!.. Получается, что войска будут стоять в независимом Крыму також неизвестное время.
– Я позволю себе обратить внимание господ депутатов на слова сего артикула. – Щербинин взял договор и, выделив голосом первое слово, чётко, с расстановкой прочитал: – «Пока настоящая война между Всероссийской империей и Портой Оттоманской продолжается...» – Он отложил бумаги. – Здесь нет ничего непонятного!.. А что касаемо сомнений в скором завершении войны, то пусть у депутатов не возникают сомнения на сей счёт. Возьму на себя смелость объявить вам, что наступающий год будет последним. Наш общий враг Порта находится в издыхании и теперь – после укрепления армии генерал-фельдмаршала Румянцева полками Второй армии – положение великого везира становится незавидным...
Не дожидаясь, что ответят татары, Веселицкий, как и было заранее обговорено с Щербининым, предложил сделать краткий перерыв.
Гостям подали кофе, шербет, сладости, трубки с табаком. Предупредительным обхождением Щербинин хотел настроить татарских депутатов на спокойный, умиротворённый тон, ибо подошло время к обсуждению следующей, седьмой, статьи, в которой речь шла об уступке крепостей.
Попивая кофе, Евдоким Алексеевич искоса поглядывал то на татар, то на Веселицкого, озабоченное лицо которого говорило, что он тоже взволнован предстоящим трудным и, безусловно, неприятным разговором.
Когда прислуга убрала со стола чашки и вазы, унесла выкуренные трубки, Евдоким Алексеевич заговорил – приглушённо, неторопливо, осторожно подбирая слова, делая длинные паузы:
– Татарская область, ставшая ныне вольной и независимой, и в прежние годы была подвержена внезапным неприятельским нападениям, кои наносили ей чувствительный вред. Поручившись за охранение её вольности, Россия желала бы иметь надёжные способы к исполнению артикулов договора поданием в нужных случаях своему доброму соседу немедленной помощи и защищения... Однако по заключении мира с Портой, возвратясь в свои границы, армия будет отдалена от сего полуострова великим расстоянием. А сие крайне опасно, ибо оно, расстояние, даст затруднения в быстрой помощи законному крымскому правителю и народу. И помощь эта может быть подана с большим опозданием, когда правитель будет свергнут, а народ порабощён. Тем самым мы не сможем выполнить артикулы договора и перед лицом всего света станем клятвопреступниками, бросившими своих друзей в трудные времена... Вот почему для лучшего обережения вольности и независимости Крыма надлежит оставить здесь некоторое количество русского войска, разместив его в дальних крепостях. В предлагаемом седьмом артикуле изъясняется необходимость уступления России крепостей Керчь и Еникале и от имени крымского правительства и всего общества подавания просьбы вашей благодетельнице принять их... Кроме помянутых крепостей, все прочие крымские крепости с пристанями, гаванями, жилищами, со всеми в оных жителями, доходами и соляными озёрами в ведомстве и полном распоряжении светлейшего хана и крымского правительства быть имеют. Ни в какой из них русские войска пребывать не будут!.. Равно же и за Перекопом крымская степь по границы российские, бывшие до настоящей войны, то есть начиная от вершин рек Берда и Конские Воды и до устья оных, по-прежнему во владении крымских жителей останется.
Многословие Щербинину не помогло – воинственно настроенный Мегмет-мурза воспринял речь враждебно и попрекнул посла:
– Защищение наше не должно зависеть от воли твоей королевы! Доблестное крымское войско не столь слабо, чтоб не смогло оборонить свои земли и жилища и без помощи России.
– Большую часть крымского войска составляют воины из ногайских орд, кои по своим обыкновениям кочуют за пределами полуострова, а ныне, по собственному их желанию и повелением их благодетельницы, переведены на кубанскую сторону... Может так статься, что они не поспеют прийти на помощь, – сдержанно возразил Щербинин.
– Пролив, отделяющий Кубань от Крыма, не столь широк, а протяжённость наших земель не столь велика, чтобы доброконное войско за неделю не оказалось здесь.
– Мне известно умение орд совершать переправы через самые широкие реки. Но я ни разу не слышал, чтобы они переправлялись через пролив.
– Это можно сделать, когда море в стужу замёрзнет.
– А если покушение на Крым будет в зной?
– Орды найдут быструю дорогу!
– Но может так статься, – повторил Щербинин, – что коварным и внезапным нападением большой рати главные крепости Перекоп и Арбат, требуемые нами Керчь и Еникале захвачены будут столь скоро, что кочующим ордам войти в Крым неприятели не дадут. И запрут полуостров с суши и моря на крепкий замок! Где вы сможете укрыться от злобного врага?.. А так, если неприятель поведёт интригу на свержение законного крымского хана, то и он и многие другие чины правительства как раз найдут убежище в крепостях с российскими гарнизонами и флотом.
– Мы будем сражаться с неприятелем, а не прятаться от него!
– У меня нет сомнений в вашей отваге и готовности умереть за родную землю. Вся история Крымской области наполнена этими качествами, – не удержался от иронии Щербинин. (Константинов не стал повторять интонацию генерала – с каменным лицом перевёл всё сухо и обыденно). – Но враг тоже бывает разный... Бывает силён, решителен, кровожаден... И здесь весьма пригодилось бы вспомоществование наших крепостных гарнизонов.
– Именно гарнизоны могут нарушить мир и покой, – не унимался Мегмет-мурза.
– Это как же? – крякнул удивлённо Щербинин.
– Мы уже многократно бывали свидетелями несогласий между гарнизонами и крымским народом. И всегда, даже когда причиной того несогласия было гарнизонное войско, виноватым оказывался наш народ... А если снова произойдёт ссора? Кто в ней станет посредником?.. Кто разберёт – от русского ли гарнизона произошла обида или от крымского народа? Кто сможет разрешить спор, если между нами не будет посредника?
– Уж не хотите ли вы сказать, что Порта – наш заклятый обоюдный враг! – может быть таким посредником? – не выдержал Веселицкий.
– О Порте речь не идёт. Но коль не будет гарнизонов – не понадобится и посредник, – вывернулся Мегмет-мурза.
– Охранение, что мы должны обеспечить вашей области согласно прожектируемого договора, не может осуществлятъся из Петербурга, – одёрнул мурзу Щербинин. – Войско наше должно быть в Крыму!
– У нас хватит собственных сил для защищения! – выкрикнул Мегмет.
– Нет, не хватит, – твёрдо, с ноткой угрозы сказал Щербинин. – Разве меньше сил у вас было, когда турки много лет назад покорили Крым? Однако ж не устояли!
– Старые времена прошли!
Евдоким Алексеевич смерил мурзу долгим взглядом, изрёк назидательно:
– Неужто вам не понятно, что хан Сагиб-Гирей и трёх дней не продержится на престоле без нашей помощи?
– Кто же намерен его свергать?
– Неприятели всегда найдутся... Та же Порта меняла ханов по своему усмотрению.
Мегмет возражать не стал: замечание было справедливое. Но и уступать не собирался.
– Вы все ругаете Порту, но забываете, что раньше мы получали от неё знатные доходы. Султан ежегодно присылал нам много мешков денег. А Россия не шлёт! Зато хочет отнять у нас важные города.
– Потеря доходов, что были соединены с порабощением, заменяется теперь доставленной вам вольностью. А оная, как известно, всех сокровищ дороже!.. – Щербинин знал, что только с ногайских орд ханы собирали шестьдесят тысяч рублей в год, и решил подчеркнуть это: – К тому же все крымские доходы отныне у вас остаются. Теперь вы не обязаны отдавать часть из них Порте!
– Но покровитель не может оставлять своего друга в разорении. Ведь мы же не по своей вине понесли в ходе войны тяжёлые убытки.
Евдоким Алексеевич понял, что мурза старается увести разговор в сторону, и он снова заговорил об уступке крепостей.
– Слова русского посла нам не понятны, – неприязненно бросил Мегмет. – Настойчивость, с которой вы просите крепости, противоречит предлагаемому договору!
– В чём же это противоречие?
– Мы же вольная держава! Следовательно, можем соглашаться на ваши требования, а можем и нет.
– Договор, подтверждающий все ваши блага, ещё не подписан, – предостерёг Щербинин. – И подписание его затягивается как раз по причине вашего нежелания включить в него артикул об уступке крепостей. Мы не можем оставить без защищения татарские народы. Вот это противоречит договору!
Мегмет, видимо, выдохся, замолк, но в разговор вступил Тинай-ага.
– Почему Россия настаивает на этих крепостях? – спросил он пытливо.
Щербинин утомлённо вздохнул и снова терпеливо принялся разъяснять:
– Когда сия война закончится – все русские гарнизоны будут из Крыма выведены. Если же коварная Порта учинит попытку порабощения вольных нынче татар, то наш флот вице-адмирала Синявина – будучи в Азове! – не сможет вас защитить от десанта, ибо турки первым делом закроют вход в Чёрное море. Пешее же войско – из-за отдалённости расположения! – вскорости на выручку вам не поспеет. Вот почему желательны именно сии две крепости.
– Мы готовы предупреждать о турецкой угрозе капудан-пашу. А потом он сможет заходить в любую нашу гавань.
– Вы собираетесь создать свой флот?
– Нет... Зачем он нам?
– А как же вы прознаете про турецкую эскадру?
– Так она же подойдёт к побережью!
– Когда подойдёт – поздно будет уведомлять Синявина!
– Хорошо, вы правы... Но об эскадре могут сообщать торговые и прочие люди, плавающие и в Порту, и на Таман, и в Румелию. Кто-то увидит – скажет.
– На таких людей нет надежды. Да и в гаванях, о которых вы помянули, надобно иметь запасные магазины для всяких снарядов и провианта, содержать охрану... Не скрою, для большого флота лучшим местом была бы Кафа. Но мы оставляем её в пользу хана и общества, как знаменитейший и большие доходы приносящий город... (Евдоким Алексеевич сказал эти слова таким тоном, словно Россия делала татарам величайшее благо). А взамен согласны на Керчь и Еникале... Уступите их, и тем самым вы ещё раз подтвердите искренность своей к нам дружбы!
Чиновники пошептались между собой, потом Мегмет-мурза сказал:
– Требуемые крепости никогда нам не принадлежали, а находились в руках турецких. Как же мы можем отдавать чужое? О них вам следует говорить с Портой.
– Крепости действительно были в турецких руках. Но теперь принадлежат Крыму и состоят под властью хана.
– Нам даны полномочия обсуждать договор, а не уступку крепостей... Это дело хана! С ним и решайте.
Евдоким Алексеевич понял, что утвердить сейчас седьмую статью не удастся, а настаивать далее – неразумно: переговоры зайдут в тупик. Он посмотрел на Веселицкого.
Тот прочитал его взгляд и примирительно произнёс:
– Наша дружеская беседа продолжается весьма долго. Все уже, видимо, притомились... Я предлагаю прекратить нынешнюю конференцию, оставшиеся статьи – чтобы не утомлять уважаемых депутатов – не объявлять, а передать прожект для последующего чтения и обсуждения в диване.
– Мы согласны поступить таким образом, – кивнул Абдувелли-ага.
Переводчик Константинов передал ему папку с бумагами.
В последующих статьях говорилось, что ногайские орды должны навсегда остаться на кубанской стороне и состоять по древним своим правилам, обычаям и обрядам под властью крымского хана.
Далее шло упоминание об обмене пленными, которых следовало возвращать без всякого выкупа. Но, зная настроения татар, их острую, неприязненную реакцию на возвращение христианских пленников, русские пошли на уступку: все невольники, даже христиане, не являвшиеся подданными России, должны отсылаться назад к татарам или же – с согласия прежних хозяев – могли выкупаться империей.
В двенадцатой статье говорилось о взаимной торговле между двумя сторонами; тринадцатая статья объявляла о содержании при крымском хане российского «резидующего министра», которого татары должны почитать, не дозволяя оскорблений, и подвергать жестокому наказанию всех, кто таковые ему нанесёт...
Изворотливое упрямство депутатов на конференции насторожило Щербинина. Ни один из предъявленных резонов не произвёл на них сильного действия. Разочарованный, он написал в Петербург:
«Видимо по всему, что отнюдь не хотят иметь в Крыму русских гарнизонов и не желают быть под покровительством её величества, ибо когда я между разговорами внушал им об опасности для них с турецкой стороны и по заключении мира, то они отвечали, что ничего от турок не опасаются. Поэтому мне кажется, что когда будет заключён мир и русское войско от них уйдёт, то опять впустят в Крым турок, к которым по закону, нравам и обычаям имеют полную привязанность и преданность...»
* * *
Июнь – август 1772 г.
В конце июня русское посольство в четыреста человек – офицеры, лакеи, повара, канцеляристы, музыканты, коновалы, прочий обслуживающий люд – покинуло главную квартиру Первой армии. Множество карет, летних колясок, обозных повозок нескончаемой чередой неторопливо запылили по вьющейся между лесов и холмов дороге, напрявляясь в Фокшаны.
Орлов не спешил: ему донесли, что турки двигались ещё медленнее. У них посольство было побольше русского – пятьсот человек, – и на несметное число повозок, забитых багажом и припасами (турки везли даже клетки с курами), не хватило лошадей – пришлось запрягать тихоходных волов и верблюдов. Отборных же коней-красавцев, шедших с обозом, в упряжь не ставили – берегли для церемонии торжественного въезда послов в Фокшаны.
Орлов особенно не тревожился, даже шутил:
– Им нынче резвость без надобности – не на бал едут!
Но при переправе через синеводую Серет вызвал полковника Христофора Петерсона и, высунув голову в каретное окошко, велел ему ехать к Дунаю:
– Встретишь турок! И поторопи их...
Зная пристрастие турок ко всяким почестям, Петерсон организовал всё наилучшим образом: посольство во главе с Осман-эфенди и Яссини-заде, заменившим отставленного от негоциации рейс-эфенди Исмаил-бея, переправлялось через Дунай под музыку и дробь барабанов.
Этот спектакль порадовал самолюбие турок – они милостиво улыбались, говорили приятные слова. Но когда Петерсон намекнул, что российские полномочные ожидают скорейшего прибытия своих турецких визави в Фокшаны, Осман-эфенди, вытянув руку в сторону огромного обоза, пожаловался:
– Я не знаю способа заставить волов идти быстрее...
В городок, построенный русскими инженерными командами, турки въехали – торжественно и шумно – 20 июля.
Семёня по хрустящему песку аллей, Осман обошёл лагерь, осмотрел палатки и строения, одобрительно заметил шагавшему рядом Петерсону:
– Граф Орлов постарался на славу – в тишине и покое и мысли светлеют, и разум проясняется... Выразите графу мою признательность за выбор столь необычного и приятного места.
Петерсон приложил два пальца к шляпе, крутнулся на каблуке, прыгнул в седло, легко поскакал к русскому лагерю.
А там Орлов и Обресков – оба без кафтанов, без париков – сидели под дубом, отдыхая после обеда. Стоявший перед ними стол был заполнен зелёными винными бутылками, хрустальными вазами со сластями, ранними фруктами. Орлов жевал тугие светло-жёлтые черешни и, щуря глаз, лениво сплёвывал косточки, стараясь попасть в пустой бокал. Обресков, откинувшись на спинку мягкого стула, вытянув толстые ноги, медлительно покуривал трубку, наблюдая за тщетными упражнениями графа. Оба, скучая, ждали турецких представителей.
Орлов плюнул косточкой – снова мимо – и, не глядя на подошедшего Петерсона, бросил повелительно:
– Налей, что пожелаешь!
Петерсон окинул взором стол, выбрал бургонское.
Орлов плюнул – мимо.
– Пей!
Петерсон охотно проглотил вино.
– Турки пришлют кого?
– Осман не сказал.
– Ну иди!
Петерсон поставил бокал на голландскую скатерть, козырнул, зашагал к офицерским палаткам.
Орлов утёр ладонью губы, повернул голову к Обрескову:
– Турок-то лаской встречать будем иль строгостью?
Алексей Михайлович ответил длинно:
– При всём частном каждого турка невежестве Порта имеет свой издревле установленный систематический образ негоциирования, который обстоятельствами мало переменяется... Основания сего способа – их гордость и застенчивость. Первое качество происходит от обыкновенного в их правительстве варварского тона, а второе – от свойственной каждому турецкому полномочному боязни, чтобы в случае народного роптания и недовольства за неполезный Порте мир не быть жертвой удовлетворения оного. С таковыми правилами турки, привыкнув вести негоциации с превеликой холодностью, неоднократно имели удачу получить кондиции более выгодные, нежели сами ожидали или каковые со своей стороны представляли... Отсюда я заключаю, что прежде надобно достаточно глубоко вникнуть в персональные характеры и нравы Османа и Яссини, настроить по ним наши струны, а затем живыми и сильными убеждениями привести в замешательство, обратив в пользу и подкрепление наших видов.
– Э-э, – качнул головой Орлов, – это не по мне... Наша сила и страх турецкий перед ней – вот что следует положить в основу негоциации.
– Осман – крепкий политик, – предостерёг его Обресков. – Блестяще образован, знает европейские языки, в разговорах мудр и увёртлив.
– Уж не его ли это ведут? – хмыкнул Орлов, глядя за спину Обрескова.
Алексей Михайлович обернулся.
По аллее в сопровождении советника Александра Пиния и двух солдат шагал человек, одетый в турецкое платье. Это был переводчик Османа – Ризо.
Подойдя к столу, Ризо отвесил низкий поклон, сказал по-итальянски (русского языка он не знал), что Осман-эфенди просит уважить его преклонный возраст, усталость после длительного путешествия и перенести начало конгресса на неделю.
– Неделю? – взметнулся Орлов. – Я полагаю...
Обресков, чувствуя, что граф скажет сейчас какую-то резкость, бесцеремонно перебил его:
– Передайте почтенному эфенди, что мы согласны подождать неделю. Но не более! Ибо постановление желаемого всеми мира вряд ли стоит откладывать надолго.
Солдаты увели Ризо.
Орлов сверкнул глазами:
– Я бы попросил вас, милостивый государь...
Обресков снова не дал ему договорить – пояснил примирительно:
– На проверку полномочий и прочие мелочи всё равно уйдёт несколько дней. Стоит ли начинать конгресс нанесением обид туркам?
– Я угодничать перед ними не намерен! – потряс пальцем Орлов.
– Я тоже... Только не вижу резона злить турок с первого дня. Всё ещё впереди!..
Орлов горячился зря: уже первые, предварительные, встречи, начавшиеся на следующее утро, показали, что рассудительный Обресков был прав. Едва Пиний и Ризо представили друг другу для ознакомления копии полномочных грамот своих послов, зоркий глаз российского советника обнаружил, что Яссини-заде именуется в грамоте просто полномочным министром, но не имеет положенного в таких случаях посольского «характера».
Пиний доложил об этом Орлову и Обрескову, а те – при посещении турецкого лагеря – прямо заявили Осману о невозможности начать конгресс в неравных полномочиях.
– Яссини-заде – шейх храма Ай-София и, стало быть, особа неполитическая, – невозмутимо пояснил Осман-эфенди. – Посольский характер ему, как лицу духовному, совсем не приличествует.
– Принятые в свете обычаи – и вам сие хорошо известно! – обязывают соответствия послов достоинству представляемых ими держав, – заметил поучающе Обресков. – Стороны не могут негоциировать, не имея равного друг с другом ранга.
– Но духовные лица раньше у нас в посольства не включались, – возразил Осман. – Давайте в виде особенности примем этот его характер и начнём конгресс.
– В таком случае для уважения посольских качеств мы согласны на принятие всеми нами звания полномочных министров и не называться послами, – предложил Обресков.
– Мы обсудим это, – пообещал Осман.
Спустя день Ризо принёс короткую записку. Осман сообщил, что «в запасе есть султанская полная мочь на посольский характер Яссини-заде».
– Вот сволочи! – ругнулся брезгливо Орлов. – Ещё конгресс не открыли, а они уже норовят надуть...
По взаимной договорённости сторон конгресс было решено открыть 27 июля.
За полчаса до начала первой конференции в русском и турецком лагерях звонкоголосо пропели трубы, и оба посольства церемонно двинулись с двух сторон к залу для переговоров.
Несмотря на преклонный возраст, Осман-эфенди ехал верхом; одежды надел самые богатые, в руках держал трость с массивным набалдашником из чистого золота; лошадь его, покрытую расшитой серебряной нитью попоной, вели под уздцы слуги в широких красных шароварах и коротких зелёных куртках; тридцать таких же живописных слуг мерно вышагивали впереди посла, столько же – замыкали процессию. (Яссини-заде остался в лагере: в седле он держался плохо, а идти пешком вместе с прочими чиновниками посчитал зазорным для своего посольского достоинства).
Осман полагал, что его свита будет выглядеть красочно и внушительно. Но, увидев посольство русское, закусил от зависти губу.
Впереди процессии россиян, вальяжно развалившись в сёдлах, двигался эскадрон гусар в щегольских белых ментиках с серебряными шнурами, за ним – сто пятьдесят пажей, наряженных в яркие расшитые ливреи. Орлов и Обресков ехали в ослепительной карете: белый империал покрыт затейливыми золочёными разводами, шестёрка специально подобранных белоснежных лошадей взбивала копытами жёлтый песок. Следом ехали ещё четыре кареты, в которых расположились свитские офицеры, секретари, переводчики.
У зала обе процессии остановились.
Осман, сдавленно кряхтя, слез с лошади и, поглядев на русских послов, почти одновременно вышедших с разных сторон кареты, снова испытал тоскующую зависть.
Орлов был похож на искрящуюся умопомрачительной красоты игрушку – в свите поговаривали, что его платье, усыпанное драгоценными каменьями, шитое-перешитое золотыми нитями, стоило до миллиона рублей; Обресков также принарядился в дорогой кафтан; на груди обоих – сверкающие ордена, через плечо – лента.
На фоне показного великолепия и богатства российского посольства, подавлявшего воображение блеском и пышностью, турецкое выглядело бледно и непритязательно.
Ровно в девять часов послы равными шагами вошли, с величавым достоинством отвесили друг другу поклоны, степенно расселись на приготовленные канапе.
Орлов вскинул голову и ровным глубоким голосом приветствовал Осман-эфенди от имени её величества.
Пиний перевёл его краткую речь на турецкий язык.
Осман бесстрастно высказал ответное приветствие и тут же беспокойно стал оглядываться – в его свите не оказалось человека, знавшего русский язык.
Обресков, владевший турецким, понял всё, что говорил эфенди, но сохранял холодную неподвижность. По губам Орлова скользнула лёгкая пренебрежительная улыбка. Пиний, готовый выручить турок, выжидательно посмотрел на графа – тот дёрнул бровью: церемониал требовал, чтобы речи послов переводили их собственные переводчики.
Смущённый заминкой Осман метнул злобный взгляд на Ризо. Переводчик растерянно заморгал и неуверенно, сбивчиво заговорил по-итальянски. Осман облегчённо вздохнул: церемониал был соблюдён.
После этого, согласно предварительной договорённости, посольские свиты покинули зал – остались Орлов, Обресков, Осман, их переводчики и два секретаря, готовые занести на бумагу любое оброненное слово.
Первая конференция была непродолжительной, около двух часов. Стороны её предъявили и проверили полномочия друг друга, подписали короткое соглашение о продлении перемирия до 10 сентября, а затем Осман, надломленный пышностью российского посольства, предложил отказаться от требований этикета и церемониала и делать взаимные посещения, «не возбуждая никакого сомнения и не примечая, будет ли кто в карете, верхом или пешком, с малой или большой свитой».
Орлов, в полной мере удовлетворивший своё честолюбие, самодовольно поджал губы и возражать не стал...
Через три дня послы встретились вновь. Теперь Осман был с Яссини-заде.
Вознамерившийся с самого начала переговоров взять их в свои руки, Орлов заговорил первым. Он напомнил туркам о причине возникновения войны, о настоящем положении взаимного оружия, о знатных завоеваниях российской армии; подчеркнул, что Россия требует удовлетворения её великих убытков, и предложил турецким послам представить условия такого удовлетворения.
Искушённый в политике Осман на хитрость не поддался, не стал раскрывать до времени свои карты.
– Мы желали бы прежде услышать российские кондиции, – выжидательно сказал он.
Орлов придвинул к себе густо исписанный лист и, подглядывая в него, огласил основания, на которых мог быть заключён мир между двумя империями:
– Сии основания просты и понятны... Первый пункт. Мы желаем надёжнейшим способом обеспечить границы нашей империи от внезапных нападений, кои могут случаться против воли вашего государя. Такое мы видели уже не раз – прежде всего от татар – и намерены положить им решительное окончание... Второй пункт. Оттоманская Порта должна нам доставить справедливое удовлетворение за убытки нынешней войны... Третий. Надобно освободить от порабощения торговлю и мореплавание беспосредственной связью между подданными обеих держав для вящей пользы и взаимного блаженства... Я полагаю, оные пункты должны быть приняты за базис всей предстоящей негоциации...
Эти основания обсуждались на заседании Совета ещё в декабре 1770 года, но спустя время некоторые формулировки были смягчены. Никита Иванович Панин, волнуясь, предупреждал Совет, что первая статья – «уменьшить Порте способность к атакованию впредь России» – не должна излагаться столь откровенно и грубо, чтобы не отпугнуть турок. Её переделали. (Орлов не стал зачитывать все пункты дословно, а пересказал их своими словами).
– Названные основания ласкают слух, – расслабленно изрёк Осман. – Но я не успел уразуметь, что в каждом пункте заключается. Они нуждаются в должном и внимательном изучении.
Орлов взял другую бумагу – в ней условия излагались на турецком языке – и передал эфенди.
– Надеюсь, к следующей конференции вы успеете уразуметь.
Пиний перевёл его слова мягко и доброжелательно...
На третьей конференции, состоявшейся 1 августа, турецкие послы согласились на предложенные российской стороной основания и предложили начать обсуждение условий мира...
«Инструкция уполномоченным на мирный конгресс с турками», утверждённая Екатериной 21 апреля, предписывала порядок, согласно которому должны были обсуждаться статьи будущего договора:








