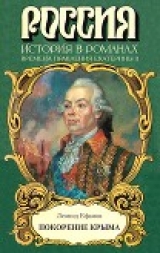
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 37 страниц)
– Добежать – добежим. Да ить палисад – не солома... Дубовый!.. Вилами не проткнёшь!
– И топором махать – дня не хватит!
– Хлопцы! А на кой ляд нам эта Умань? Аль по другим местам ляхов и жидов мало?
– Верно! Верно!.. К чёрту Умань! Айда к батьке!
Толпа, нестройная, шумная, с некоторой нерешительностью придвинулась к Зализняку, закричала, что надо отступиться от крепости. А он, приметив её безликую неуверенность, с нарочитой беспечностью подошёл к коню, легко прыгнул в седло, привстал на стременах, чтоб все видели, вскрикнул звучно и воинственно:
– Не страшись, хлопцы!.. Вона сколько нас!.. Пугнём ляхов – сами крепость сдадут!
И тут же, при всех, велел Гонте послать к Младановичу казака с ультиматумом. Срок для ответа назначил до вечера.
Казак неохотно, с тоской в глазах, словно чувствуя, что едет на погибель, влез на лошадь, тронул поводья, медленно приблизился к крепостным воротам; под дулами ружей, нацеленных прямо в грудь, взмахнул белым платком, крикнул жолнерам, чтоб впустили.
Коротко скрипнув, створки ворот чуть-чуть приоткрылись.
Казак оглянулся, помахал рукой – будто прощался – наблюдавшим за ним колиям и скрылся за воротами.
Снова его увидели уже вечером, когда закатное солнце зацепилось малиновым краем за вершины дальних деревьев. Два жолнера выволокли окровавленного казака на стену, подтащили к самому краю, поставили на колени. Казак был гол, истерзан страшными пытками, вместо лица – распухшая кровоточащая маска.
Нахмурился Зализняк, предчувствуя надвигающуюся беду. Закусил чёрный ус Гонта. Притихли, крестясь, колии.
Один из жолнеров вынул из ножен саблю, отступил в сторону, неторопливо примерился и сильным резким ударом срубил склонённую казачью голову. Осторожно, чтобы не запачкать сапоги хлынувшей фонтаном кровью, он столкнул бездыханное тело со стены, затем взял отрубленную голову за длинный чуб и, крутнув, словно пращу, швырнул вниз к палисаду.
– Всех порубим! – закричали со стен ляхи. – Кто ещё хочет – подходи!
Ахнули колли, поглядев на такую казнь. Но шум голосов перекрыл надрывный вопль Зализняка:
– Хлопцы-ы!.. Видели, как поганые ляхи православного жизни лишили?
– Видели, батька!.. Все видели! – загремела толпа.
– Тогда за веру православную, за волю вольную – геть до Умани!
– А-а-а... – разнеслось над полем свирепое тысячеголосье. Ощетинившись длинными пиками, гнутыми косами, заострёнными кольями, войско неровной волной побежало к крепости.
– Собаки бешеные, – прошипел, бледнея, Младанович, окидывая цепким взором растекающееся вокруг вала людское море. Но не струсил – верил в неприступность Умани, – и ломким, прерывистым голосом закричал, размахивая руками: – Жолнеры Шафранского – к главным воротам!.. Поручик Ленарт – к другим!.. Зажечь огонь под котлами!..
Первый приступ закончился совсем быстро.
Едва нападавшие приблизились к валу, на башне, где находился Младанович, ударила сигнальная пушка. Прочертив в небе плавную дугу, ядро мягко упало на нескошенную траву, чёрным мячиком покатилось под ноги колиям и, прошипев фитилём, рвануло горячими осколками мужицкие тела. Тут же на крепостных стенах тягуче пророкотали остальные орудия.
Орущие сотни замедлили бег, остановились в нерешительности, а затем – спасаясь от рвущихся ядер – отхлынули назад, оставив у вала убитых и раненых.
Видя, как бегут колии, стоявший рядом с Зализняком Гонта сказал негромко:
– Ты понапрасну людей не губи. Умань с наскока не возьмёшь... Осадить надобно.
– Мне на это баловство времени не отпущено, – глухо отозвался Зализняк, подрагивая небритой щекой. Но в голосе его не было уверенности. (Штурмовать такие мощные крепости ему ещё не доводилось, и в душе он боялся, что не сдюжит).
Гонта, видимо, понял сомнение атамана, сказал сочувственно:
– Уйми гордыню, Максим... Взять Умань – это не панские гнезда разорять да жидов вверх ногами вешать. Здесь топорами и кольями ляхов не напугаешь... Поставь пушки, запали дома, а уж потом навалимся с Божьей помощью.
Зализняк прислушался к совету. Дождавшись, когда прохладная июньская ночь, неторопливо наползавшая с востока, покрыла густым мраком землю, он бесшумно подтянул поближе к валу семь пушек – всё, что имел, – и приказал бомбардировать крепость.
Первый залп оказался неудачен – ядра, ткнувшись в высокие стены, упали на землю, брызнули пунцовыми разрывами, не причинив осаждённым ни малейшего вреда.
Пушкари, ругнувшись, сноровисто увеличили заряды, подправили прицелы, и следующий залп унёс ядра на узкие улицы Умани.
Спустя некоторое время небо над крепостью озарилось ржавыми отблесками пламени, густые клубы дыма взвились над башнями, раскачиваясь, поплыли в стороны, наполняя воздух терпкими запахами гари.
Воодушевлённые пушкари, скинув рубахи, блестя потными разгорячёнными спинами, усилили огонь.
А Зализняк, видя, как пылающая крепость взбодрила его колиев, снова повёл их на штурм.
Потом ещё раз...
Ещё...
Умань жалобно дрожала размытым заревом пожаров, но держалась стойко. Обвесив стены и башни серыми пушечными дымами, гарнизон расстреливал нападавших ядрами и картечью на подступах к валу, не давая проломить палисад. Число убитых и раненых колиев росло, с каждым разом всё неохотнее они поднимались на штурм.
Ярился Зализняк, глядя на бесплодные попытки сотен подступить к крепости. Мрачно теребил длинный ус Гонта, видя, как поселяется неуверенность в его казаках. Опять зароптали колии – голоса злые, непослушные; некоторые – в темноте и сумятице, – воровато оглядываясь, бочком побежали к лесу.
Оставив отошедших к опушке казаков, сшибая с ног попадавшихся по пути колиев, Гонта поскакал к Зализняку.
– Если к утру не возьмём Умань, – крикнул он, сверкая глазами, – все разбегутся!
– Сам вижу! – не поворачивая головы, досадливо рыкнул Максим. И тут же, уже страдальчески, бросил глухо: – Подскажи, что делать... Столько людей положил зря.
Гонта, сдерживая разгорячённого коня, прохрипел без надежды:
– Дай отдых до зари... А там... Бог поможет...
Зализняк отвёл своё войско к лесу, откатил уцелевшие после дуэли с крепостными орудиями пушки, но спать колиям не разрешил – велел вскрыть все бочонки с вином и горилкой, чтоб помянуть погибших, взбодрить уцелевших.
Пили все – охотно, много, не закусывая, кляня поганых ляхов, нахваливая убиенных. А распалённый неудачами Максим, белея шёлковой рубашкой, разъезжал на лошади между правивших тризну колиев и, потрясая саблей, осипшим от крика голосом обещал отдать им Умань на один день в полное их владение.
– Всё ваше, – сипел Зализняк, тыча саблей в озарённую крепость. – И золото... И бабы... Всё берите!
А в ответ – пьяное, жуткое, злобное:
– Веди нас, батька!.. Веди, атаман!..
И когда допили колии остатки вина и горилки, ухватили покрепче колья и топорища, вскинули пики, сабли, косы. И в хмельной лютости, отчаянно, обречённо, пошли на последний штурм.
Перескакивая через убитых и раненых, сметаемых наземь картечным огнём ляхов, они подбежали к палисаду, навалились, натужились, проломили порубленные ранее топорами места и хлынули к крепостным воротам.
Теперь пушки стали не опасны: картечи шелестели высоко над головами колиев, уносясь в опустевшее за палисадом поле. Но со стен Умани на их головы обрушился парящими струями обжигающий кипяток, полилась чёрная булькающая смола, с тихим присвистом полетели ружейные пули.
Дикие, звериные крики обваренных и обожжённых людей, катавшихся по земле от безумной боли, лишь на какие-то мгновения сковали сердца колиев щемящим ужасом. Но когда закопчённые котлы опустели, воспрянувшие духом сотни снова подступили к самым воротам, тараня створки увесистым бревном из развороченного палисада, сбили засовы и, разгоняя жолнеров-привратников, ворвались в крепость.
Обозлённые безуспешными ночными приступами, жаждавшие мщения за немалые потери, казаки и колии пощады не знали – рубили, кололи, резали всех, кто попадался на пути: жолнеров и обывателей, богатых и нищих, мужчин и женщин, стариков и детей.
Полегли под острыми саблями, под косами и кольями паны Марковский, Корженевский, Завадский, Цисельский, Томашевский, Шафранский... Ксёндза Костецкого вытащили за ноги из Базилианской школы и тут же, у резных дверей, чёрным мешком подняли на вилах... Поручик Ленарт попытался защититься шпагой, но стальной клинок переломился, тонко зазвенев, под страшным ударом осинового кола; второй удар расплющил поручику голову, брызнувшую из-под суконной шляпы кровавым студнем... Полячек и жидовок тащили за волосы в комнаты, торопливо рвали одежды и терзали до смерти. Младенцев, забавляясь, ловили на пики...
Весь день и всю ночь шло свирепое, неистовое душегубство. Месть колиев была кровавой – по свидетельству современников, в Умани погибло до 18 тысяч человек.
После уманьской резни прошла неделя.
Затяжной, с потерями штурм крепости принудил Зализняка дать передышку утомлённому войску. Но сам Максим, окрылённый благополучным исходом приступа, не смог усидеть без дела. Пока колии скорбно хоронили убитых, залечивали раны, делили награбленное добро, он с небольшим, в триста сабель, конным отрядом совершил быстрый набег на польское местечко Палеево Озеро, стоявшее вёрстах в тридцати к юго-западу от Умани. Опять гайдамаки рубили ляхов и жидов, грабили и жгли их дома, превратив в считанные часы цветущее селение в опустевшее пепелище.
Но добыча, против ожидания, оказалась невелика: часть здешних обывателей, прослышав об ужасах, постигших жителей Умани, не стала дожидаться такой же кровавой участи – заранее собрала пожитки, усадила на телеги домочадцев и бежала к реке Кодыме в пограничный городок Балту.
Зализняк поленился их преследовать – послал к балтскому каймакаму Якуб-аге есаула и сотника с требованием выдать палеевцев.
Якуб-ага, чуть шевеля губами, молча прочитал атаманово письмо. Но с ответом помедлил, призадумался, косо поглядывая на незваных гостей.
И в прежнюю бытность переводчиком у хана Керим-Гирея, и позже, исполняя должность каймакама, он наловчился едва ли не с первого взгляда распознавать людей добропорядочных и прямодушных от плутов. И теперь, присмотревшись к казакам, разодетым в богатые, но явно с чужого плеча одежды, ага засомневался, что они представляют грозного Зализняка, слух о котором парил не только над Украиной и Польшей, но и над землями, входившими в состав Крымского ханства.
– Так какое твоё слово будет? – нетерпеливо и грубо спросил есаул, спесиво выпячивая губу.
– Я атамановой подписи не знаю, – сказал уклончиво Якуб, сворачивая бумагу. – Мало ли кто сюда пишет. Может, это и не его письмо... Тем более что никакого уважения ни словом, ни подарком атаман мне не оказал.
– Окажет, коль палеевцев выдашь, – лениво ухмыльнулся стоявший рядом сотник, дохнув на агу крепким запахом горилки и лука.
Но Якуб уже принял решение й отмахнулся небрежно:
– Не дело ханского каймакама ублажать всякого встречного. Ныне много разных злодеев по земле бродит.
– С огнём играешь, ага, – глухо пригрозил есаул, затуманив гневом взор припухших глаз. – Благодари Бога, что батька письмо послал, а не с оружием нагрянул.
Если бы этот разговор проходил без свидетелей, то слабосильный и трусливый Якуб вряд ли отважился бы перечить плечистому хмельному есаулу. Но сейчас, окружённый десятком стражников, он был смел – выбросил вперёд руку, лающе взвизгнул:
– Вышвырните эту собаку из моего дома!
– Чаво-о? – опешил есаул, собирая к переносице кустистые брови. Его нечистая волосатая рука потянулась к висевшей на боку сабле.
Ага, втягивая голову в острые плечи, испуганно попятился, призывно оглянулся на стражников – вспомнил, что они не понимают по-украински, – крикнул ещё раз, уже панически, по-татарски.
Стражники мигом набросились на есаула и сотника, сбили с ног и, ткнув потными лицами в пыльный ковёр, скрутили руки.
Вновь осмелевший ага подошёл к ворочавшимся на ковре казакам, легонько пнул сапогом сотника, сказал, отвернув голову:
– Этого в подвал, а того – отправьте назад.
Татары кучкой обступили казаков. Один, наклонившись, ловкими движениями снял с них сабли, вытащил из-за поясов пистолеты, кинул под ноги каймакаму. Остальные подхватили казаков под руки, вытолкали за дверь. Сотника сразу же повели в глубь двора к покосившемуся сараю, а с есаула сдёрнули путы, усадили на лошадь и отпустили с миром.
Якуб-ага наблюдал за происходившим во дворе, пригнувшись к небольшому мутному окошку. Когда есаул, погрозив кулаком, ускакал, он, задумчиво пощипывая пальцами редкую бородку, походил по комнате, затем, метнув короткий взгляд на сидевшего за столом писаря Якова Поповича, стал диктовать письмо Зализняку.
Ага не знал, какое войско стоит в Палеевом Озере, но разгромленная Умань говорила, что сила у мятежного атамана большая. Будучи человеком трусливым и, стало быть, осторожным, он, поразмыслив, решил не обострять с ним отношения. И в недлинном письме весьма пристойно попросил указать: атаманом каких войск тот является? с какой целью преследует польских подданных? почему угрожает Балте, часть которой находится под властью крымского хана?
Письмо повёз квартировавший в городе запорожский старшина Семён Галицкий, которому Якуб-ага придал для охранения и представительности двух турецких янычар.
– Ты приглядись к атаману, – напутствовал он старшину. – Какого полёта птица? И много ли под его крылом казаков собралось?.. Время нынче сам знаешь какое – предусмотрительность нужна особая...
Галицкий вернулся на следующий день с ответным посланием Зализняка. Тот написал, что кошевой атаман Запорожского войска прислал его в эти земли для истребления всех ляхов и жидов. И ещё раз потребовал выдать без промедления беглецов-палеевцев.
Якуб-ага бросил замусоленное письмо на стол, посмотрел на Галицкого, спросил выжидательно:
– А ты что скажешь?.. Показался тебе Зализняк?
Старшина уверенно дёрнул лобастой головой:
– Я всех атаманов знаю. Несхожий он ни с кем.
– Самозванец?
– Голытьба, в паны захотевшая... Да и не мог кошевой атаман Калнишевский приказать казакам зачинать войну... Тем паче – угрожать Балте.
– Полагаешь, сюда Зализняк не сунется?
– Пужает атаман... Авось сробеешь.
– Ну нет, – захорохорился уязвлённый Якуб-ага. – Пусть он робеет перед ханским каймакамом! За мной Крым и Высокая Порта!.. – А потом добавил каким-то извиняющимся тоном: – Ни хан, ни султан не потерпят каймакама, который станет ублажать первого встречного.
Ага резко повернулся к Поповичу и, подбирая слова пообиднее, продиктовал, что Зализняка никаким атаманом не признает и беглецов не выдаст. Затем приказал освободить сидевшего под арестом сотника, вручил ему письмо и отпустил в Палеево Озеро.
Выслушав ответ каймакама, Зализняк крепко осерчал от проявленного к нему пренебрежения, рыкнул хрипло сотнику Шило:
– Бери, Василь, своих хлопцев и научи басурмана атамана чтить.
Охочий по любому поводу помахать саблей Шило расправил пышные усы, свисавшие подковой до кадыка, сказал самодовольно:
– Научу, Максим... Навек запомнит...
В туманном рассвете, вынырнув, словно призраки, из ближнего лесочка, гайдамаки стремительно налетели на спящую Балту, порубили поляков и жидов и, увлёкшись, не пощадили многих жителей мусульманской веры, попавших под горячую руку. Переправляться через Кодыму, отделявшую польскую часть городка от татарской, гайдамаки не стали.
– Хрен с ним, с каймакамом! – крикнул Шило, вытирая сдернутым с какого-то плетня рушником окровавленную саблю. – Скажем, что сбежал, сука...
Гайдамаки деловито стали выгонять из дворов лошадей и скотину, запрягать повозки, грузить на них припасы и домашнюю утварь побитых балтцев. Спустя час довольная удачным набегом сотня, запалив для острастки несколько богатых домов, отправилась в обратный путь, таща за собой два десятка возов награбленного добра.
Всё это время жители татарской стороны, высыпавшие на правый берег Кодымы, в тягостном оцепенении и бессилии взирали на лютовавших на другом берегу гайдамаков, но никаких действий не предпринимали. Когда же Шило покинул разорённый, дымящий пожарами городок, они осмелели, торопливо переправились через речку и учинили ещё один погром, но теперь уже над жившими там православными, которых гайдамаки, естественно, не тронули.
Спасаясь от смерти, христиане побежали в окрестные леса, а несколько человек, проживавших на краю городка, успели вскочить на коней и бросились догонять Шило.
Сотник, отъехавший всего на три-четыре версты, с полуслова понял гонцов, оставил десяток гайдамаков охранять обоз, а сам с остальными помчался в Балту.
Турки и татары, шарившие в опустевших домах, не ожидали возвращения сотни и, побросав награбленное, в смятении кинулись к стоявшим у берега лодкам. Те, кто успел отчалить, смог вплавь пересечь речку – спаслись от острых сабель и пик. Отставших, не успевших спрятаться в укромные места, разъярённый Шило рубил без разбора.
Очистив Балту, разгорячённые сечей гайдамаки прямо на конях бухнулись в нагретые солнцем тёплые воды Кодымы, мокрые, ожесточённые выскочили на другом берегу и принялись громить татарскую сторону – Галту.
Посеревший от страха Якуб-ara, запрудив двор стражей, запёрся в доме и стал ждать помощи от ногайцев. (Когда сотня начала переправу, он отправил двух гонцов к стоявшим в нескольких вёрстах к югу буджакам). Но прошло около часа, прежде чем ногайцы подскакали к Галте, тоскливо вытянувшей в голубое небо желто-пепельные шлейфы мохнатых дымов.
Увидев летящих на крепких низкорослых лошадях буджаков – их было до полутысячи. – Шило порядком струхнул. Но зная, что они боятся артиллерии, приказал демонстративно выкатить на ближний холм имевшиеся у него две небольшие пушечки.
Пушкари набили стволы рубленым железом – картечи у них не было да и пороха – на один заряд, – на глазок навели, где всадников было погуще, приложили фитили. Пушечки бахнули приглушённо, со скрежетом – и удачно: сразили трёх ногайцев и до десяти лошадей.
Несмотря на свою многочисленность, буджаки – страшась новых залпов – стали придерживать лошадей, перешли на рысь.
А пушкари, суетливо изображавшие готовность продолжить стрельбу, выждали, оглядываясь, когда сотня закончит переправу назад в Балту, бросили ставшие бесполезными теперь пушки, резво поскакали к Кодыме и тоже ушли на левый берег.
Ни буджаки, ни оставшиеся в живых татары преследовать гайдамаков не рискнули. Несколько часов простояли они на берегу, угрожающе размахивая кривыми саблями, постреливая в воздух из ружей и пистолетов. Затем ногайцы, забрав убитых соплеменников, вернулись в свои аулы, а татары по приказу Якуб-аги, опасавшегося ещё какого-нибудь подвоха, выставили на ночь по всему берегу Кодымы усиленные посты.
На следующее утро бывшие при каймакаме янычары стали требовать, чтобы он направил ногайскую конницу в Палеево Озеро. Но Якуб, осторожничая, отказывался сделать это, ссылаясь, что не имеет ханского повеления вторгаться в польские земли.
А к полудню в Балту прискакал от Зализняка знакомый уже есаул, который привёз новое письмо атамана.
Посылая Василия Шило припугнуть каймакама, Зализняк не думал, что тот устроит погром на татарской стороне, и, робея, видимо, перед возможным возмездием крымского хана, пообещал вернуть часть награбленного сотником добра. А взамен каймакам должен был письменно подтвердить, что никаких претензий к гайдамакам не имеет.
Якуб понял, чего боится атаман, писать, конечно, ничего не стал, а Зализняк, не дождавшись ответа, всё же вернул утварь и часть скотины.
* * *
Июнь – июль 1768 г.
В другие, более спокойные, времена сожжению Балты турки, скорее всего, не придали бы чрезмерного значения – большие и малые конфликты на границах случались часто. И когда они происходили, правительства затевали долгую, с взаимными обвинениями переписку и после нахождения виновных, их наказания, возмещения ущерба потерпевшей стороне, конфликт считался исчерпанным, хотя отзвуки его ещё несколько месяцев будоражили обывателей пограничных земель, неприятной тенью ложились на сложные взаимоотношения двух империй.
Так же улаживались дела и с Крымским ханством, чаще всего страдавшим от наскоков своенравных запорожцев.
Вероятно, подобным образом решился бы и балтский конфликт. Однако пришедшее в конце июня в Константинополь письмо от Якуб-аги придало разбойному нападению сотника Шило совершенно иное звучание.
Не жалея самых чёрных красок, каймакам устрашающе описал, как русские войска, нарушив прежний договор с Портой, вероломно напали на Галту и Дубоссары, несколько дней люто зверствовали там, безжалостно истребляя всех жителей и предавая огню и разграблению их дома. По словам аги, русские солдаты убили до тысячи восьмисот человек, в том числе одного султанского сына и знатного татарского мурзу...
В конце декабря 1762 года Якуб-ага, бывший тогда личным переводчиком хана Керим-Гирея, стараниями офицера «Тайной экспедиции» поручика Анатолия Бастевика и российского консула в Бахчисарае премьер-майора Александра Никифорова был склонен к сотрудничеству с «Экспедицией» и поклялся на Коране, что по собственной доброй воле станет уведомлять их о всех крымских делах, обсуждаемых в диване. В Петербурге были в восторге от приобретения столь ценного конфидента – Якубу определили весьма значительный пансион – 900 рублей в год, а Бастевика императрица произвела в капитаны.
Поначалу ага исправно отрабатывал получаемые деньги, регулярно сообщая тайные рассуждения дивана консулу Никифорову, а после скандального отъезда того из Бахчисарая[5]5
В декабре 1764 года от Никифорова сбежал 14-летний крепостной Мишка Авдеев. Не желая возвращаться к постоянно избивавшему его премьер-майору, он принял магометанскую веру. Никифоров попытался силой вернуть беглеца, но, ослеплённый гневом, не понимал, что на магометанина Махмуда у него теперь никаких прав нет.
Возмущённый беспардонным поведением консула, хан Селим-Гирей пожаловался султану Мустафе, и турки через резидента Обрескова потребовали от Петербурга отозвать Никифорова из Крыма. Чтобы избежать позора высылки консула, Иностранная коллегия вынуждена была удовлетворить их требование.
10 января 1765 года Никифоров, получивший в указе коллегии жестокий выговор за «горячий и непристойный поступок», покинул Бахчисарай.
[Закрыть] – присылал в Киев через доверенных лиц шифрованные «цифирной азбукой» письма. В смутное время борьбы России за польский престол и коронования Станислава Понятовского, он предупредил об опасениях Крыма, «что России достанется вся польская Украина».
«Здешнее правительство, – писал ага, – опасается того, что якобы Россия нынешнего короля польского избрала с намерением соединиться с Польшей или на время покорить её, а тогда последовало бы неблагополучие нашему государству».
В Петербурге не оставили без внимания усердие переводчика. Из Коллегии иностранных дел в Киев пришёл указ, в котором предписывалось генерал-губернатору Воейкову «старание приложить, елико благопристойность того дозволяет, частую и надёжную с ним продолжать переписку, наполняя письма свои ласковыми и дружескими к нему отзывами. Он ныне, находясь при хане крымском в делах, до пограничных касающихся, не токмо нужным для того признается, но и надёжнейших от него уведомлений о всех обращениях ожидать должно».
Но вскоре безмятежная жизнь ага подверглась суровым испытаниям. На место Керим-Гирея султан Мустафа поставил нового хана – Селим-Гирея, которому недруги и завистники Якуба сразу же принялись нашёптывать о неверности переводчика. Правда, Селим правил недолго, но дряхлый Арслан-Гирей-хан перед смертью всё же лишил агу должности при дворе и отправил каймакамом в Балту и Дубоссары.
Теперь письма от Якуба стали приходить в Киев не часто. А после того как осенью 1767 года он познакомился с новым французским консулом в Крыму майором бароном Францем де Тоттом, проезжавшим в Бахчисарай через Балту, и близко с ним сошёлся, переписка почти прекратилась. Редкие его послания не содержали интересующих Веселицкого сведений, а сводились в основном к требованию выплаты награждения. Сначала ага настойчиво просил десять беличьих и пять горностаевых шуб, «вовчуру белую вовчую» и «душок лисячих пар сорок», а затем пансион за год вперёд.
Видавший виды Веселицкий заподозрил Якуба в измене, перестал доверять ему и поручил Бастевику найти конфидента, который мог бы приглядывать за агой. Таким конфидентом стал Яков Попович, служивший у каймакама писарем. Попович подтвердил существование тайной переписки Якуба с Тоттом и даже выяснил, что барон платил по двести золотых за каждое письмо.
Всё говорило о том, что каймакам стал «двойным агентом», однако Веселицкий не торопился отказываться от его услуг, ибо предавал Якуб не российские, а крымские и частично турецкие тайны. Правда, приказал Бастевику, время от времени лично навещавшему агу, быть предельно осторожным в разговорах, ни словом не упоминать о людях и планах «Экспедиции» в здешних землях.
А Якуб-ага, не оставляя своих домогательств к канцелярии советнику с пансионными деньгами, всё больше попадал под влияние щедрого на подарки Тотта. Барон приехал в Крым выполнять волю герцога Шуазеля, стремившегося поскорее столкнуть в войне Турцию и Россию, и надеялся использовать для этого чёрного дела Якуба. И когда запылала Балта, именно по его наущению каймакам исказил ход конфликта, приписав разбойное нападение российским войскам. Но об этом не знали ни Попович, ни Веселицкий, ни крымский хан Максуд, ни даже турецкий султан Мустафа.
...Письмо каймакама привело султана в небывалую ярость.
– Проклятые гяуры дорого заплатят мне за обиду! – исступлённо кричал он, судорожно кривя губы. – Клянусь Аллахом – это была их последняя дерзость против Блистательной Порты! Где их посол?.. (Султанский взгляд метнулся на Муссун-заде). Немедленно вызвать эту жирную свинью!.. И покажите бумагу от каймакама! Посмотрим, что он скажет на этот раз...
Российский резидент Алексей Михайлович Обресков уже свыкся с тем, что в последние месяцы его всё чаще требовали в сераль для объяснений в связи с присутствием русских войск в Польше и их ратных действий против барских конфедератов. Поэтому он совсем не удивился, когда введённый переводчиком Александром Пинием в кабинет турецкий чиновник настоятельно предложил скорейшим образом прибыть к великому везиру по весьма срочному и важному делу. Лицо у турка было злое, голос резкий, неучтивый. Это насторожило бывалого Обрескова, знавшего по опыту, что чиновники, как и господские лакеи, оказываясь на людях, в разговорах и повадках, как правило, подражают своим хозяевам. Из поведения и слов турка следовало, что обычно уравновешенный Муссун-заде действительно чем-то крайне недоволен.
Алексей Михайлович мысленно перебрал последние события в Польше, но ничего особенного, что могло бы вызвать такой гнев Порты, в них не нашёл. А от ответа на вопрос о причине столь срочного вызова чиновник уклонился, повторив ещё настойчивее, что резидента ждут в серале...
Пятидесятилетний тайный советник Обресков большую часть жизни провёл в Константинополе, куда попал по воле случая.
Много лет назад, будучи ещё молодым человеком, он поступил в Сухопутный шляхетский корпус, и на втором году учёбы, страстно влюбившись, тайно женился. Такой поступок грозил кадету судом и разжалованием в солдаты. Избежать позора помог близкий друг – Пётр Румянцев, который упросил своего отца графа Александра Ивановича Румянцева, отправлявшегося в 1740 году в Константинополь послом, взять Обрескова в свиту «состоящим при посольстве».
После внезапной – во время приёма у прусского министра – смерти от апоплексического удара российского посланника Андриана Неплюева Обресков в январе 1751 года был назначен поверенным в делах, а в ноябре – резидентом.
Алексей Михайлович был умён, хорошо образован, свободно говорил по-турецки и по-гречески. Огромный опыт, завидное знание сильных и слабых сторон турецкого правительства, близкое знакомство со многими чиновниками, с послами других европейских государств позволяли ему активно влиять на российско-турецкие отношения, весьма умело устраняя возникавшие по разным поводам трения.
В 1762 году Екатерина «за сохранение чести и благопристойности двора» пожаловала Обрескова орденом Анны 1-й степени.
...Объяснения с Муссун-заде и рейс-эфенди Османом оказались действительно трудными.
– Мы всё больше подозреваем, – резко выговаривал резиденту рейс-эфенди, – что твоя королева задумала хитростью и коварством нанести Высокой Порте неисчислимые несчастья. Скажи, почему такая могучая держава, как Россия, медлит с поражением барских конфедератов?
– Моя государыня всегда исполнена милости и человеколюбия и не желает никого разить. Просто ныне она помогает законному королю восстановить порядок в Польше, где в последнее время усилились притеснения безвинных людей, – дипломатично ответил Обресков. – Что же касаемо Блистательной Порты, то её величество и в мыслях не держит злых намерений. Напротив, она желает и далее строго блюсти все заключённые договоры, крепя доброе соседство обеих империй.
– Твои слова приятны, но притворны! Вы умышленно затягиваете кампанию, чтобы подольше держать своё войско в Польше, ставя под угрозу наши границы.
– Я уже многократно говаривал ранее и могу повторить ещё раз – у России нет намерений нарушать Белградский трактат, – сдержанно возразил Обресков.
– А сожжение Балты и Дубоссар?! – воскликнул рейс-эфенди, довольный тем, что уличил резидента во лжи. – А две тысячи жителей, убитых там русскими солдатами?!
Увядающее лицо Обрескова медленно вытянулось в недоумённой гримасе:
– Какая Балта?.. Какие солдаты?.. Вы же знаете, что в тех землях наших войск нет.
Рейс-эфенди схватил лежавший на столе толстый свиток, тряхнул рукой, разворачивая его, показал резиденту.
– Вот подтверждение российского коварства и лживости твоих слов! Читай!.. Это письмо балтского каймакама. В нём всё описано.
Обресков кивком головы велел переводчику Пинию взять письмо.
Тот быстро пробежал глазами по строчкам и стал читать вслух, сразу переводя на русский язык.
По мере того как Пиний приближался к концу свитка, лицо Алексея Михайловича всё более мрачнело, в глазах появилась смутная тревога. Но ответил он хладнокровно:
– Я полагаю маловероятным, что такое нападение могло иметь место. У Балты наших полков нет... С другой стороны, я не хотел бы поставить сейчас под сомнение правдивость слов тамошнего каймакама о разбое, учинённом в вверенном его попечению городе. Возможно, нападение было. Но тогда его совершили какие-то смутьяны, а не российские войска... Ежели всё же были войска, то, вероятно, произошло некое недоразумение и, смею заверить, вопреки намерениям моей государыни. Её императорское величество не желает ухудшать отношения с Блистательной Портой!.. В этом не должно быть сомнения!.. И, узнав о случившемся, она, безусловно, в ближайшее время даст его светлости султану и крымскому хану надлежащие изъяснения и полное удовлетворение по всем пунктам... Я сегодня же напишу в Петербург!
Своими спокойными, уверенными рассуждениями Обресков смог несколько смягчить твёрдость и враждебность великого везира и рейс-эфенди, однако расставание было весьма холодным.








