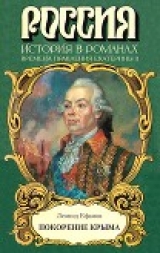
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)
– Как резидент её императорского величества, я аккредитован при вашей особе. И ежели ваша светлость доподлинно изволит отлучиться из города, то я, согласно моей должности, должен вас сопровождать. А в отсутствие вашей светлости мне в Бахчисарае быть неуместно.
Хан, ища ответа, скосил взгляд на Багадыр-агу.
Тот, не моргнув глазом, сказал спокойно:
– Площадным речам нет нужды внимать.
– Это смотря каким речам! – раздражённо бросил Веселицкий. – Что же прикажете мне думать, когда все только и твердят о походе?
– Мы своим обязательствам, договором закреплённым, верны свято и нерушимо, – изрёк напыщенно хан. – А на чернь, что злыми языками болтает, не обращайте внимания. Я прикажу разогнать её!
В тот же день татарские отряды, кутаясь в клубы дорожной пыли, действительно покинули город. Бахчисарай опустел, затих. А ханский телал – глашатай – до вечера ходил по кривым улицам, выкрикивая угрозы тем, кто будет говорить о турецком флоте, о походе и прочих военных приготовлениях.
– Этот резидент как заноза в пальце, – брюзжал Сагиб-Гирей, оставшись наедине с Багадыр-агой. – Про всё дознается!.. Уж не доносит ли ему кто наши тайны?
– Сам виноват! – непочтительно огрызнулся ага. – Зачем столько войска собрал? Пусть бы стояли в лесах и деревнях... Придёт время – в два часа все здесь будут!..
Стараясь скрыться от зоркого ока русского резидента, отряды разъехались по ближайшим от Бахчисарая деревням. (Веселицкий из города выезжал редко, поэтому хан надеялся, что, увидав опустевший Бахчисарай, он успокоится).
Но Бекир снова прислал к статскому советнику Иордана с уведомлением, что ахтаджи-бей Абдувелли-ага с тремя тысячами татар прячется в пяти вёрстах от города.
Веселицкий вызвал к себе полковника Нащёкина и приказал отправить в разведывание офицера с командой.
– Вы, господин полковник, накажите ему, чтоб отвечал на татарские вопросы уверенно: дескать, едет снимать план окрестных земель... А коль доберётся до аги – пусть напомнит этой сволочи, что при заключении трактата в Карасеве было условлено, чтобы крымцам более тридцати человек вместе не ездить. Иначе мы будем считать их нарушителями торжественного трактата и нашими неприятелями.
Через несколько часов Нащёкин доложил, что в двух вёрстах от деревни ахтаджи-бея офицер был остановлен татарским постом и далее проехать ему не позволили.
– Та-ак, – протянул Веселицкий, кусая губы. – Чует кошка, чьё мясо съела... Пошлите команду числом поболее!
Теперь на разведывание отправился полковник Либгольд с казачьей сотней. Татары его тоже остановили, но полковник – человек решительный и смелый – пригрозил, что проедет к are силой. Татары коротко посовещались, затем один из них молнией прыгнул в седло и ускакал в деревню. Спустя полчаса он вернулся, сказал, что ахтаджи-бей сам приедет к полковнику.
Либгольд понял, что ага хочет выиграть время, дабы убрать свой отряд в окружавший деревню лес, и, трогая коня с места, бросил небрежно:
– Не стоит утруждать столь достойного человека. Я сам отдам ему почтение.
Казаки, оттеснив татар, проследовали за полковником.
Конфидент Веселицкого не лгал: небольшая деревушка была буквально запружена конными и пешими татарами.
Недовольный появлением незваных гостей, Абдувелли-ага повёл себя вызывающе дерзко, кричал, что не русским указывать, кто должен обитать в его деревне. В ответ Либгольд, багровея лицом, стал угрожать ему наказанием за нарушение карасувбазарских договорённостей. Собеседники крепко разругались, оставшись каждый при своём мнении.
Вернувшись в Бахчисарай, Либгольд поспешил к Веселицкому и, распаляя себя воспоминаниями недавней ссоры, доложил обо всём увиденном и услышанном.
Пётр Петрович нахмурился: понял – татарский бунт неизбежен. Поблагодарив полковника за службу, он отпустил его, а затем написал обстоятельные рапорты Долгорукову и Якобию.
Ночью, бессонно ворочаясь в душной постели, он тронул рукой горячее плечо жены, сказал негромко:
– Завтра с детьми поедешь в Перекоп.
Жена, поглаживая распухший от бремени живот, вздохнула испуганно:
– Зачем в Перекоп, Петенька?
– Здесь скоро горячие дни настанут. А тебе рожать надобно... Проси его сиятельство отослать вас в Россию... Я уже написал ему...
К полудню багаж был уложен, и резидентская карета, сопровождаемая десятком казаков из команды Либгольда, раскачиваясь на ухабах иссохшей дороги, укатила на север.
Долгоруков, выслушав зачитанные адъютантом рапорт и письмо Веселицкого, с неожиданной беспечностью заметил:
– Наш старик совсем трусливым стал. Всё заговоры мерещатся... Татары не первый раз грозятся, а выступить – кишка тонка. И теперь так будет!
Он приказал ввести жену резидента, сказал несколько утешительных слов.
Но женщина, обхватив руками огромный живот, неуклюже опустилась на колени и, заливаясь слезами, стала целовать генеральскую руку:
– Не можно мне там... Боязно... Зарежут нас татары... И Петю зарежут.
– Ну-ну, – отдёрнул руку Долгоруков. – Полно, полно, сударыня... Встаньте!
И гневно мигнул офицерам.
Те подхватили резидентшу, поставили на ноги.
– Поживите покамест здесь, – успокоительно сказал Долгоруков, отирая мокрую кисть платком. И вполголоса добавил офицерам: – Баб мне только не хватало... Дня через два отправьте её назад в Бахчисарай...
* * *
Июнь 1774 г.
Очередное заседание Совета вёл Никита Иванович Панин. В который раз обсуждался вопрос о скорейшем заключении мира с Турцией. На правах председательствующего Никита Иванович говорил первым. Говорил долго, умными, отточенными фразами:
– С Бухарестского конгресса я примечаю, что Порта, упоминая о вольности татар, во всех своих отзывах уклоняется присовокуплять к слову «вольность» слово «независимость». Долг неусыпного нашего бдения полагает не дать ей воспользоваться сей хитрой уловкой варварской её политики, особливо когда мы согласились предохранить султанские преимущества над татарами по общему их единоверию. Полагаю, что и в новой негоциации она постарается избежать соединения этих двух слов. Поэтому я считаю за нужное ещё раз напомнить графу Румянцеву прилежно проследить, чтобы при подписании мирного трактата оба слова вместе оглавлены были и татары признавались областью в политическом и гражданском состоянии никому, кроме единого Господа, не подвластными... Из переписки графа с великим везирем видится, что Порта, по своему обыкновению, готовится тянуть негоциацию без границы, томя наше терпение и тем выторговывая для себя лучшие условия. Отечеству нашему мир весьма нужен, и мы оного со всей алчностью добиваться должны. Однако везир и турецкие министры крепко ошибаются, если полагают, будто у нас все государственные ресурсы истощены вконец, что мы не в состоянии продолжать войну, а поэтому станем сговорчивее...
– Напротив, – не удержался Захар Чернышёв, – к настоящей кампании приготовления везде изобильно сделаны.
Панин продолжал говорить:
– Понятно, что чем вяще удаляемся мы от своих границ и, следовательно, от центра ресурсов наших, тесня везирскую армию, тем более она к своим центрам приближается. Но с другой стороны, столь глубокое наше вступление в самую внутренность Порты может для Царьграда гораздо опаснее быть и оставить на долгое время следы нашествия. Ибо чем менее мы будем находить возможности установить в тех землях твёрдую ногу, тем более военный резон принудит нас опустошать все те места и селения, кои в пользу турецких войск служить могли бы. Ежели везир разумный полководец – он должен это понимать!.. И в этом я вижу возможности скорого примирения.
– Сомневаюсь, – с лёгкой иронией заметил Орлов. – Он же ваших рассуждений не слушает.
Шутка успеха не имела – все сидели с невозмутимыми лицами. И только Потёмкин растянул губы в рассеянной улыбке...
Генерал-поручик Григорий Александрович Потёмкин стал заседать в Совете с конца мая. Его появление там явилось полной неожиданностью – по двору поползли сплетни и домыслы. На деле всё было проще. Ещё зимой Потёмкин, тогда генерал-майор, написал Екатерине длинное письмо, в котором обидчиво пожаловался на невнимание к его персоне и попросил назначить генерал-адъютантом её величества. Екатерина, знавшая его по перевороту 1762 года, ответила милостиво, перевела из Первой армии в Петербург, дала новый чин и однажды, войдя с ним в комнату, где заседал Совет, сказала коротко и просто:
– Теперь, генерал, ваше место здесь...
...Панин не обратил внимания на реплику Орлова – граф, потеряв прежнее влияние, был не опасен, – и, сохраняя серьёзное лицо, продолжал говорить:
– Коль мы увидим усталость армии проводить войну наступательную – совсем мало трудов потребуется, чтобы превратить её в оборонительную. Но прежде следует все важные турецкие крепости, занятые нами, до подошвы подорвать и истребить, города и селения вконец опустошить, а жителей – всех без изъятия! – со всем имуществом перевезти в Россию. В империи есть ещё много мест, находящихся в пустоте и незаселённости!.. Такое, до последней головы, переселение жителей Бессарабии, Молдавского и Волошского княжеств будет весьма достаточно к награждению всех наших убытков, в войне понесённых, и обратится для Порты в самый чувствительный и непоправимый удар. Ибо лишится она знатных и плодородных провинций, кои самому Царьграду большую часть его содержания давали. Употребление сей крайней меры к облегчению нашего военного бремени находится в наших руках и принятие её токмо от нас зависит... Однако, не будем лукавить, существование и целость Порты через естественное связывание взаимных интересов столь же полезно для России, сколь и ей Россия. Порта должна это чувствовать не менее нашего и не подвигать нас на крайности, ибо великое пространство, опустошаемое в таком случае нашими войсками, сделают её физически почти не существующей с той стороны, где теперь театр войны происходит, и с которой мы атакованы могли быть. Тогда туркам к произведению войны одна перспектива будет – в возвращении под свою власть Крымского полуострова и всех татар. Но кто беспристрастным оком рассмотрит положение Крыма, близость оного к нашим границам, тот должен признаться, что, взяв там ныне твёрдую ногу, мы делаем совершенно невозможным изгнание нас оттуда силой оружия. Сухой путь к нашествию турок заперт, а свобода моря будет оспариваться нашими судами. И ежели великий везир имеет на плечах разумную голову, он должен понять, что лучше получить некоторые преимущества по мирному трактату, нежели разорённому остаться и без всяких приобретений.
Панин закончил говорить, неторопливо сел, утёр платочком вспотевшее лицо.
– Тут и рассуждать нечего, – раздался голос Потёмкина. – Граф Никита Иванович прав во всём, в каждом своём слове!
– Следует поскорее дать необходимые инструкции графу Румянцеву, – поддержал Потёмкина вице-канцлер Голицын. – И не отступать от них ни на шаг...
* * *
Июль 1774 г.
4 июля турецкое посольство в двести человек, тягучей пыльной колонной пройдя сквозь полки Каменского, остановилось в деревне Биюк-Кайнарджи, расположенной в четырёх вёрстах от Кючук-Кайнарджи, где держал ставку Румянцев. Сопровождавший турок майор князь Вадбольский послал к фельдмаршалу курьера.
Румянцев, сидя на лавочке, выпустив из расстёгнутого мундира объёмистый живот, лениво щуря глаза от закатного солнца, выслушал курьера, махнул рукой:
– Скачи назад... Завтра поутру пришлю кого-нибудь.
Курьер сноровисто прыгнул в седло и умчался за околицу.
Румянцев вызвал полковника Петерсона. Настроение у фельдмаршала было благостное, и он, продолжая щуриться, шутливо сказал:
– Ты, полковник, с турками давнюю дружбу имеешь – встречай полномочных... С эскортом!.. Пусть знают, что на поверженных я зла не держу...
На следующее утро Петерсон, взяв с собой эскадрон карабинеров князя Кекуатова, лихо влетел в Биюк-Кайнарджи.
Ресми-Ахмет-эфенди изъявил желание поскорее приступить к переговорам.
Петерсон, глянув на Кекуатова, съязвил по-русски:
– Опосля шести лет войны – удивительная поспешность.
Но сдерживать турок, естественно, не стал, и посольство, сопровождаемое карабинерами, выкатило из деревни.
Петерсон ехал верхом, впереди всех. Рядом перебирала ногами лошадь Кекуатова. Майор то и дело оборачивался, проверяя, как движется колонна, и всё норовил перейти на рысь.
Петерсон охладил его резвость:
– Не в атаку идём, князь... Можно не спешить.
Колонна неторопливо подошла к русскому лагерю, остановилась шагах в пятидесяти от него.
К офицерам, загребая сапогами пыль, подбежал дежурный майор князь Гаврила Гагарин.
– Привезли?
– В каретах сидят, – махнул рукой Петерсон.
Гагарин метнул взгляд на кареты, стоявшие в отдалении. Стёкла на дверцах были опущены, в полумраке смутными пятнами застыли лица полномочных, выжидательно смотревших на офицеров.
– Пусть вылезают, – сказал Гагарин. И мрачно пошутил: – К позорному столбу в экипажах не едут.
Кекуатов тронул лошадь с места, протрусил к каретам, жестами показал, чтобы турки вышли.
Гагарин подвёл послов к дежурному генералу барону Ингельстрему. Рядом стоял генерал-поручик князь Николай Васильевич Репнин...
Определённый ранее вести негоциацию с турками Алексей Михайлович Обресков, квартировавший все недели после Бухарестского конгресса неподалёку от Ясс, в небольшом селении Роману, вовремя выехал к Румянцеву, однако разлившийся после обильных дождей Дунай смыл приготовленные переправы. Чтобы не терять время, Румянцев отозвал от командования 2-й дивизией Репнина и, как имевшего опыт политической деятельности в бытность свою послом в Польше, назначил его к производству негоциации.
...Генералы поприветствовали полномочных и, отпустив Гагарина, провели их к Румянцеву.
Турки долго кланялись фельдмаршалу, а затем проследовали за ним в дом для предварительной беседы.
Когда все расселись на указанные места, Пётр Александрович, оглядев турок, сказал негромко, но внушительно:
– Я согласен вести негоциацию при одном условии – подписать мирный трактат не позднее пяти дней.
Такое начало обескуражило турок, поскольку указание Муссун-заде о затягивании переговоров становилось невыполнимым. Ресми-Ахмет растерянно посмотрел на рейс-эфенди. У того в глазах смешались отчаяние и робость.
Ресми перевёл взгляд на Румянцева и неуверенно проговорил:
– В Бухаресте по многим пунктам послы обеих империй не пришли к единому мнению. Как же можно уложить в пять дней то, что безрезультатно обсуждалось месяцы?
– Вы, видимо, позабыли, господа, что приехали не обсуждать мир, а подписать его, – выразительно, с лёгкой угрозой заметил Румянцев. – О пунктах уже было много говорено. Хватит! Наговорились! Теперь пришло время дело справить!.. – И он стал медленно перечислять главные кондиции мира. – Российские условия таковы... Все татары остаются вольными и ни от кого не зависимыми в их гражданских и политических делах и правлении. В духовных – пусть сообразуются с правилами магометанского закона. Однако без предосуждения вольности и независимости... Все крепости и земли, ранее татарам принадлежавшие, в Крыму, на Кубани, на острове Тамане им же отдаются. За Россией останутся только Керчь и Еникале с их уездами, о чём с ханом у нас есть подписанный договор... Блистательная Порта уступает России Кинфурн с его округом и степью, между Бугом и Днепром лежащую... Россия получает свободное судоплавание в Чёрном и Белом морях и на Дунае... За убытки, понесённые нами в этой войне, Порта заплатит четыре с половиной миллиона рублей...
Ахмет-эфенди, не дослушав фельдмаршала, осмелев от отчаяния, воздел руки к небу:
– Аллах свидетель – это не мир. Это ограбление!
– Это не ограбление, а кондиции, которые диктуются побеждённой державе державой превосходящей!
– Держава побеждена, когда она это признает! А у нас ещё достаточно войска, чтобы таковой себя не считать!
Лицо нишанджи горело негодованием. Ибрагим-Муниб, молча внимавший острому разговору, почувствовал, что эфенди, презрев все наставления великого везира, готов был покинуть негостеприимного Румян-пашу. Но такой шаг означал бы продолжение войны, разгром турецкой армии и, возможно, падение Стамбула, оставшегося бы совершенно беззащитным.
Рискуя навлечь на себя гнев нишанджи, Ибрагим постарался смягчить натянутую атмосферу разумным замечанием:
– Блистательная Порта не ставит под сомнение доблесть обеих империй. Кровь, пролитая их подданными, одного цвета. И мирные пункты должны в равной мере учитывать достоинство воевавших держав.
Слова, сказанные рейс-эфенди, Румянцеву понравились. Объявляя условия мира, которые бы обезопасили империю, он стремился соблюсти условия, предъявленные Россией ранее, в Бухаресте. Вместе с тем, решив усилить их, он понимал, что горделивые турки никогда не признают, что война ими проиграна. Поэтому приготовил ряд уступок.
– Ваш приятель не утерпел дослушать до конца мои пункты, – сказал он, обращаясь к рейс-эфенди. – Россия оставляет Порте город Очаков с древним его уездом, возвращает Бессарабию, Молдавию и Валахию со всеми городами и крепостями, в том числе отдаст Бендеры и прочие уступки сделает. Но о них с вами говорить будет князь Репнин, коему я поручил ведение негоциации... (Румянцев плавным жестом указал на сидевшего рядом с ним князя. Тот еле заметно кивнул и снова замер, строго поглядывая на турок). Я не задерживаю вас более!
Полномочные послы, Репнин, переводчики вышли за двери и проследовали в соседний дом, где предстояло обговорить оставшиеся после Бухареста нерешённые кондиции.
А Румянцев отправил великому везиру короткое письмо:
«Как только от вашего сиятельства я получу надлежащее благопризнание на мирные артикулы, вашими полномочными постановленные, то в ту же минуту корпусу генерал-поручика Каменского и в других частях прикажу удержать оружие и отойти из настоящего положения...»
* * *
Июль 1774 г.
Несмотря на все старания Веселицкого удержать татар от выступления на стороне Хаджи-Али-паши, угроза татарского бунта не только не миновала, но, напротив, стала очевидной. Всё должно было решиться в несколько дней.
Конфидент Бекир донёс резиденту, что хан Сагиб-Гирей попросил у турок пушки, без которых он боялся атаковать гарнизоны. Али-паша пообещал их дать. Тогда хан вызвал к себе Мегмет-Гирей-султана и поручил ему в тайне от русских собрать у селения Старый Крым, ближе к морскому берегу, пятьсот арб и тысячу быков для перевозки пушек и необходимых к ним снарядов.
Веселицкий, узнав о таких приготовлениях, устрашился, в разговорах с Дементьевым открыто стал ругать Долгорукова за непонятную пассивность.
– Ну что он делает в Перекопе?! Почему не спешит войти в Крым? Неприятелей легче упредить, нежели потом воевать... А ныне мы здесь крайней опасности подвержены. И коль князь не пришлёт несколько повозок с упряжками для препровождения нас к армии – сгинем все до единого.
– Может, ещё обойдётся, – неуверенно сказал Дементьев, хорошо понимая, что бунт неизбежен.
– Э-э, – отмахнулся Веселицкий, – тебе легко. Ты один. Может, ускользнёшь, упасёшься. А мне с мальцами и женой как? Порежут ведь без жалости!
Вечером, сломленный страхом, он написал Долгорукову письмо. Просил спасти. А чтобы не посчитали трусом – приписал в конце, что готов пожертвовать собой и всем семейством, лишь бы «оное в пользу любезного отечества обратиться могло».
Отправляя нарочного в Перекоп, Пётр Петрович не знал, что Долгорукова там уже нет. Глотая сухую просоленную пыль, по присивашской степи маршировали пехотные батальоны, лёгкой рысью трусила кавалерия – армия Долгорукова вошла в Крым, держа путь к Акмесджиту.
* * *
Июль 1774 г.
Князь Репнин провёл переговоры с турецкими полномочными за один день. Это были даже не переговоры, а длинный монолог Репнина: он мерным, чуть монотонным голосом зачитывал артикулы будущего договора, быстро окидывал взглядом сидевших напротив него турок и, не давая им возможности высказаться или заспорить, снова опускал голову – зачитывал следующий артикул. Ресми-Ахмет-эфенди несколько раз протестующе всплёскивал руками, пытался вставить слово, но князь решительным жестом останавливал его. А перед тем как зачитать артикул о Крыме, Репнин разразился длинной речью, словно подсказывая туркам необходимую и приемлемую для России трактовку этого важнейшего вопроса.
– Все наши обоюдные прежние войны происходили по большей части за татар и от татар, – говорил Репнин. – Блистательная Порта неоднократно признавалась нашему двору, что не в силах обуздать хищность и своевольство сего легкомысленного и развращённого народа. Но доколе продолжался мир, мы не дозволяли себе искать иных средств к ограждению наших границ, кроме обычных формальных представлений Порте. И при каждом почти таком случае довольствовались одними извинениями и обетами турецких министров. Теперь же, когда война разрушила прежнюю политическую связь, мы были принуждены стараться изыскать наперёд новые основания и образ будущего мира, дабы сохранение его сделать совсем независимым от своевольства и дерзости наглых татар. И открылись нам к этому два пути. Один – через совершенное истребление татар силой оружия, другой – через изменение их бытия, что позволило бы сделать народ тихим, к порядочному общежитию способным и, следовательно, не менее других заинтересованным в сохранении мира. Человеколюбие её императорского величества избрало тот путь, который сооружает, а не разрушает блаженство целого народа. Для чего решилась она даровать всем крымским и ногайским татарам вольность и постановить их посереди обеих империй барьером, который бы целостностью своей и ту и другую сторону интересовал... Требуя от Порты подобного же признания татар нацией вольной и независимой, мы, однако, не сделали затруднения в оставлении за султаном всех духовных прав, кои ему по магометанскому закону принадлежат. Но в уравнении столь важной поверхности хана над татарами, в прочное утверждение их гражданской и политической вольности и наипаче в приобретении пункта, от которого бы взаимная торговля могла Процветать, а со временем составить для подданных обеих империй новый узел пользы и тем сделать сохранение мира более важным и нужным, возжелали мы иметь на полуострове Крым крепости Керчь и Еникале, дабы там учредить штапель нашей торговли и иметь в близости готовую для татар тропу, если бы кто-либо (Репнин чуть было не сказал «Порта») покусился на их вольность... Керчь и Еникале могли бы ещё и к тому служить, чтобы самих татар обуздывать, ежели бы они покусились, следуя своим прежним диким нравам, на разврат доброго соседства в границах наших или Порты. Ибо мы, – возвысил голос Репнин, – безопасность и целостность оных стали бы в новом мирном положении поставлять наравне с безопасностью наших границ... Исходя из всего сказанного, вам, милостивые государи, предлагается следующий пункт.
И Репнин зачитал артикул о Крыме.
«Все татарские народы, – говорилось в артикуле, – крымские, буджацкие, кубанские, едисанцы, жамбуйлуки и едичкулы, без изъятия от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавной властью собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведённого, который да управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчёта ни в чём никакой посторонней державе, и для того ни российский двор, ни Оттоманская Порта не имеют вступаться как в избрание и возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, гражданские и внутренние их дела ни под каким видом, но признавать и почитать оную татарскую нацию в политическом и гражданском состоянии по примеру других держав, под собственным правлением своим состоящих, ни от кого, кроме единого Бога, не зависящих; в духовных же обрядах, как единоверные с мусульманами, в рассуждении его султанского величества, яко верховного калифа магометанского закона, имеют сообразовываться правилам, законом им предписанным, без малейшего предосуждения, однако, утверждаемой для них политической и гражданской вольности. Российская империя оставит сей татарской нации, кроме крепостей Керчь и Еникале с их уездами и пристанями, которые Российская империя за собой удерживает, все города, крепости, селения, земли и пристани в Крыму и на Кубани, оружием её приобретённые, землю, лежащую между реками Бердой и Конскими Водами и Днепром, также всю землю до польской границы, лежащую между реками Бугом и Днестром, исключая крепость Очаков с её старым уездом, которая по-прежнему за Блистательной Портой остаётся, и обещается по становлении мирного трактата и по размене оного все свои войска вывесть из их владений, а Блистательная Порта взаимно обязывается, равномерно отрешась от всякого права, какое бы оное быть ни могло, на крепости, города, жилища и на все прочие в Крыму, на Кубани и на острове Тамане лежащие, в них гарнизонов и военных людей своих никаких не иметь, уступая оные области таким образом, как российский двор уступает татарам, в полное, самодержавное и независимое их владение и правление».
Репнин передохнул, дочитал до конца обязательства Порты, затем огласил следующие артикулы, в том числе девятнадцатый – о Керчи и Еникале, – и предложил туркам подписать документ.
Ресми-Ахмет-эфенди беспомощно взирал на лежащие перед ним листы, не решаясь взять в руку перо. Ибрагим-Муниб тоже не торопился ставить свою подпись... Пауза затянулась.
Репнин настойчиво повторил:
– Мир ждут обе империи... Или вам хочется, чтобы и далее проливалась кровь?
Ахмет-эфенди, морщась, сказал неохотно, сквозь зубы:
– Названные пункты существенно отличаются от тех, которые предлагала согласовать Блистательная Порта... Без одобрения их великим везиром мы не станем подписывать такой трактат.
– Что ж вы предлагаете?
– Я поеду в Шумлу, покажу их великому везиру.
Репнин смекнул, что турок хочет потянуть время, и качнул головой:
– Вам не стоит утруждать себя излишними переездами. Пошлите кого-нибудь из своих людей!.. Нарочный обернётся в два дня. А чтоб в пути с ним ничего не случилось, я прикажу проводить его до крайних наших постов под Шумлой.
Возразить нишанджи не смог.
Спустя два часа турецкий нарочный, сопровождаемый двумя карабинерами и офицером, поскакал в расположение войск Каменского...
Муссун-заде, подслеповато щурясь, тяжко, страдальчески вздыхая, прочитал турецкий перевод статей договора, отложил бумаги, долго молчал, отвернув голову в сторону, уставя потухший взгляд в небольшое оконце. (Кусочек неба, резко очерченный желтоватым стеклом, был подернут зыбкими разводами сероватого дыма – это горели окружавшие Шумлу хлеба, подожжённые казаками Каменского). Везир припомнил Бухарестский конгресс, припомнил с сожалением, ибо тогда можно было подписать мир на более сносных условиях. Теперь же приходилось выбирать: либо сразу подписать продиктованный Румян-пашой мир, либо последует очевидный разгром турецкой армии – и снова мир. Но уже совершенно позорный, без малейшей возможности получить хоть какие-то уступки от России.
Муссун-заде опять глубоко, протяжно вздохнул, взял жёлтыми пальцами чистый листок, нервно черкнул несколько строк.
Нарочный вернулся в Биюк-Кайнарджи и передал полномочным послам согласие великого везира на все пункты без изменений и добавлений.
10 июля, в седьмом часу вечера, в присутствии Румянцева и генералов его штаба, Ресми-Ахмет-эфенди, а за ним Ибрагим-Муниб скрепили своими подписями составленный на турецком и итальянском языках мирный трактат.
Репнин подписывал его последним; долго, словно выбирая место, примеривался к бумаге, прежде чем размашисто заскрёб пером.
Стоявший у стола писарь осторожно посыпал лист мелким, похожим на пыль песком.
Князь встал, взял свой экземпляр трактата, подошёл к Румянцеву, с полупоклоном передал ему папку:
– Ваше сиятельство, мир в ваших руках!
Напряжение, обусловленное торжественностью и историчностью момента, спало – все радостно зашумели, поздравляя друг друга с долгожданным окончанием войны...
Спустя час Румянцев призвал к себе сына – полковника Михаила Румянцева, служившего при отце генерал-адъютантом, и секунд-майора Гаврилу Гагарина, протянул им папку с копией договора:
– Везите, господа, государыне счастливую весть!..
А Репнин тем временем проводил турецких полномочных к Биюк-Кайнарджи и, прощаясь, напомнил, что размен трактатов назначен на 15 июля.
– Теперь-то зачем спешить? – раздражённо бросил Ахмет-эфенди.
Репнин, милостиво прощая турку резкость, сказал снисходительно:
– Нам хочется поскорее порадовать вашего султана.
Нишанджи ожёг князя злым взглядом, но смолчал...
В указанный день, в четыре часа после полудня, в русском лагере звонкой россыпью затрещали полковые барабаны, вытянулись в шеренгах пехотные роты, у пушек застыли артиллеристы.
Ресми-Ахмет-эфенди, держа на вытянутых руках подписанный великим везиром и скреплённый его печатью экземпляр трактата, без всякой торжественности, постным голосом сказал негромко:
– Великий везир Муссун-заде Мегмет-паша все артикулы трактата приемлет и утверждает по силе полной мочи, данной ему от своего султана.
Бумаги принял Репнин. Он же передал туркам экземпляр, утверждённый Румянцевым.
Фельдмаршал наблюдал за разменом трактатов, стоя в нескольких шагах от Репнина, строгий, величественный, весь мундир в сверкающих орденах – истинно предводитель победоносной армии. Он участвовал во многих сражениях, одержал немало блестящих побед, но войну выигрывал впервые и был безмерно счастлив своей удачливостью. (Будущие историки, расписывая его подвиги, назовут эту войну коротко и точно – румянцевская).
Когда церемониал размена трактатов закончился и барабанщики разом прекратили выбивать дробь, в наступившей тишине бархатно прозвучал фельдмаршальский голос:
– Да многолетствуют наши государи!.. Да благоденствуют их подданные!
Солдаты и офицеры дружно гаркнули: «Виват!» Крик тут же потонул в длинном, тягучем грохоте салютующих пушек, поднявшим в небо с окрестных деревьев стаи испуганных птиц.
Сто один залп – таков был приказ фельдмаршала!
Артиллеристы продолжали ещё суетиться у орудий, вкладывали всё новые заряды, а на краю лагеря дождавшиеся сигнала нарочные офицеры – кто в карете, кто верхом – разлетелись в разные стороны, неся в своих сумках заготовленные в канцелярии пакеты с сообщениями о подписании мира.
Вечером, сидя во главе длинного стола, сплошь уставленного разнообразными и обильными яствами, захмелевший Румянцев расслабленно поманил пальцем Репнина.








