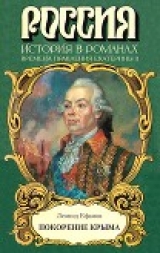
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 37 страниц)
– Нет, противоречит, – бойко возразил Мегмет. – Если в городах, что вы просите, все мечети будут превращены в церкви – это ли не нарушение наших законов?
– Я сей пункт неопровержимым доводом отвергну. И вы будете вынуждены признать, что подобный вымысел совершенно не уместен между просвещёнными людьми, – сказал Веселицкий, широким жестом обводя присутствующих. – Вот скажите мне чистосердечно: одного ли вы закона с турками придерживаетесь или между вами есть какой раскол?
– Никакого раскола нет, – охотно подтвердил Мегмет.
Темир-ага, соглашаясь, кивнул.
– Тогда поясните мне, – с притворным простодушием спросил Веселицкий, – почему же все турецкие султаны, при замирении со своими неприятелями, весьма часто большие города и крепости со множеством мечетей отдавали в вечное пользование христианам? При этом собственной рукой, и печатью, и министерскими руками, и печатями заверяли письменные акты, в коих оная отдача формально и торжественно подтверждалась. Разве при этом султан и министры не ведали, что мечети могут быть обращены в христианские храмы или в другие пристойные здания?.. Нет, они про то доподлинно знали!.. Так что же султан, по вашему рассуждению, через такой поступок стал нарушителем магометанской веры?.. Сдаётся мне, что ваши старейшины одним своим непоколебимым упорством в очевидном деле хотят прослыть более праведными магометанами, чем сам султан... Только кого они обманывают? Из сего упрямства ясно видно, что одной рукой они хватаются за нас, русских, а другой – за турок, – закончил Веселицкий, повторив почти дословно недавнее предупреждение Бекира.
– Ваши подозрения обидны и безосновательны, – неуверенно возразил Мегмет. – Хан и диван намерены состоять в дружбе с Россией, ибо независимость...
Веселицкий не дал ему договорить – резко перебил:
– Без подписания требуемого акта независимость ваша не будет утверждена! Прошу донести мои слова дивану...
На следующий вечер к Веселицкому пришёл Бекир. (Братьев Белух, как обычно, не было дома, но он к этому уже привык и даже перестал интересоваться своими учениками).
– Старейшины решили, – сказал он, отведав кофе, – что по прибытии Джелал-бея призовут тебя в диван для окончательных переговоров.
– А что у них в мыслях? – быстро спросил Веселицкий. – Пойдут на уступку?
– По наваждению Джелал-бея они откажутся подписать акт. И, кстати, послали письма ногайцам, чтобы те поддержали их в отказе уступить крепости.
Веселицкий обозлённо грохнул кулаком по столу:
– Сволочи!.. Ладно бы сами упрямились, так нет же – орды к разврату подталкивают... На что они надеются?
– На ожидаемую из Очакова турецкую помощь.
Веселицкий вскочил со стула, заходил по комнате, потом подошёл к столу, опёрся руками и, жарко глядя в глаза Бекиру, спросил недоверчиво:
– Откуда тебе это известно?
(Пётр Петрович заподозрил, что эфенди умышленно стращает его... «Может, подговорили старейшины, чтобы сломить меня?..»)
Бекир улыбнулся: он предполагал, что русский начальник засомневается в его словах, и подготовил такой ответ, который не только опровергнет подозрения, но и заставит щедро наградить.
– Откуда известно? – переспросил он, желая продлить удовольствие. – Из самых надёжных источников.
– Каких источников?
– Из уст Джелал-бея.
Веселицкий беспокойно воздел брови:
– Он сам тебе сказал?.. Не может быть!
– Почему же не может? – продолжал интриговать Бекир.
– Потому что о таких вещах стараются помалкивать.
Бекир оглянулся на запертую дверь, понизил голос до шёпота:
– Я имею концепты двух писем. Одно изготовлено для отсылки в Порту, но пока – за неимением случая – не отправлено. А другое – очаковскому паше – нарочный уже повёз. Оба письма продиктовал мне сам Джелал-бей!
Ошеломлённый Веселицкий долго, как заводной, раскачивал головой, не в силах выговорить ни слова. А потом упавшим, просительным голосом просипел:
– Я был бы крайне признателен, если бы вы, сударь, дали мне копии этих писем.
Наслаждаясь потрясением канцелярии советника, Бекир хладнокровно набивал себе цену:
– За эти копии я могу головы лишиться.
Лицо Веселицкого задрожало обиженно и трепетно:
– Неужели дорогой мой приятель считает меня способным на предательство? Если хочешь, я клятвой поклянусь сохранить всё в глубокой тайне!
– Зачем же тогда копии?
Веселицкий ответил честно:
– Я намерен отправить их его сиятельству в Полтаву для доставления высочайшему двору. Чтобы её величество самолично усмотрела суть дружбы крымцев.
Бекир плавным движением налил себе кофе, понюхал горьковатый аромат, сделал несколько глотков.
Веселицкий терпеливо ждал.
Бекир допил кофе, отставил чашку в сторону, утёр узкие, висящие подковкой усы и тихо – углом рта – выдохнул печально:
– Нет, дать не могу. А ну как хватятся?
– Кто?! Это же копии.
– А если твоего нарочного, что в Полтаву их повезёт, татары в пути задержат?
Веселицкий хотел возразить, что его нарочных крымцы не трогают, но осёкся – по лицу Бекира понял, почему тот упорствует. Он отошёл в угол комнаты, покопался в своём сундуке и бросил на покрытый толстой скатертью стол два кожаных кошелька.
– За дружбу... и за каждую копию даю по сто золотых!
Бекир деловито взял кошельки, по очереди подкинул их на ладони, ощущая приятную тяжесть, спрятал в карман.
– Концепты писем при мне. Но дать их я не могу. Я их прочту, а ты сам запиши всё, что нужно. Кроме тебя я никому не доверяю.
Веселицкий подошёл к двери, постоял, прислушиваясь, затем вернулся к столу, достал перо, бумагу, чернила и быстро записал содержание писем, нашёптанное Бекиром.
Когда эфенди ушёл, он позвал Дементьева:
– Смотри! – и указал пальцем на стол, где лежали, подсыхая, бумаги.
Дементьев присел на краешек стула, придвинул поближе свечу, стал читать, время от времени шумно вздыхая и возмущённо покачивая головой.
– А мы-то стараемся, – язвительно сказал он, переводя взор на Веселицкого, – уговариваем, ласкаемся. О татарском благополучии рассуждаем... Нет, добром они крепости не отдадут!
– Добром, добром, – передразнил незло Веселицкий. – Тут дело изменой пахнет! Подлой, коварной, мерзкой изменой... Надо в Полтаву писать! В Петербург! Предупредить надо!
В дверь громко постучали.
– Ну что ещё там?! – вскричал Веселицкий, рывком пряча бумаги под скатерть.
Вошёл караульный рейтар, доложил о прибытии нарочного из Полтавы.
– Письма сюда! – приказал Веселицкий. – Нарочного – к Семёнову! Пусть на ночлег определит...
Писем было немного. Первым, естественно, вскрыли пакет, присланый из Иностранной коллегии.
Никита Иванович Панин уведомлял, что 1 ноября минувшего года за усердную службу её величеству государыня пожаловала Веселицкого статским советником и назначила «действительным резидентом своим при хане крымском и при новой области татарской» с ежегодным жалованьем в 2400 рублей, присовокупив к этому единовременную сумму в 3000 рублей на «основание дома». Не остался без вознаграждения и Семён Дементьев, которому суммы определили, конечно, поменьше – 500 и 300 рублей, – но тоже немалые.
Пётр Петрович расплылся в самодовольной улыбке. Но она тут же сползла с его лица – он дочитал письмо до конца, где Панин выговаривал за то, что в ходе переговоров об уступке крепостей «едва ли вы воспользовались всеми изъяснениями, способами и правилами», кои могли бы привести к достижению желанной цели. А далее Панин приказал «формальное домогательство оставить» и ждать прибытия в Крым полномочного посла её величества генерал-поручика Щербинина, который и завершит негоциацию.
Как человек искренне болеющий за порученное дело и теперь отставленный от него, Веселицкий огорчился. Но погрузиться в мрачные мысли ему не дал Дементьев – выскочив в соседнюю комнату, он вернулся с графинчиком жёлтого вина, быстро наполнил бокалы и, протянув один Петру Петровичу, звонко провозгласил:
– За здоровье господина статского советника!
Приятно улыбнувшись – новый чин ласкал слух. – Веселицкий выпил.
Дементьев наполнил бокалы снова.
– За здоровье её императорского величества!..
Потом пили за славу русского оружия, за его сиятельство князя Долгорукова, за награждение Дементьева.
На следующий день Веселицкий чувствовал себя прескверно: болела голова, мучила изжога, тело ныло, словно его поколотили палками. Через силу он оформил необходимые донесения и письма, и нарочный отправился в обратный путь. Рапорт о последних событиях в Крыму и Бахчисарае с приложением копий писем Джелал-бея, продиктованных Бекиром, Веселицкий приказал нарочному спрятать понадёжнее. И предупредил строго:
– Ежели вдруг татары перехватят – уничтожить! Важного конфидента из петли вынешь!..
В пятницу утром, 20 февраля, к Веселицкому заглянул на несколько минут Абдувелли-ага и пригласил на заседание дивана. К немалому удивлению аги, Пётр Петрович воспринял приглашение равнодушно: после указания Панина прекратить требование крепостей, он не видел необходимости вновь беседовать на эту тему. Поначалу он даже хотел отказаться, сославшись на недомогание, но затем передумал – решил сделать последнюю попытку сломить упорство крымцев.
Диван собрался почти в полном составе: отсутствовали только хан, Шахпаз-бей и кадиаскер, который, как позже поведал Бекир, вместе с другими чиновными и духовными лицами сидел в соседней комнате. Не было также Джелал-бея, заболевшего глазами, и ногайских депутатов – они редко, лишь в наиболее важных случаях, появлялись в диване. Но вдоль стен разместились более двух десятков знатных ширинских и мансурских мурз.
В гнетущей тишине, чувствуя плохо скрываемое недоброжелательство дивана, Веселицкий пытливо оглядел зал и, придав голосу некоторую возвышенность, громко сказал:
– Мне доставляет удовольствие видеть себя среди такого представительного собрания знаменитейших старейшин всей Крымской области. Имею честь напомнить почтенному собранию, что в минувшем году я был прислан сюда, дабы не только представлять высочайший двор при его светлости, но и истребовать акт о добровольной уступке Российской империи трёх известных городов в вечное владение. Оной уступкой татарский народ наилучшим образом подтвердил бы свою благодарность за эту вольность и независимость, которую её императорское величество принесла Крымской области. Могу ли я сегодня ожидать благосклонного ответа, который хотя бы частично соответствовал милости её величества?
Ему ответил Мегмет-мурза. Проигнорировав заданный вопрос, мурза спросил, почему отправленные в Петербург депутаты до сих пор там задерживаются.
– Причина их невозвращения заключается в затягивании вами подписания акта об уступке крепостей, – спокойно заметил Веселицкий. – Вспомните, среди четырнадцати пунктов акта, отправленного с депутатами, есть пункт, который предусматривает это.
– Калга-султан написал, что в Крым едет Щербин-паша. Зачем?
– Его превосходительство направлен сюда полномочным послом её императорского величества.
– Зачем? – снова повторил Мегмет.
– Вы же знаете!.. Чтобы торжественно, со всем необходимым формалитетом подписать договор о вечной дружбе. Но к его приезду акт об уступке крепостей должен быть вами подписан.
– Старейшины желают слышать содержание требуемого акта.
– Я уже многократно присылал его во дворец.
– Старейшины во дворце не живут.
Веселицкий кивнул Дементьеву. Тот достал из портфеля акт и, чётко выговаривая слова, прочитал его.
– Находите ли вы что-либо противное магометанскому закону? – спросил Веселицкий.
– В этом зале, по его малости, не смогли разместиться все старейшины, – сказал Мегмет. – Но им тоже следует знать содержание акта. Оставьте его нам.
– Хорошо, мы даём вам акт... (Дементьев сделал несколько шагов, протянул бумаги переводчику Идрис-аге). Но я прошу ещё раз разъяснить всем, кто отрёкся от Порты, – жёстко сказал Веселицкий, – что вольность Крыма и его защищение от турецких происков не могут быть полновесны без уступок известных крепостей!..
Через два дня в дом резидента пришёл Темир-ага.
– Старейшины постановили, что уступка противна нашей вере, – сказал он, возвращая акт.
* * *
Февраль – апрель 1772 г.
Статский советник Иван Матвеевич Симолин, посланный Паниным в помощь Румянцеву, прибыл в Яссы в конце февраля. Передав генерал-фельдмаршалу рескрипты Екатерины, письма Панина, Чернышёва, прочих частных лиц, Симолин, в добавление к написанному Паниным, подробно рассказал о плане открытия переговоров.
Румянцеву план понравился, и он в тот же день отправил прусского нарочного, специально приданного Симолину послом Сольмсом, в Шумлу, где располагалась главная квартира верховного везира Муссун-заде. Оттуда курьер проследовал в Константинополь, где вручил шифрованное письмо прусскому послу в Турции графу Цегелину. Сольмс, ссылаясь на повеление короля Фридриха II, предлагал Цегелину выступить вместе с австрийским послом Тугутом посредниками в организации переговоров между Россией и Портой.
Цегелин увиделся с Тугутом и в неторопливой беседе объяснил цель своего визита.
Осторожный Тугут выразил сомнение, что их посредничество может принести успех, ибо очевидно, что Турция, не добившись никаких приобретений в этой войне, будет вынуждена подписывать невыгодный для себя мир.
– До мира ещё далеко, – возразил Цегелин. – Однако вы не станете спорить, что турки сами изнемогают от бесконечности войны. А поскольку нынешний везир – не чета прежним бездарностям, то, как разумный политик, он должен благожелательно воспринять нашу медиацию... Ведь речь пока идёт не о мире, а только о перемирии.
Цегелин оказался прав – Муссун-заде благосклонно отнёсся к предложению послов, и в Яссы прусский нарочный вернулся с личным представителем везира, передавшим Румянцеву письмо с согласием начать переговоры о заключении перемирия. Причём великий везир предложил фельдмаршалу самому выбрать место будущих переговоров.
Пётр Александрович проявил снисходительность: в ответном письме назвал два города – Бухарест и Журжу, – а последнее слово оставил за Муссун-заде. Кроме того, он указал пять пунктов условий, на которых, по его мнению, можно было заключить перемирие: срок перемирия устанавливался до 1 июня (правда, если конгресс затянется – он мог быть продлён); положение армий обеих сторон на всё время перемирия оставлялось в нынешнем состоянии, без всяких передвижений; выговаривалась свобода и безопасность для посылки нарочных из Журжи через Константинополь в Архипелаг[19]19
Архипелаг – северо-восточная часть Средиземного моря.
[Закрыть], где находился командовавший тамошними российскими морскими и сухопутными силами генерал-аншеф граф Алексей Григорьевич Орлов; перемирие должно было распространяться и на Чёрное море (чтобы лишить турецкий флот возможности подкреплять свои войска и крепости на побережье); наконец, предлагалось воздержаться от военных действий на Кавказе. Муссун-заде согласился с такими условиями, местом переговоров выбрал Журжу, а своим представителем назначил Абдул-Керим-эфенди.
Перед отъездом Симолина в Журжу Румянцев вызвал его к себе.
– Мне ведомо, – сказал фельдмаршал, – что ваше собственное благоразумие и долговременная практика возвысили ваше сведение в делах политических. Поэтому помогать моим советодательством я не имею нужды. Но как уполномоченный её величеством к постановлению генерального перемирия – хотел бы вручить некоторые предписания... – Румянцев придвинул Симолину запечатанный красным воском пакет. – Здесь всё подробно изложено в письменном виде... Кондиции, что предлагаются с нашей стороны, ничего противного с предложениями, отправленными от Порты, не содержат. И, судя по последнему письму визиря, он на такие кондиции согласный.
– Характер турок переменчив, – заметил Симолин, пряча пакет в портфель. – Они во всяком предложении могут заподозрить вредное себе и заупрямиться.
– Все наши пункты, которые даются от меня по точному предписанию её величества, основаны на пользе и необходимости наших выгод. Переменять их ни в коем случае нельзя. Если вы узнаете, что турецкий комиссар Абдул не захочет согласиться к постановлению перемирия на помянутых пунктах, то разрешаю изъяснить их другими словами, изменив термины, но не меняя сути.
– Можно предположить, ваше сиятельство, что комиссар найдёт трудности в принятии пункта о прекращении хода кораблей в Чёрное море. Ибо тогда их крепости Очаков и Кинбурн утратят нужное себе сообщение.
– Скорее всего, так и будет, – согласился Румянцев. – В таком случае сделайте пристойное внушение, что мы выговариваем сие для взаимной безопасности, так как и наш флот, в Дунае и у крымских берегов имеющийся, этому же условию подлежать будет... Впрочем, я полагаюсь на ваше искусство и усердие к интересам её величества и верю, что удобными изъяснениями вы преклоните комиссара принять оные пункты.
– Бог не выдаст – Абдул не съест, – иронично сказал Симолин.
Неожиданная шутка пришлась по вкусу фельдмаршалу – он басовито захохотал. А затем, уже без прежней официальности, почти по-дружески, заключил:
– Я вам выделяю поручика Новотроицкого кирасирского полка Антона Кумани. После подписания перемирия пошлёте его в Архипелаг к графу Орлову. Поручик родом из тех мест и, зная употребляемые там языки, удобно справит свою должность... Кроме того, я посылаю в Журжу генерал-майора барона Игельстрома, препоручив ему устроить по вашим советам всё, что касаемо приёма турецкого комиссара. Мною дан также ордер командующему в Валахии генерал-поручику Эссену удовлетворять всем вашим требованиям относительно конгресса...
С небольшой свитой Симолин покинул Яссы и 13 апреля встретился с Абдул-Керим-эфенди в Журже.
* * *
Март – апрель 1772 г.
– Теперь дело нашего примирения с Портой взяло кратчайшую дорогу! – радостно воскликнула Екатерина, прочитав реляцию Румянцева о грядущем начале переговоров с турками. – Мы этой дороги не только давно желали, но и направляли к её одержанию все наши политические меры и подвиги.
Впрочем, от её внимательного взгляда не ускользнула некоторая озабоченность фельдмаршала встречными турецкими запросами: о продлении перемирия на три месяца в случае разрыва мирного конгресса и о ручательстве за это перемирие посредствующих дворов. (О последнем особенно заботились послы Цегелин и Тугут, также приславшие свои письма Румянцеву и явно опасавшиеся чрезмерно выгодных условий, на которых мог быть подписан мир, что привело бы к значительному усилению роли России в европейской политике).
Прежде чем ответить Румянцеву, ожидавшему необходимых инструкций, Екатерина решила переговорить с Чернышёвым и Паниным.
Вице-президент Военной коллегии Захар Григорьевич Чернышёв не скрывал своего недовольства:
– Не боясь вызвать гнев вашего величества, я должен чистосердечно сказать, что сколь ревностно и горячо ни желали бы мы видеть для пользы и облегчения нашего конец военным бедствиям, столь же считаем себя обязанными – перед Богом! перед светом! перед Россией! пойти на мир не иначе как славный, общий нашей обиде удовлетворительный и на будущее прочный. А посему смею настаивать: нам никак нельзя согласиться на продолжение перемирия на упомянутые три месяца.
– В чём основа такой категоричности, граф? – спросила Екатерина, отметив про себя редкую для Чернышёва непреклонную решительность.
– Такой уступкой туркам мы безвозвратно потеряем всю кампанию нынешнего года, а с ней и сильнейшее побуждение Порты к миру. Ещё одна-две крупные виктории, и турки не будут столь привередливы – примут мир на наших кондициях.
– Война для казны и для народа становится чрезмерно тягостной, – заметила Екатерина.
– На одну кампанию силы и средства найдутся. А более не потребуется!..
Никита Иванович Панин тоже был резок в суждениях. Но говорил о политической стороне дела:
– Домогательства турок о ручательстве посредствующих дворов есть плод их собственного с вероломием соединённого невежества. Таковое условие не может быть принято нашей стороной! И тем более внесено в заключительную конвенцию.
– Я тоже не желаю позволить Пруссии и Австрии вмешиваться в трактование мирных кондиций, – сказала Екатерина. – Но как поступить, чтобы не внести раздоры в только открывающееся дело?
Панин, с присущей ему политической изворотливостью, нашёл выход.
– Я полагаю, ваше величество, – сказал он, – нам не стоит противиться, чтобы посредствующие дворы удовлетворили буйство наших неприятелей какой-либо с их стороны согласной приманкой... Но сами собой!.. Без нашего в том участия и обязательства...
Беседы с Чернышёвым и Паниным, собственные размышления побудили Екатерину изменить в условиях перемирия и пункт о кораблеплавании в Чёрном море. (Принятие этого пункта лишало Россию возможности охранять Крымское побережье крейсированием флотилии Синявина). Она боялась, что турки могут – вопреки договорённости! – внезапно высадить крупный десант в Крыму и блокировать русские гарнизоны. В этом случае татары, несомненно, с охотой вернулись бы под покровительство Порты – и полуостров для России был бы потерян.
В подписанном 2 апреля рескрипте Екатерина повелела Румянцеву:
«Употребить попечение к преложению пункта учинённых с нашей стороны предложений относительно до Чёрного моря таким образом, чтобы обеих сторон военные и другие суда имели полную свободу ходить и плавать при берегах, оружию каждой части подвластных и между оными до крайнего со своей стороны устья Дуная».
При этом плавание турок к Очакову запрещалось. Но с оговоркой: если комиссар будет упрямиться – согласиться на оное, обязательно выговорив российским судам «безвредное плаванье» к берегам Бессарабии.
* * *
Апрель – май 1772 г.
Посылая нарочного в Яссы, Екатерина надеялась, что он успеет прибыть до завершения переговоров между Симолиным и Абдул-Керимом. Меняя лошадей на каждой станции, нарочный гнал их днём и ночью, ел и спал прямо в карете, но – опоздал.
Когда он, измученный, невероятно уставший, вошёл в кабинет Румянцева, чтобы лично вручить высочайший рескрипт, Пётр Александрович как раз закончил чтение рапорта Симолина. Статский советник доносил, что за четыре дня переговоров условия перемирия удалось согласовать окончательно и конвенция готова к подписанию.
Просмотрев рескрипт, Румянцев тихо, себе под нос, пробурчал что-то бранное, выхватил из бронзового кубка перо, быстро черкнул на листке несколько строк Симолину, вызвал адъютанта и, бросив ему записку, прикрикнул:
– Немедля отправить в Журжу!..
Довольный скорым и точным исполнением порученного дела и ожидая похвалы от фельдмаршала, Симолин, прочитав записку, поначалу даже не сообразил, о чём в ней идёт речь, а когда понял – обречённо всплеснул руками:
– Бог мой! Но ведь всё уже обговорено. Осталось только поставить подписи... Чем же объяснить турку перемену условий?!
(В записке Румянцева никаких разъяснений не давалось – была только ссылка на высочайший рескрипт).
Погоревав, Симолин через переводчика пригласил Абдул-Керима к себе на квартиру и, испытывая сильную неловкость, объявил о перемене пункта.
Услышав маловразумительное объяснение о монаршем повелении, эфенди недовольно фыркнул в седеющую бороду:
– Я не собираюсь менять кондиции по каждой вашей прихоти!
– Но перемена пункта несёт обоюдные выгоды, – возразил Симолин.
– Я в этом не уверен! – капризно заявил эфенди, решив, что русские задумали какую-то хитрость. – Без совета с великим везиром я не стану давать вам ответ.
Подписание готового документа было отложено.
В течение последующего месяца стороны пытались договориться. Но турки наотрез отказались менять что-либо в согласованной конвенции и, несмотря на все старания Симолина убедить, что никаких коварных замыслов этот пункт не содержит, твёрдо стояли на своём. Опасаясь, что конгресс может завершиться безрезультатно, Румянцев принял на себя бремя ответственности и приказал Симолину подписать договор «по конвенции прежней».
19 мая оба комиссара скрепили текст договора, написанный на русском, турецком и итальянском языках, своими подписями и печатями. Срок перемирия определялся до начала мирного конгресса, место и время проведения которого предполагалось согласовать в ближайшие недели.
Обе делегации не скрывали своего удовлетворения, а комиссары обменялись дорогими подарками: Симолин подарил эфенди соболью шубу в тысячу рублей, а тот презентовал Ивану Матвеевичу прекрасного коня в богатом убранстве...
Позднее, в июле, Екатерина отметит Симолина за «отменную ревность и усердие к делам нашим» – произведёт в действительные статские советники, пожалует четыре тысячи рублей и назначит чрезвычайным посланником и полномочным министром в Копенгаген.
* * *
Апрель 1772 г.
Обеспокоенная сложившейся обстановкой в Крыму, Екатерина в середине месяца подписала две грамоты: одна предназначалась хану Сагиб-Гирею, другая – всему крымскому обществу.
В первой грамоте императрица уведомила хана, что отпускает назад присланных минувшей осенью в Петербург крымских депутатов, заверяла «твёрдые и надёжные основания положить к обеспечиванию крымского благополучного жребия» и, упомянув о посылаемом торжественном посольстве Щербинина, выразила надежду, что со стороны Сагиб-Гирея будет проявлено «всё внимание к тем предложениям, кои сим посредством вам учинены будут для собственной вашей и области вашей пользы и будущей безопасности».
Грамота, адресованная крымскому обществу, была в два раза длиннее, написана торжественным стилем, содержала много высокопарных обещаний, но и в ней недвусмысленно заявлялось, что Крым ничем больше не может изъявить должной благодарности и доверенности к Российской империи, как «полным вниманием и уважением тех предложений, которые высочайшим нашим именем и по нашим повелениям полномочным нашим учинены быть имеют для вящего взаимной дружбы утверждения и обеспечивания татар от всякой опасности на всё последующее время». (О том, какие это будут предложения, в грамотах не говорилось – и так было ясно, что речь пойдёт об уступке крепостей).
Екатерина, конечно, понимала, что одними призывами и ласкательствами она не сможет удержать крымцев от поползновенности к Порте. За долгие годы султанского владычества в Крыму покорность туркам стала неотъемлемой частью жизни, веры, сознания татар, и сломать, уничтожить в одночасье эту покорность было бы неразумным, несбыточным мечтанием. Поэтому в грамоте содержалось предупреждение, изложенное, разумеется, изысканным языком, что жители Крыма будут до тех пор пользоваться покровительством и защищением России, пока «в настоящем положении и свободном состоянии оставаться будут, то есть дружественными и союзными к нашей империи».
Такое отождествление независимости Крыма и протекции России должно было приучить татар к мысли, что разрыв с империей – под каким бы предлогом он ни произошёл – равносилен не только отказу от свободы, но и превращает ханство в противостоящее, враждебное государство.
«Пусть не забывают: отвергнутые друзья делаются неприятелями, – подумала Екатерина, ставя на грамоте свою подпись. – А для врагов у нас найдётся и огонь, и меч, и сила, чтобы обуздать непокорных...»
(Из реляций Долгорукова она знала, что, желая остудить горячие татарские головы и подкрепить Крымский корпус генерал-поручика Щербатова, командующий отправил ордер князю Прозоровскому выступить с частью своего корпуса к Перекопу).
Через месяц крымские депутаты отъедут из Петербурга. Но не все – калгу Шагин-Гирея под гостеприимным предлогом Екатерина решит задержать до той поры, когда Щербинин подпишет необходимый договор.
* * *
Апрель – май 1772 г.
В начале апреля, когда Симолин и Абдул-Керим только готовились к обсуждению условий перемирия, посол граф Сольмс сообщил Никите Ивановичу Панину весть, полученную от посла в Константинополе Цегелина: Порта пойдёт на негоциацию и уже назначила полномочными депутатами на предстоящий конгресс рейс-эфенди Исмаил-бея и нишанджи Осман-эфенди, а также предложила выбрать местом его проведения – Яссы, Бухарест или Фокшаны.
Совет отверг первый город, поскольку там находилась главная квартира Первой армии – её пришлось бы переносить в другое место, что могло, по мнению Румянцева, к которому Совет прислушался, расстроить нынешнее расположение войск и должное управление ими. Из-за обилия войск, находящихся в Бухаресте, этот город также был отвергнут. Остановились на Фокшанах.
– Припекло Мустафу – вот и гордости поубавилось! – воскликнула самодовольно Екатерина, оглядывая членов Совета. И объявила, что вручает ведение негоциации графу Григорию Орлову и тайному советнику Алексею Михайловичу Обрескову.
Возражений не последовало. Только Панин, недовольный назначением Орлова первым послом, остерёг:
– Как генерал-фельдцейхмейстер, граф имеет несомненные заслуги в делах военных. Но в политических – должного опыта не приобрёл.
Екатерина вступилась за фаворита:
– Представлять нашу империю надлежит особе знаменитой и знатной! Что же до опыта, то господин Обресков своим советом всегда поможет графу... Сей конгресс следует обставить со всем достоинством, сходным величия нашего двора!
И Совет без обсуждения утвердил сумму чрезвычайных расходов в 50 тысяч рублей.
– В употреблении сих денег, – сказала Екатерина, обращаясь к Орлову, – я полагаюсь с полной доверенностью на вашу, граф, разборчивость. Оставляю вам свободные руки самому определять по состоянию дел и важности момента необходимые платежи.
(Кроме чрезвычайных расходов, послам назначили на «подъём и дорогу» 32 тысячи рублей, добавив по 4 тысячи ежемесячно «столовых денег»).
Размеренное течение заседания едва не нарушили споры о том, какие полномочия дать Орлову и Обрескову – послов или министров, – но Панин легко погасил искру разногласий.
– Не ведая с точностью, в каком из помянутых качеств явятся на конгресс турецкие депутаты, – сказал он, – было бы полезно с нашей стороны снабдить назначенных вашим величеством особ двойными полными мочами на оба сии качества, дабы они ту могли употребить, которая будет согласована с турецкой... Но это не всё... Туркам свойствен обычай прилагать к публичным актам одну печать с именем султанским и от других дворов принимать акты, також одной государственной печатью утверждённые. Зная, однако, их переменчивый характер и опасаясь могущих быть от их капризов затруднений, я посоветовал бы на двойные полные мочи дать двойные экземпляры: один – с государственной печатью, другой – с той же печатью и за собственноручным вашего величества подписанием.
Совет признал доводы главы Коллегии иностранных дел безупречными и утвердил его предложение.








