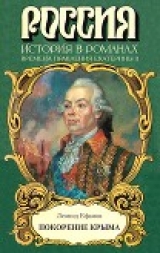
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
«Ну, наконец-то», – облегчённо подумал он и быстро прочитал рапорт.
Эльмпт сообщал Панину, что в Яссах от свирепствовавшей там «моровой язвы» погибли многие люди, среди которых генерал-поручик фон Штофельн, секунд-майор Бастевик и его курьер сержант Стерлингов.
Он ещё раз перечитал рапорт. Ошибки не было – лучший разведчик «Тайной экспедиции» умер.
Дрожащими руками Веселицкий сложил бумагу, утёр платком глаза и направился к палатке командующего.
– Что с вами? – обеспокоенно спросил Панин, глядя на отрешённое лицо канцелярии советника.
Тот молча протянул рапорт.
Панин прочитал.
– Жаль... Добрых воинов потеряли...
Веселицкий очень высоко ценил Бастевика и спустя некоторое время вежливым, но упорным нажимом на Панина принудил того отправить с поручиком Батмановым прошение на имя Екатерины.
«Сей известный и пользою служащий вашему величеству похвальный майор положил свою жизнь в службу империи», – писал Панин. Он просил государыню оказать последнюю помощь семье покойного, так как «остались после него мать, жена с двумя во младенчестве состоящими детьми», не имеющие другого себе пропитания, кроме его бывшего жалованья. «Я дерзну просить выдавать его жалованье как пансион, пока дети не вырастут», – написал Панин.
Заслуги Бастевика перед Россией были известны Екатерине. Ходатайство Панина она удовлетворила.
* * *
Июнь – июль 1770 г.
Армия Румянцева двигалась от Хотина на юг, имея намерение вторгнуться в Румынию. По приказу великого везира Халил-бея её марш попытался задержать самоуверенный Каплан-Гирей. Однако 16 июня у урочища Рябая Могила пятидесятитысячная ханская конница была расстреляна огнём российских батарей и полков и стала быстро отходить, стремясь оторваться от преследовавшей её тяжёлой кавалерии генерал-поручика графа Ивана Салтыкова.
Бегство татар привело в негодование Халил-бея. Он приказал хану остановиться у реки Ларга, где она впадала в Прут, и направил в подкрепление коннице пятнадцатитысячный корпус пехоты Абазы-паши.
Когда адъютант-полковник Каульбарс доложил Румянцеву, что авангард армии столкнулся с превосходящими силами неприятеля и отступил, тот недовольно воскликнул:
– Слава и достоинство наше не терпят, чтоб сносить присутствие врага, стоящего у нас на виду, не наступая на него!
7 июля в 4 часа ночи армия решительно атаковала турецкие и татарские отряды. Стремительный удар русских корпусов генерал-поручиков Петра Племянникова, князя Николая Репнина и генерал-квартирмейстера Фёдора Боура, поддержанных плотным и точным артиллерийским огнём генерал-майора Петра Мелисина, опрокинул полчища Каплан-Гирея. Хан был разбит ещё раз!
Довольный победой, Румянцев изрёк язвительно:
– Они, конечно, числом поболее нашего, только мне это не помеха.
И приказал выдать каждому корпусу за проявленную храбрость по тысяче рублей.
Халил-бей не хотел верить, что такая большая турецко-татарская армия не устояла перед малочисленным русским воинством.
– Этот трусливый хан похоронит всех моих янычар! – бешено округляя глаза, вскричал бей. – Ему овец пасти, а не с гяурами воевать!.. Я сам разобью Румян-пашу!..
21 июля на реке Кагул, у Троянового вала, произошло третье подряд сражение противостоящих армий. Великий везир вывел на поле битвы 150 тысяч турок и татар, которых прикрывали полторы сотни пушек. (У Румянцева было всего 17 тысяч штыков и сабель и 118 орудий). Однако столь колоссальное преимущество везира обернулось для него трагически: яростный натиск российских полков, ещё более яростная и меткая стрельба артиллерии внесли такое смятение и неразбериху в турецко-татарские ряды, что Халил потерял всякую возможность управлять войском и, вскочив на коня, ускакал прочь, чтобы не видеть, как медленно и мучительно гибнет его армия.
Разгром, учинённый неприятелю, был ужасающий: только убитыми турки и татары потеряли до двадцати тысяч человек, был захвачен весь обоз с «несчётным багажом» и 130 пушек. Потери Румянцева оказались, в сравнении, совершенно незначительны – 353 убитых и 550 раненых.
– Русские воюют не числом, а умением! – гордо вскинул голову Пётр Александрович. – Я из русской крови рек не делал! И впредь делать не стану...
Вести о блестящих победах Первой армии облетели города и губернии России. В Петербурге, Москве, в Киеве, Харькове, Ярославле, Симбирске имя Румянцева было у всех на устах.
– Пётр Александрович-то – какой молодец!
– Истинно русский воин! Куда туркам с ним тягаться?!
– Вот увидите, господа, он ещё и Царьград возьмёт!..
Екатерина восторгалась не меньше подданных.
«Вы займёте в моём веке, несомненно, превосходное место предводителя разумного, искусного и усердного», – написала она собственноручно Румянцеву.
И наградила полководца достойно, по-царски: за Ларгу пожаловала орден Святого Георгия Победоносца I степени и много деревень «вечно и потомственно», а за Кагул произвела в генерал-фельдмаршалы.
* * *
Июль 1770 г.
Над просёлочными дорогами Молдавии серым туманом висела дорожная пыль, поднятая тысячами колёс и копыт. Разбитые в сражениях с Румянцевым остатки ногайских орд медленно тянулись к Каушанам. Все были мрачны и подавленны.
У Каушан предводители Едисанской и Буджакской орд, знатные мурзы и аги держали совет. Говорили о разорённых домах и потерянных в сражениях соплеменниках, о бездарном хане Каплан-Гирее и коварных турках, собравшихся вовсе уничтожить татарские народы, бросая их под огонь русских пушек. Говорили и о русских, призывавших татар отторгнуться от Порты и обещавших дружбу и поддержку.
– Я спрашиваю вас, знаменитейшие мурзы и аги, – проскрипел дряхлеющий Джан-Мамбет-бей. – Как спасти наши народы?
Ногайцы дружно зашумели – каждый что-то выкрикивал, но всё тонуло в общем гуле. Когда шум стал стихать, раздался голос Ислям-мурзы:
– За два года войны мы ничего не получили, кроме горя и бед!.. Смерть, разорение и голод пришли в наши дома... Если мы не бросим турок, не вернёмся в свои края – все в землю ляжем!
– Русские не пустят нас в степи, – отозвался Мамай-мурза.
– Они неприятелей не пустят, – сказал Абдул Керим-эфенди.
– А мы и есть для них неприятели.
– Значит, надо стать друзьями.
– Как?
– Отторгнуться от Порты и идти под покровительство России, – спокойно сказал эфенди.
Ногайцы опять зашумели:
– Отстанем от Порты!
– Эфенди верно говорит!
– Нельзя отставать! Русские обманут! Не верьте им!
– Они заставят нас жить по их законам!
Эфенди поднял руку, сказал уверенно:
– Нас к Порте ничто не влечёт. И терять нам теперь нечего, ибо турки бросили нас. Но взамен от погибели спасение сыщем! И к домам своим вернёмся.
– А если русские станут угнетать? – не унимался Мамай-мурза. – Если как диких калмыков воевать против Порты заставят?
Опять зашумели ногайцы...
После долгих споров орды решили обратиться с письмом к Панину. В нём говорилось, что они получили послание русского паши, обсудили его всем народом и с общего согласия решили идти в Крым, поскольку «будучи во власти Порты больше в этих местах оставаться не можем». Далее ногайцы просили разрешения на переход через Днестр. Но об отторжении от Порты и переходе под протекцию России в письме не было ни слова. Подписали письмо от Буджакской орды Джан-Мамбет-бей, от Едисанской – Ислям-мурза, Мамай-мурза, Тимур-султан-мурза и Халил-Джаум-мурза...
На рассвете часовые российского пикета на каушанской дороге услышали глухой стук копыт. В полумраке показался силуэт одинокого всадника.
– Дикак, скачет кто-то, ваше благородие!
Молодой поручик, мирно дремавший у костра на куче сена, поднял голову, спросил сонным голосом:
– Кто скачет?
– К нам... Из Каушан.
Поручик нехотя привстал, посмотрел на дорогу.
– Может, разведует? – предположил кто-то из солдат.
– В одиночку-то? – возразил другой.
– Одному-то как раз способнее. Шуму меньше и проскользнуть легче.
– Ну-ка, ребята, выцельте его на всякий случай, – вмешался в разговор поручик. – А там посмотрим.
Всадник подскакал совсем близко, увидел направленные на него ружья, остановил коня и, приподнявшись на стременах, взмахнул рукой:
– Не стреляй!.. Русский паша надо!
Поручик прикурил трубку, бросил лучину в костёр, дохнул дымом на ближнего солдата:
– Сбегай!.. Прознай, что хочет.
Солдат осторожно, с ружьём наперевес, подошёл к всаднику, грубо спросил:
– Тебе чего?
– Русский паша надо!.. Письмо к паша везу...
– Ваше благородие! – солдат повернул голову к своим. – Он говорит, что письмо везёт его сиятельству.
– Веди сюда! – приказал поручик.
Всадник подъехал к пикету, достал из шапки свёрнутый квадратиком лист, протянул офицеру. В бумаге сообщалось, что подателю её едисанскому татарину Илиасу по проезде через российские земли препятствий не чинить, а, напротив, оказывать всяческую помощь. Внизу стояла размашистая подпись «Пётр Панин».
«Конфидент наш, – подумал поручик. – Важная, видимо, птица, коль сам генерал бумагу подписал...»
– Лошадь мне! – крикнул он солдатам.
Спустя полчаса поручик вместе с Илиасом въехали в русский лагерь. В нём царила обычная рассветная суета: солдаты, навесив над кострами котлы, варили кашу, офицеры брились, завтракали, ездовые, зевая, кормили лошадей.
Поручик знал, что всеми делами с татарами заправляет канцелярии советник Веселицкий, и направил лошадь прямо к его палатке.
Пётр Петрович встал рано, испил кофе и теперь неторопливо прохаживался по росистой траве, разминая ноги.
– Тут татарин к его сиятельству просится, – доложил поручик. – Говорит, письмо привёз.
– А сам-то кто будет? – спросил Веселицкий, оглядывая нарочного.
– Тут другая бумага есть... В ней он называется Илиасом.
«Погоди-погоди, – насторожился Веселицкий, который знал Илиаса в лицо. Он быстро пробежал глазами по измятому листу. Ордер был знаком: он лично вручил его Илиасу перед отправлением в ногайские орды. – Не иначе шпион!..»
– Ким сен? – крикнул он всаднику, державшемуся довольно уверенно.
– Тинай-ага.
– Сен русча лаф этесизми?
– Бар.
– Где взял ордер?
– Ил нас дал.
– Он в орде?
– Да, ещё вчера видел его... Вчера и дал.
– Почему сам не приехал?
– Совет постановил послать меня.
– Какой совет?
– Мурзы и аги Едисанской и Буджакской орд держали вчера совет и прислали меня с просительным письмом к паше.
«Неужто отторгаться решили?» – мелькнуло у Веселицкого.
Он вытянул вперёд руку:
– Где письмо?
– Мурзы сказали передать в руки паше.
– Так его же ещё перевести надо!.. Его сиятельство по-вашему не понимает.
Тинай-ага оказался смел и упрям.
– Мурзы сказали передать в руки паше! – повторил он.
– Хорошо... Слезай с коня... Пошли! Я доложу его сиятельству.
Панин завтракал в своей палатке, трапезу прерывать не стал, и Веселицкому пришлось прождать около четверти часа. Когда генерал вышел из палатки, Тинай-ага с поклоном протянул письмо.
Панин повертел письмо в руках, отдал пришедшему вместе с Веселицким переводчику Дементьеву:
– Ну-ка прочитай.
Дементьев распечатал послание, быстро, прямо с листа стал громко переводить.
«Яко вы татар сожалеете, – писали мурзы Панину, – и в настоящую войну невиновными признавая, их поражать и разорять не позволяете, ожидая взаимного и с нашей стороны поведения, с общего согласия постановили: чтоб обитаемую нами ныне землю впусте оставить, а нам со всеми татарами в Крым перейти, ибо, какой между Россией и турками мир последует, отгадать нельзя. А ежели нам сию доверенность не сделают и в Крым идти не позволят, то мы всё татарское конное воинство, простирающееся числом более ста тысяч, до последнего человека помрём...»
Панин недоумённо посмотрел на агу – он, как и Веселицкий, думал, что это уведомление об отторжении от Порты, – заворчал гнусаво:
– Ишь чего задумали, сволочи. Пустить в Крым... Проще козла в огород пустить – дешевле станет...
Опасения командующего были небезосновательны: вся армия стояла у Бендер – границы империи прикрывались лишь небольшим числом гарнизонов и фактически были открыты для нападения. Он боялся, что переменчивые в своих настроениях ногайцы нарушат обязательство, раздумают идти в Крым и вторгнуться – все сто тысяч! – в российские пределы. Тогда разорение и беды будут неописуемы.
Словно прочитав мысли командующего, Веселицкий заметил негромко:
– Прежде чем их пропускать – семь раз подумать надобно... Только ведь и у них своя правда есть: турок-то боятся справедливо, а каковой мир мы подпишем с Портой – неведомо.
Панин недовольно ответил:
– Вы что, указ Совета не читали?.. По миру Крым должен быть вольным. И будет таковым!
– Обстоятельства могут измениться, – уклончиво возразил Веселицкий. – Но оставлять их здесь тоже опасно. Озлобленные отказом, они могут с удвоенной яростью наброситься на наше войско, чем крайне затруднят осаду Бендер... А коль в Крым сами прорвутся – как потом о протекции говорить?.. К тому же армию поставим в тяжёлое положение – все коммуникации у них на виду будут. А на корпус генерал-поручика Берга, судя по его последним рапортам, положиться нельзя...
В середине мая Берг совершил очередной поход на Крым. На этот раз он миновал Чонгар и подошёл к Ор-Капу. Татары попытались конной атакой опрокинуть авангард генерал-майора Романиуса, но, потеряв до ста человек убитыми, вернулись в крепость.
22 июля несколько казаков из отряда обер-квартирмейстера Дьячкова подскакали поближе к крепости и метнули дротик, к которому было привязано письмо Берга с требованием сдаться на милость победителя.
Татары письмо забрали, но не ответили.
А на следующий день двенадцать тысяч татарской конницы ринулись на авангард Романиуса. Берг быстро придвинул все свои силы – две тысячи кавалерии и тысячу пехоты – к авангарду, построил батальонные каре, поставив на флангах эскадроны, а между каре все имевшиеся пушки. Стремительная атака татар напоролась на орудийный и ружейный огонь, захлебнулась, и, потеряв до трёхсот человек убитыми, неприятели вернулись в крепость. (Потери Берга составили 25 человек).
Чувствуя, что своими силами он не сможет взять Ор-Капу, Берг отвёл корпус к Молочным Водам, где у него был постоянный лагерь.
– Вы, господин советник, человек штатский. И не вам судить о достоинствах генералов! – неожиданно резко воскликнул Панин. (Веселицкий стыдливо покраснел, пробормотал извинения). – Наше положение не из приятных, но и не самое гиблое... Надобно ногайцам показать пряник, однако и кнутом стегнуть не помешает. Хватит миловаться с этой сволочью!..
Спустя четыре дня Веселицкий вручил Тинай-аге ответное письмо к мурзам. В нём коротко упоминались победы, одержанные Румянцевым, и гораздо более подробно и устрашающе описывалась готовность Второй армии в ближайшие дни взять Бендеры.
Дальше шёл ультиматум: ордам предлагалось выступить из турецкой зависимости, «предаться в протекцию, а не в подданство её императорского величества», оставив «повиновение и вспоможение турецкому оружию».
В случае согласия ногайцы, которые действительно желают принять покровительство России, во-первых, должны составить о том клятвенное, «по своему закону», обещание, подписанное главнейшими лицами орд, и прислать его Панину вместе с шестью аманатами из знатнейших родов, которых он обещает содержать при себе с должным почётом «до тех пор, пока условие о вашем отступлении от Порты и приобщение под защищение всероссийского скипетра с обеих сторон утверждено будет». Во-вторых, ордам предлагалось немедленно прекратить враждебные действия и, «собравшись в один корпус», удалиться от армии в сторону Аккермана, уведомив, в каком именно месте они остановятся и в каком числе будут состоять. Для собственной своей безопасности ногайцы должны были принять отряд российских войск. Наконец, в-третьих, в случае согласия на первые два пункта ордам обещалась полная безопасность и покровительство.
Понимая, что ногайцы ждут ответ на главную свою просьбу – о переходе в Крым. – Панин указал, что поскольку генерал-поручик Берг действует на границах полуострова, то, пока крымцы не согласятся принять покровительство России, ордам нельзя будет иметь в Крыму безопасного пребывания ни от российских войск, ни от крымцев. А поэтому некоторое время будут жить они в степи, которая уже покорена оружием её величества.
Панин ещё раз обнадёжил ногайцев, что пока Крым не будет признан свободным, Россия с Портой мира не заключит. И, по старой привычке, припугнул: если через шесть дней он не получит ответы на перечисленные пункты, то снова выступит против орд-неприятелей.
В тот же вечер Веселицкий отправил обласканного деньгами и подарками Тинай-агу в Каушаны.
Через два дня в лагере появился новый гонец – Исмаил-ага, доставивший письмо от Бахти-Гирея. Ничего особенного в письме не содержалось, кроме призыва иметь дружбу с Россией и просьбы «наикрепчайше подтвердить, что татарам от войска никакого вреда чинено не будет».
Ему Панин ответил круто: потребовал немедленно прислать уполномоченных людей «к сочинению договора на возобновление желаемой дружбы». И предупредил, чхобы до окончания переговоров татары не приближались к армии ближе сорока вёрст.
Исмаил-агу задерживать не стали – отправили на следующее же утро.
– Ежели орды пойдут на наши условия, – сказал Панин Веселицкому, – то сего сераскира надобно определить в ханы...
* * *
Июль – август 1770 г.
Подготовка к штурму Бендер шла своим чередом. Став у крепости лагерем, Панин растянул полки огромной дугой, охватившей Бендеры с западной стороны; с восточной – естественной преградой был Днестр, на левом берегу которого расположились несколько батальонов с пушками и кавалерийские эскадроны, чтобы полностью блокировать сообщение по реке и исключить возможность подвоза осаждённым припасов и подкреплений.
Разработанный инженерным генерал-майором Рудольфом Гербелем план осады был утверждён Паниным, и в ночь на 20 июля сапёры отрыли в трёхстах саженях от крепостных стен первую параллель, вместившую в себя передовые роты.
Перед параллелью тянулся крепкий турецкий ретраншемент, и сидевшие в нём янычары, заслышав стук лопат и кирок, шум голосов, всю ночь стреляли наугад из ружей – несколько сапёров были ранены шальными пулями.
Панин вызвал к себе начальника армейской артиллерии генерал-майора Карла фон Вульфа:
– Мешают бусурмане, Карл Иванович... Надобно помочь гренадерам сбить с них спесь.
– Собьём, ваше сиятельство! – заверил его Вульф.
Спустя несколько часов на ретраншемент обрушился огонь русских батарей. Тяжёлые бомбы крушили укрепления, горячие осколки ядер липко впивались в тела янычар. Оставшиеся в живых турки были затем выбиты решительным штыковым ударом гренадер.
Гербель тут же посоветовал Панину использовать ретраншемент в качестве второй параллели:
– Чем отрывать новую – легче и быстрее подправить разрушенное.
Панин одобрил предложение, но приказал поторапливаться.
– Уже середина лета, а мы только приступили к настоящей осаде, – недовольно пробурчал он.
Гербель торопился, но пушечный огонь с крепостных стен мешал быстрому продвижению вперёд. Только в конце июля, воспользовавшись недосмотром турок, удалось ночью откопать третью, последнюю, параллель, и 3 августа инженерные команды начали работы по прокладке подземных галерей к гласису.
5 августа к Веселицкому прискакал солдат с пикета на каушанской дороге.
– Ваше высокоблагородие, татары прибыли на пост!
– Много?
– С десяток будет.
– Воротись и скажи, что я сейчас приеду, – велел Веселицкий, у которого давно было обговорено с Паниным, как следует встречать депутатов.
В богатой карете, запряжённой четвёркой лошадей, с большой свитой и эскадроном кавалерии Пётр Петрович отправился к посту.
Поражённые пышной встречей, ногайцы притихли, изумлённо разглядывая свиту.
Веселицкий возвышенным тоном приветствовал депутатов, старшего среди них – едисанского Мамбет-мурзу – усадил рядом с собой в карету, и процессия неторопливо двинулась к лагерю.
Путь оказался достаточно долог: Веселицкий, как было задумано, повёз гостей вдоль расположившихся для осады полков. Ногайцам надо было показать, насколько сильна армия, и тем самым сделать их сговорчивее. Среди множества повозок, солдатских и офицерских палаток вышагивали пехотинцы, гарцевали всадники, на батареях артиллеристы копошились у пушек.
– Мы от друзей секретов не держим. Поэтому и повезли вас прямой дорогой... (На самом деле карета сделала приличный, но незаметный глазу крюк). Если бы подошли полки, что находятся ещё на марше, то, пожалуй, здесь и места всем не хватило бы, – очень правдиво соврал Веселицкий.
Карета остановилась неподалёку от палатки командующего. Веселицкий и Мамбет-мурза вышли из неё. Остальные депутаты слезли с лошадей. Дальше все пошли пешком.
Панин стоял у своей палатки в окружении большой группы генералов и офицеров.
Веселицкий, придав голосу торжественность, представил депутатов:
– Знаменитейшие мурзы и старейшины достойной Едисанской орды... Мамбет-мурза... Мегмет-мурза... Тинай-ага... Чобан-ага... Мукай-ага... (Депутаты выходили по одному и кланялись Панину). Знаменитейшие мурзы достойной Буджакской орды... Джан-Мамбет-мурза... Чобан-мурза... Хаджи-эфенди.
После этого Мамбет-мурза объявил, что привёз русскому паше письмо от всего народа.
Панин принял письмо, но читать не стал, сунул в руку стоявшему рядом Дементьеву и вошёл в палатку.
Веселицкий скороговоркой вручил попечение над депутатами свитским офицерам, а сам вместе с Дементьевым проследовал в палатку командующего. Здесь переводчик развернул запечатанный красной печатью свиток и стал переводить ответ ордынцев на предложенные пункты ультиматума.
– На первый пункт они пишут, что «от турецкого владения отделясь, яко неприятелю, войску и крепости его вспомоществования не чинить и против российского оружия не сопротивляться».
– Дальше, – кивнул Панин.
– На второй пункт пишут, что «по отдалении от турецкой армии, за неимением места к проживанию, дозволить нам с жёнами и детьми перейти за реку Днестр».
– Дальше.
– На третий пункт пишут, «а что мы желаем перейти в Крым и соединиться с тамошними народами, в том сумнения не иметь, ибо мы с ними уже согласились, о чём от вышеописанных посланцев уведомить изволите».
– Дальше.
– Всё, ваше сиятельство.
– Кто подписал?
Дементьев глазами пересчитал подписи.
– Двадцать восемь буджакских мурз и двадцать четыре едисанских... И против каждого имени печать приложена.
– Ну что ж, – удовлетворённо сказал Панин, хлопнув рукой по колену, – дело справили! Не хотел Крым весь под протекцию идти, так придёт кусками... (Он посмотрел на Веселицкого). Теперь надобно акт составить по всей форме. Займитесь сим немедля и завтра мне представьте... Акт составить от моего имени!
– А что с их просьбой?
– Чёрт с ними, пусть идут за Днестр... Но в Крым я их не пущу!..
На следующее утро Панин просмотрел текст договора, вычеркнул несколько, по его мнению, лишних слов и, после того как текст переписали начисто, подписал.
Перед полуднем Веселицкий собрал депутатов у своей палатки и зачитал им «прелиминарный акт»:
– «Я, нижеподписавшийся её императорского величества всероссийской, моей всемилостивейшей государыни генерал-аншеф, предводитель Второй армии, сенатор, кавалер и российской империи граф Пётр Панин, объявляю силою сего инструмента, что присланным по моему письменному требованию ко мне от похвальных Едисанской и Буджакской орд для утверждения дружбы уполномоченным господам депутатам... (Веселицкий не стал перечислять написанные имена, а широким жестом обвёл ногайцев), кои меня совершенно и свято уверили яко все сих двух похвальных орд мурзы, старшины и все люди, никого не исключая, по их закону присягу учинили совсем от турецкой области отделиться и отстать, а с Российской империей в дружбу и соединение вступить на таком именно основании... – Веселицкий сделал паузу и стал медленно перечислять условия: – Чтоб состоять под протекцией её императорского величества на древних их правах, обыкновениях и преимуществах, а не в подданстве...» Согласны ли достойные депутаты с написанным?
– Якши, – кивнул Мамбет-мурза.
– «Крым с прочими татарами к тому ж склонить. И что не желают иметь и не станут терпеть над собой такого хана, который к сему общему ногайцев согласию и доброму намерению не приступит, чтоб вспоможением Российской империи сделать всю татарскую область свободной, ни от кого не зависящей, так как оная в древности была...»
Далее в договоре Панин разрешал ордам переход за Днестр, обещал помощь и защиту и просил Бога «утвердить сию дружбу между похвальным татарским обществом и Всероссийской империей навеки». (Эта грамота вручалась в обмен на татарскую такого же содержания, заготовленную Дементьевым, но ещё не подписанную депутатами).
– Согласны ли достойные депутаты с написанным? – спросил Веселицкий, закончив чтение.
– Якши, – опять за всех ответил Мамбет-мурза.
– Тогда прошу поставить свои имена и печати.
Депутаты по очереди стали подходить к столу, на котором лежал договор. Грамотные – расписывались, остальные – прижимали к желтоватому листу печати.
После того как церемония подписания закончилась, Веселицкий и Мамбет-мурза обменялись грамотами...
Депутатов проводили с почестями, нагрузив многочисленными богатыми подарками. И хотя ранее было оговорено, что при Панине останутся аманаты, Пётр Иванович великодушно отпустил их. А взамен велел прислать несколько особ из знатнейших фамилий, кои отправятся послами ко двору её величества.
Кроме подарков депутаты увозили с собой письмо Веселицкого, в котором он обращался с похвалой к обеим ордам, что они прислушались к дружеским увещеваниям и согласились предаться под покровительство Российской империи. В конце письма, отвергнув высокий стиль, канцелярии советник прямо посоветовал: если хан Каплан-Гирей не пожелает воссоединиться со своим народом, то его «от себя отослав, избрать в ханы Бахти-Гирея».
Прельщённые проявлениями дружелюбия и дорогими подарками, ногайцы, желая, видимо, ещё более укрепить к себе доверие, сообщили Веселицкому, что Каплан-Гирей с двадцатью тысячами татар стоит в 60 вёрстах от Бендер, в урочище Паланка, и хочет атаковать армию, дабы прервать осаду крепости.
Отправив депутатов, Веселицкий поспешил рассказать Панину о замыслах хана. Командующий тут же приказал генерал-поручику Эльмпту двинуть свои полки против Каплан-Гирея.
Одновременно он направил ордера генерал-поручику Бергу и генерал-майору Прозоровскому, в которых указал, что едисанцы и буджаки подписали акт об отторжении, вследствие чего им дозволено перейти Днестр и расположиться на его левом берегу. Генералам надлежало проследить, чтобы войска этим ордам препятствий не чинили и их не воевали. Тем более что вместе с депутатами в орды отправился отряд майора Ангелова. А вот если хан попытается прорваться в Крым – поразить его без всякой пощады.
Панин был очень доволен удачной негоциацией.
– Отторжение ногайцев – это не только начало распада Крымского ханства, – восклицал он взволнованно. – Сие означает неизмеримо большее: первый шаг к нашему утверждению на Чёрном море!..
В Петербург он отправил сразу несколько реляций: Екатерине, в Сенат, брату Никите Ивановичу, в Военную коллегию...
* * *
Август 1770 г.
Каплан-Гирей с размаху стегнул плетью стоявшего на коленях гонца, принёсшего дурную весть о переходе двух орд на сторону России. Плеть гибко обвила бритую голову и выбила у едисанца правый глаз. Вместо того чтобы молча стерпеть кару, гонец взвыл от боли. Из-под прижатых к лицу грязных ладоней струйкой выползла смешанная с кровью слизь. Этот крик привёл Каплана в ярость – ударом ноги он повалил едисанца наземь и стал злобно пинать сапогами податливое тело. А тот, продолжая кричать, катался в пыли, стараясь увернуться от ударов, чем ещё больше распалял хана.
– Оставь его, – негромко сказал стоявший рядом Бахти-Гирей. – На нём нет вины.
– Я убью эту едисанскую собаку! – исступлённо кричал хан, продолжая наносить удары. – Пусть он ответит за предательство орды!
– Его смерть не принесёт тебе славы. И орды назад не вернёт... Ныне о другом думать надо.
Хан ещё раз ударил обмякшее тело, плюнул и ушёл в шатёр.
Бахти проследовал за ним.
– Эти вонючие шакалы сговорились с русскими! – не мог успокоиться хан. – Они предали меня!
– Аллах каждому воздаст должное, – спокойно изрёк Бахти.
– Воздаст ли?.. Ты – едисанский сераскир! Ты знал о готовящейся измене?
– Знал.
– Почему же не предупредил?
– Ты тоже знал о ней.
– Я?!
– Разве ты не получил письмо от русского паши? Разве не знал, к чему он призывает орды?.. Знал!.. Но надеялся, что твой ответ – это ответ всех орд.
– Я на поклон к паше не пошёл!
– Ты не пошёл. Зато это сделали другие... Ты зачем меня к себе позвал и держишь, словно пса на цепи? Боишься, что уйду с ордами к русским?
– Когда войско выходит из повиновения сераскиру – тому остаётся выбирать: или идти с ним, или остаться одному.
– Не надеялся, значит, – усмехнулся Бахти.
– Сомневался! – с вызовом ответил Каплан.
Некоторое время Гиреи сидели молча, размышляя каждый о своём. Хан мучительно искал выход из трудного положения, в которое поставили его ногайские орды и проклятый Румян-паша, трижды разбивший татарскую конницу. Сераскиру предстояло решить, с кем он будет дальше – с ханом или ордами?
Молчание нарушил Бахти.
– Нынче о собственном спасении думать следует, – доверительно сказал он. – В Крым надо пробиваться!.. По берегу – до Очакова, а оттуда – на корабле в Кезлев.
– Мне доносят, что возле Очакова шныряют гяуры. Дойдём ли?
– На то и война, чтобы они шныряли у крепостей... Только другого выхода нет! Здесь русские раздавят нас.
– А ты со мной будешь или как?
Бахти спокойно выдержал настороженный взгляд хана:
– Мне с русскими делить нечего. Я татарский сераскир!.. Только пошли верного человека в Бахчисарай. Пусть передаст калге, чтобы с войском выходил из Ор-Капу навстречу...
Через несколько дней Каплан-Гирей приказал остаткам татарской конницы тайно выступить в сторону Очакова. Но одного обстоятельства он не учёл: среди тысяч людей тайну сохранить нельзя.
Узнав о предстоящем движении татар, Панин тотчас выслал новые ордера Бергу и Прозоровскому, суть которых была одна: выследить хана и разбить!
* * *
Август 1770 г.
17 августа в русский лагерь под Бендерами прискакал нарочный от ногайских орд. Он привёз письмо Панину, подписанное двадцатью двумя знатными мурзами. Те благодарили командующего за оказанные милости и обращались с новой просьбой:








