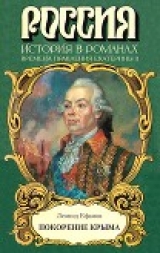
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 37 страниц)
«Князь, конечно, прямо об этом не скажет, – рассуждал Евдоким Алексеевич. – Просто запамятует позвать, когда депутаты приедут...»
Наутро он объявил, что занемог от здешнего климата, приказал слугам готовить экипаж и вскоре покинул лагерь, чтобы вернуться в Харьков.
* * *
Июнь – июль 1771 г.
Начало лета Екатерина провела в Царском Селе. Отдыхая от столичной суеты, она тем не менее поддерживала постоянную переписку с Никитой Ивановичем Паниным, уведомлявшим её о всех важных делах. Позднее Екатерина переехала в Петергоф, намереваясь побыть там некоторое время, но затянувшаяся болезнь сына – шестнадцатилетнего великого князя Павла Петровича, за которым присматривал его давний воспитатель Панин, – принудила её в первые дни июля вернуться в Петербург.
Цесаревич, с детства слабый здоровьем, выглядел плохо, капризничал. Екатерина, несколько раз навещая сына, старалась вдохнуть в него силы и уверенность в скором выздоровлении.
Тем временем в столицу стали прибывать нарочные офицеры от Долгорукова.
Особенно радостным выдался день 17 июля.
На рассвете, когда Екатерина только-только проснулась и, свесив босые ноги, сидела на краю кровати, дежурный камердинер доложил о прибытии из Крыма со срочным донесением Конной гвардии секунд-ротмистра князя Ивана Одоевского, Екатерина встала, накинула на плечи шёлковый шлафрок, мельком глянула в зеркало и, длинно зевнув, велела впустить нарочного.
Замерев в пяти шагах от государыни, выкатив по-петушиному грудь, Одоевский зычно и торжественно прогремел басом, нарушая сонный покой обитателей дворца:
– Честь имею донести! Доблестным оружием вашего императорского величества неприятель под Кафой разбит и обращён в бегство. Крепость и гавань в наших руках!
– Трудная ли выдалась баталия? – протяжно спросила Екатерина, расправляя заспанное, припухшее лицо долгой мягкой улыбкой.
– Единым ударом смяли басурман! И тотчас их сиятельство отправили меня с реляцией!
Одоевский выхватил из-за обшлага мундира пакет, протянул Екатерине.
Она взяла его, посмотрела надпись, кинула на столик.
– Потом прочитаю... А вас, князь, за долгожданную весть жалую полковником.
Одоевский метнулся к государыне, припал к руке, уколов жёсткими усами холёную кожу...
В течение всей войны Екатерина следовала старому доброму воинскому обычаю: награждала гонцов, приносивших победные реляции. В этот день ей пришлось ещё дважды проявить свою милость. В полдень был пожалован поручиком гвардии подпоручик Щербинин, прибывший с известием о взятии Керчи и Еникале. Вечером поручик Семёнов, отличившийся метким выстрелом под Кафой, привёз ключи от всех занятых крепостей и стал капитаном.
Покорение Крыма Екатерина отметила торжественным богослужением в Петропавловском соборе. Под величавый перезвон колоколов, уханье пушечного салюта она принесла Всевышнему коленопреклонённое благодарение и, вернувшись во дворец, устроила роскошный обед. Столы, заставленные серебром, хрусталём, живыми цветами, ломились от вин и закусок. Гости много пили, шумно воздавая хмельными голосами хвалу храброму русскому воинству.
Вечером, перед тем как пойти в Эрмитаж, Екатерина присела на полчаса к столу, чтобы отписать Долгорукову свою благодарность.
«Усердие и искусство ваши увенчаны, – писала она, быстро скользя пером по шершавой бумаге, – вы достигли своего предмета: отечеству сделали пользу приобретением почти целого Крымского полуострова в весьма короткое время, а себе приобрели славу. Вы знаете, что по статутам ордена Святого победоносца Георгия оный вам принадлежит. И для того посылаю вам крест и звезду первого класса, которые имеете на себя возложить и носить по установлению. На починки же вашего экипажа приказала я в дом ваш отпустить шестьдесят тысяч рублей. Сына вашего князя Василия поздравьте от меня полковником...»
«Это порадует генерала, – подумала Екатерина. – Да и по чести будет! Сынок-то и под Кафой отличился...» (За штурм Перекопа юный Долгоруков был награждён орденом Георгия IV класса).
Екатерина понюхала табак, задержала взгляд на табакерке с написанным на крышке её портретом, на секунду задумалась, снова взяло перо.
«Приметна мне стала из писем ваших ваша персональная ко мне любовь и привязанность, и для того стала размышлять: чем бы я при нынешнем случае могла вам сделать с моей стороны приязнь? Портрета моего в Крыму нет, но вы его найдёте в табакерке, кою при сём к вам посылаю. Прошу её носить, ибо я её к вам посылаю на память от доброго сердца. Всем, при вас находящимся, скажите моё удовольствие. Я не оставляю от вас рекомендованных наградить, о чём уже от меня повеление дано. Впрочем, будьте уверены, что всё вами сделанное служит к отменному моему удовольствию, и я остаюсь, как всегда, к вам доброжелательная...»
В душе императрица, несомненно, понимала, что полководческие способности князя уступают Божьему дару Румянцева. Но она всегда заботилась о преданных ей людях! По тем наградам, которыми она одаривала подданных, можно было судить не только о степени её расположения, но и определить круг лиц, которым она особенно благоволила. Долгоруков был в этом кругу!
В Эрмитаже, шумном и многолюдном, говорили о разном, но почти во всех разговорах упоминался Крым, ибо успехи Долгорукова несколько скрасили неудачные действия Первой армии...
После весенних побед генералов Олица, Репнина, Вейсмана, разгромивших на правобережье Дуная сильные турецкие корпуса и взявших тамошние крепости, в мае последовали чувствительные удары: сначала комендант Журжи майор Гензель сдал крепость «на капитуляцию» туркам, а затем был разбит отряд генерал-поручика Эссена, пытавшийся вернуть Журжу под Российский флаг.
...Генерал-прокурор Вяземский предложил Екатерине сыграть в карты.
– Как обычно... По десяти рублёв вист.
К нему присоединились братья Чернышёвы – Захар Григорьевич и Иван Григорьевич, вице-президент Адмиралтейской коллегии.
Екатерина любила играть, но играла посредственно – партия закончилась быстро.
– Не идёт карта, – вздохнула она, разочарованная проигрышем.
– Зато воинскими победами вы не обделены, ваше величество, – пошутил без улыбки Захар Чернышёв. (В отличие от многих карточных партнёров Екатерины он никогда не поддавался ей – играл зло, азартно).
Екатерина натянуто улыбнулась:
– Победы, конечно, приятны. Только стоят гораздо дороже, чем вист... Александр Алексеевич подсчитал, что война уже обошлась казне до тридцати миллионов рублей.
– Это приблизительно, – заметил Вяземский.
– Но туркам она тоже недёшево стоит, – сказал Иван Чернышёв, ловко разбрасывая карты партнёрам.
– Ах, граф, нам-то от этого не легче, – поморщилась Екатерина. – Заканчивать её надобно... Вы бы, Захар Григорьевич, подумали, куда сподручнее применить Вторую армию, да на Совете рассказали бы.
– Хоть завтра, ваше величество, – отозвался Чернышёв, рассматривая разложенные в руке карты...
Спустя несколько дней, на очередном заседании Совета, Захар Чернышёв доложил следующий план. Вторая армия делилась на четыре корпуса: первый – 16 тысяч человек – оставлялся в Крыму в крепостных гарнизонах и обеспечивал коммуникации на полуострове; второй – 10 тысяч – размещался по Днепровской линии[18]18
Днепровская оборонительная линия из 7 крепостей должна была протянуться между Азовским морем и Днепром по течению рек Берда и Конские Воды. Указ о её создании был подписан 2 апреля 1770 года, но проектирование и строительство линии начались ещё раньше.
[Закрыть] до Таганрога и Азова и в случае турецкой угрозы должен был подкрепить первый корпус; третий – 14 тысяч – располагался по Украинской линии и в Елизаветинской провинции; четвёртый – 5 тысяч – отправлялся к польской границе. Михаил Никитич Волконский, бывший послом в Польше, предложил передать часть полков в состав Первой армии, но Чернышёв возразил:
– Войско, измотанное длиннейшими маршами, имеющее потрёпанные обозы, к наступательным действиям способности иметь не будет... Армия нуждается в отдыхе и пополнении... Крепкие полки мы оставим в Крыму и направим в Польшу, слабые – на винтер-квартиры... Граф Румянцев наступать нынешней зимой как будто бы не собирается. И для оборонения ему вполне достаточно тех сил, что имеет. К весне же мы определим план новой кампании и сколько войска для неё понадобится. Если, разумеется, Порта к тому времени не запросит мира...
В последние недели разговоры о мире возникали всё чаще: война тяжёлым бременем легла на Россию, требуя всё новых и новых средств и сил. Великая держава начинала задыхаться под этим бременем. Но завершить войну без получения общей виктории над Портой, без выгодного мира с контрибуцией было невозможно.
– В будущей негоциации и совершении мира, – вступила в разговор Екатерина, – со стороны России не может быть иного правила, как возложить сильнейшую узду на честолюбие Порты и тем доставить нам лучшую безопасность от грядущих нашествий... С другой стороны, объявив единожды, что я не желаю увеличивать победами свои области и полагая непременным правилом основывать твёрдую свою славу на благоденствии моих подданных, не могу я переменить сих бескорыстных мыслей. Примеряясь к существу дела, я вижу кондиции, на коих можно заключить мир... Первое. Надобно беспременно уменьшить Порте способности к атакованию Российской империи в будущие годы... Второе. Россия должна получить справедливое удовлетворение за убытки войны, воспринятой турками без всякой законной причины. А убытки сии по самому точному исчислению простираются до двадцати пяти миллионов рублей... Третье. Следует освободить от порабощения торговлю и беспосредственную связь между подданными обеих империй для вящей их выгоды и взаимного благополучия...
Екатерина говорила ровно, с короткими паузами, как говорят люди, хорошо знающие суть предмета рассуждения. По всему было видно, что она давно продумала будущие мирные переговоры, желаемые выгоды для России и потери в состоянии Порты.
– ...Если исчислять силу тех земель, кои Порта должна потерять при замирении, или то, чем сии земли способствуют её могуществу – прибытком ли, от них получаемым, или числом солдат, там вооружаемых, – то усматривается, что её спасение не соединено с их сохранением. А потеря оных станет малочувствительной для истинных источников её силы и могущества. Судя таким образом, я вижу, что Порта может вести войну ещё многие годы, несмотря на удары, разрушившие её силы. Но коль я в этой истине себе и вам призналась, то признаюсь и о виде, в котором представляю будущую Порту... Я вижу её, укрепившуюся долговременным миром, приведшей моря свои в конечную безопасность, исправя внутренние пороки своего воинства, начинающей новую войну с Россией и быстро преодолевающей пространство, оба наших государства разделяющее... В этом пункте я себе мечты не делаю!.. Вот почему – и после замирения – я всегда буду почитать в Порте страшного неприятеля, а не такую державу, которой бы по своей воле я могла бы давать опровержение... Мои мирные кондиции, принятые в их истинной цене, ограничиваются в умалении способностей неприятеля к новым нападениям. Отдаляя его, я даю время прийти в себя в случае начала новой войны, но не доставляю Порте никаких новых средств к нападению. Несколько большее спокойствие и безопасность – вот то, к чему ведёт всё мнимое уничтожение её могущества, – закончила монолог Екатерина.
Первым после всеобщего напряжённого молчания подал голос граф Иван Чернышёв, ставший минувшей зимой ещё одним членом Совета.
– В таком случае, ваше величество, – предложил он, – будет полезно при подписании акта с татарами выговорить особливым артикулом возможное их участие в оборонении наших границ на юге. Ведь они всё-таки наши союзники!
– Татары акт с таким артикулом подписать откажутся, – возразил Никита Иванович Панин. – Коль мы пообещали дать им независимость и свободу, они будут тверды в своём упорстве, отсылая нас к данному нами же обещанию.
– В прежних своих суждениях татары не раз высказывали озабоченность, чтобы их не использовали как военную силу, – поддержал Панина вице-канцлер Голицын. – И ссылаются при этом на калмыков, коих мы всю нынешнюю войну привлекаем при надобности.
Екатерина нетерпеливым жестом остановила Голицына и, глядя на Чернышёва, сказала уверенно:
– Что касаемо Крыма, то здесь я остаюсь чистосердечна: сию область я признаю свободной и независимой! Как относительно меня, так и Порты. И мир с турками мы подпишем лишь тогда, когда султан Мустафа признается в таком положении татар!.. Следует ознакомить князя Долгорукова с нашими рассуждениями, дабы он хорошо понимал, каким образом следует себя вести с крымцами и какую предосторожность соблюдать противу турок...
* * *
Июль 1771 г.
Обстановка в Крыму, прояснившаяся после согласия Селим-Гирея вступить в союз с Россией, во второй половине июля вновь стала неопределённой. Письмо Долгорукова хану вручено не было: Селим сбежал.
Отсиживаясь в деревне Альма, он узнал о движении отряда Прозоровского к Бахчисараю, решил, что русские хотят пленить его, и, не долго думая, усадил всё своё семейство на коней, лесными дорогами через горы перевёз в Ялту, где его ждали несколько кораблей. Приняв на борт хана, его жён, детей, слуг, корабли вышли в море, держа курс на Румелию.
Крымское ханство осталось без хана!
Это вызвало замешательство среди татар, помнивших угрозу Долгорукова покорить оружием всех, кто останется верным Порте. Теперь угроза становилась вполне реальной, ибо без подписи хана просительный акт не имел должной силы. Все понимали, что брошенный турками Крым не устоит перед мощью российской армии, готовой по первому приказу предать огню города и селения, истребить всех непокорных.
По призыву хан-агасы Багадыр-аги 25 июля в Карасувбазар съехались беи и мурзы знатных крымских родов, члены дивана, духовенство, чтобы обсудить сложившееся положение.
Разговор был острый. Некоторые мурзы предлагали продолжать уговаривать русских принять акт без подписи хана, что при необходимости давало возможность объявить его недействительным и вернуться под протекцию Порты. Но большинство выступило против этого. Особенно резок был Шагин-Гирей.
– Упрямство не есть добродетель, когда речь идёт о судьбе ханства, – восклицал он с юношеской горячностью. – На ваши пустые уговоры у русских есть хороший ответ – пушки! Они заговорят ранее, чем вы дождётесь помощи от Порты...
Узнав, что русская королева дала согласие ногайским ордам на избрание его ханом, Шагин-Гирей, чувствуя такую весомую поддержку, сильнее прежнего осмелел в речах и поступках. Он уже видел себя не только ханом ногайцев, но и властелином Крыма и не считал нужным скрывать свою приверженность к России, на негласную помощь которой надеялся.
– Против кого вы собираетесь выступать?! – кричал Шагин. – Против державы, что не только дружбу свою предложила, но и защиту от турецких происков обещает?!
Его неожиданно поддержал ширинский Джелал-бей, слово которого по неписаной традиции было решающим. Он ненавидел русских, был предан Порте, но понимал, что теперь иного выхода нет.
– Вспомните нашу пословицу, – сказал бей бесцветным, расслабленным голосом. – «Нельзя играть со львом...» Лев под боком, а клетки для него нет. Так не станем дразнить зверя... Не время... Надо избрать нового хана! Он подпишет бумагу.
Несколько мурз, близких к Шагин-Гирею, выкрикнули его имя. Остальные сдержанно зашумели, поглядывая на Джелал-бея, словно испрашивая его совет...
Шагин-Гирей был не худшим претендентом на ханство, но многих мурз, даже из числа его сторонников, настораживали неуёмные прорусские настроения султана, рьяное отстаивание тесного союза с Россией. И хотя в манифесте Долгорукова, разосланном по крымским селениям, содержались клятвенные обещания обеспечить независимость ханства, сохранить жизнь и управление по древним татарским законам и обычаям, мурзы боялись, что, сменив покровителя, они попадут в другое рабство – русское.
Знатных крымцев не устраивала также излишняя, по их мнению, самостоятельность Шагина, его чрезмерное честолюбие. Все ханы, за исключением некоторых сильных личностей – вроде Керим-Гирея, – всегда прислушивались к советам беев и дивана. Было очевидно, что, став ханом, самолюбивый Шагин не допустит, чтобы кто-то им управлял.
Было и другое опасение: получив своим ласкательством к России поддержку императорского двора, Шагин отдаст Крым русской армии. А затем, подавляя с помощью пушек и штыков сопротивление недругов, продержится у власти бесконечно долго.
...Убелённый сединами Джелал-бей тонко намекнул на молодость претендента, его неопытность в государственных делах.
Все дружно поддержали бея, и ханом избрали Сагиб-Гирея, более умеренного и покладистого, чем его младший брат Шагин.
Когда приступили к выбору калги-султана, снова раздались голоса:
– Шагина хотим! Шагина!
И опять все обратили свои взоры на Джелал-бея.
Бей был мудр. Он раньше других понял опасность нового состояния ногайцев и угрозу, исходившую от их близкого соседства. Он всегда презирал ордынцев за продажность, готовность к предательству, за пренебрежение к порядку и нежелание подчиняться законам. Но после их измены и перехода под покровительство России к презрению добавился ещё и страх.
Бей понимал, что если Шагин-Гирей останется сейчас без реальной власти, то, обидевшись, уйдёт к ногайцам, которые сразу изберут его своим ханом. И тогда Шагин может отомстить, ввергнув Крым в жестокую междоусобную бойню, которая вконец ослабит ханство, сделает его игрушкой в руках России, а со временем, возможно, ещё одной губернией. Этого бей страшился больше всего! Шагина следовало удержать в Крыму, бросив сладкую кость, а ордам на будущее запретить вступать в крымские границы.
– Лучшего катги, чем Шагин, нам не найти, – сказал бей.
Все, как по команде, закричат:
– Шагин! Шагин!..
Дальше дело пошло быстрее: нурраддин-султаном избрали Батыр-агу, племянника Сагиба и Шагина, выбрали депутатов к российскому двору, составили письмо об отторжении от Порты – и под зорким оком Шагин-Гирея все присутствовавшие подписали бумагу.
Через три дня Мегмет-мурза и Али-ara привезли Долгорукову присяжный лист, подписанный ста десятью мурзами.
– Этим актом весь крымский татарский народ объявляет, что он отстаёт от Порты Оттоманской, принимает предлагаемую Россией независимость и вольность и поручает себя покровительству российской королевы, – провозгласил Мегмет-мурза, передавая грамоту Долгорукову. – Этим актом мы клятвенно обещаем никогда более не переходить на сторону Порты, многие годы угнетавшей нас.
– Подписи по всей форме? – спросил Долгоруков.
– Да, ваше сиятельство, – ответил Якуб-ага, просмотрев акт. – Подписи, печати – всё как положено.
– Кто избран послами ко двору её величества?
– Калга-султан Шагин-Гирей, Исмаил-ага, Азамет-ага, Мустафа-ага, – перечислил Мегмет-мурза. – Им поручено на упомянутых основаниях иметь переговоры о заключении формального трактата.
– А где аманаты?
– На днях прибудут и останутся при вас до самого постановления трактата.
Все, кто был в палатке командующего, стали шумно поздравлять друг друга...
А через несколько дней подоспела новая радость: из Петербурга прибыл специальный курьер, в портфеле которого лежали рескрипты и письма Екатерины, указы Совета и Военной коллегии, а в небольшом сундучке, обтянутом внутри синим бархатом, – ордена, медали и деньги, предназначенные для награждения отличившихся в сражениях воинов, указы о пожаловании очередных званий.
Долгоруков нацепил на мундир Георгиевскую звезду, на шею – крест, натянул через плечо черно-оранжевую ленту, а затем, весь сверкающий и торжественный, именем её величества стал награждать генералов и офицеров.
Князь Прозоровский и граф Мусин-Пушкин получили ордена Святой Анны (третий орден пришлось спрятать назад – он предназначался покойному Броуну); орден Святого Георгия 3-го класса – Максим Зорич, подполковники Михельсон и Филисов, 4-го класса – полковники Бринк, Хорват, подполковники Василий Долгоруков, Ганбоум, Бедряга, майор Дрейпс, поручик Чекмарёв; медали достались донским казачьим полковникам Себрякову, Кутникову, Краснощёкову, братьям Грековым, запорожскому полковнику Колпаку, донскому есаулу Денисову. Генерал-квартирмейстер Каховский получил 3000 рублей, майор Плотников – 1000...
Вечером в лагере было гулянье: генералы, офицеры, нижние чины пили за здоровье матушки государыни, кричали здравицы его сиятельству, слюняво целовали друг друга.
Сам Долгоруков, опьяневший, в мокрой нательной рубахе, сидел за столом, сплошь заставленным бутылками и кувшинами, и делал страшные усилия, чтобы не заснуть тут же, упав головой в грязную тарелку, как это уже демонстрировал генерал-майор Бурман. Слабым жестом Василий Михайлович подозвал денщиков.
Те подхватили командующего под руки, с трудом довели до постели.
Не открывая глаз, обращаясь к раздевавшим его денщикам, он промычал невнятно:
– А вы-ы... сволочи... передайте га-аспадам... чтоб не напивали-ись... Вот я и-их...
И упал бесчувственно на кровать.
В лагере, у офицерских палаток, раздалась нестройная стрельба, послышались пьяные возгласы: господа офицеры на спор гасили пистолетными выстрелами свечи, били пустые бутылки... Гуляли до рассвета...
* * *
Июль – август 1771 г.
Огромное расстояние, отделявшее Петербург от Крыма, сдерживало оживлённость переписки между Советом и Долгоруковым, ибо только в одну сторону самые резвые нарочные скакали по две недели. Собравшийся на очередное заседание Совет ещё не знал о переменах, произошедших в далёкой южной земле: ни о подписании акта, ни об избрании нового хана Сагиб-Гирея. Совет обсуждал рапорт Долгорукова о желании крымцев иметь своим ханом Селим-Гирея и о согласии того отторгнуться от Порты. Отторжение, естественно, одобрили, а вот о хане Вяземский высказал озабоченность:
– Он был и останется нам враг!.. Хану, возведённому Портой и преданному ей, доверять никак нельзя!
Панин, проводивший в отсутствие Екатерины заседание, заметил с досадой:
– Увы, господа Совет, мы не можем выбирать ханов за самих татар. Я тоже сильно сомневаюсь в искренности побуждений Селима. Но, принимая во внимание просьбу крымцев, надо одобрить сие его достоинство, показав татарам, что они доподлинно независимы.
Вице-канцлер Голицын предложил отметить хана каким-либо подарком, который засвидетельствует полное благорасположение к нему российского двора. Совет постановил послать Селиму саблю, шубу и прочие достойные презенты.
– В новом нашем состоянии с Крымом, – продолжал говорить Панин, – я нахожу за нужное аккредитовать при хане доверенную особу, что могла бы не только представлять российские интересы, но и приглядывать за сим подлым ханом... Такой особой я вижу канцелярии советника Веселицкого, пребывающего ныне при князе Долгорукове.
– Консулом? – спросил Иван Чернышёв.
– Особа должна иметь более высокий ранг. Скажем, министра.
– Но он всего-то канцелярии советник, – заметил Вяземский. – Чин для министра недостойный.
– Чин можно повысить, – сказал Панин. – Но сейчас лучшего человека, хорошо знающего татарские особенности, нам не сыскать... К тому же он с ногайцами имеет давнее знакомство, а с некоторыми – дружбу. Последнее имеет важное значение, ибо сии коварные орды нуждаются В постоянном присмотре и успокоении, дабы сдержать их от вероломных поступков.
– Вы сомневаетесь в их верности? – насторожился Вяземский.
Панин достал из папки плотный лист.
– Я позволю себе огласить отрывок из письма князя Долгорукова... «О Едисанской и Буджакской ордах осмеливаюсь доложить: они в таком положении, а особливо знатные мурзы, что с крымцами почти никакой разницы я не почитаю. И чтоб они прежде данную присягу, пока Всевышний не увенчает армию её императорского величества победою над Крымом, вспомнили, – я от них не ожидаю. И когда крымское войско против меня будет сопротивляться, то не сомневаюсь я, чтоб и они в том им не участвовали...»
– Письмо-то давнее, – заметил Иван Чернышёв. – Нынче и Крым завоёван, и войско не сопротивляется... К тому же, как мне ведомо, сами крымцы не жалуют орды и хотят их отделить от себя.
– Это всё, пока армия князя в Крыму стоит, – пояснил Панин, откладывая бумагу. – А как далее будет?
– Так, может, не искушать судьбу? – развёл руки Чернышёв. – Пусть ногайцы изберут себе другого хана или остаются под властью Джан-Мамбет-бея.
– С двумя такими соседями будет хлопотно иметь дело, – предостерёг Вяземский.
– Однако всё же спокойнее, вследствие их слабости, происходящей от разделения, – возразил Чернышёв. – Недурно бы тонкими, неприметными действиями противопоставить их друг другу и, может быть, разжечь вражду.
– Здесь поспешать нельзя, – предостерёг Панин. – Следует сообразовываться с обстоятельствами, что будут, видимо, весьма переменчивы.
– А по-моему, господа, все они порядочные сволочи, – ругнулся Разумовский. – Что крымцы, что ногайцы – один чёрт!
Панин иронично улыбнулся:
– До окончания войны и подписания выгодного мира, граф, придётся сих сволочей почитать за лучших приятелей.
– Ну а ногайцы чем недовольны? – снова вступил в разговор Вяземский. – Им-то что надо?
– Мы лишаем их христианских рабов. Не возвращаем тех, кто сбежал из орд и пристал к армии князя Долгорукова... Вот и Евдоким Алексеевич писал, что Джан-Мамбет-бей требует их возвращения.
– Христиан магометанам? – искренне возмутился Чернышёв. – Ну знаете...
– Большинство пленников – купленные люди, – уточнил вице-канцлер Голицын. – Вот бей и не хочет убыток терпеть.
– Так заплатите им деньги! – горячо воскликнул Чернышёв. – Александр Алексеевич!.. – Он повернулся к Вяземскому. – Неужто несколько тысяч причинят казне ущерб?
– Коль Совет решит – станем платить, – торопливо ответил Вяземский.
– Прочих беглых христиан надобно, конечно, выкупать. Но русских подданных – никогда! – жёстко сказал Григорий Орлов, молчаливо сидевший всё заседание. (После затянувшейся вечерней пирушки он с утра был не в настроении, чувствовал себя усталым и разбитым). – Нам российскими людьми торговать зазорно!
Совет так и постановил...
Позднее, когда в Петербург пришло сообщение об избрании ханом Сагиб-Гирея, Совет снова вернулся к обсуждению вопроса о ногайских ордах. Решили придерживаться прежней линии: осторожно лавировать, отделываясь расплывчатыми обещаниями, но не торопиться их выполнять.
В рескрипте, подписанном Екатериной 27 августа, Щербинину повелевалось приложить старание, чтобы ордынские начальники «согласились на избрание нового хана Сагиб-Гирея и признали его власть над собой».
«Может быть, ногайцы будут в сём случае в затруднении, – говорилось в рескрипте, – в рассуждении пределов дозволяемой ему власти, потому что ханам крымским только время от времени в большее подчинение приводить их удавалось. Но сие обстоятельство, однако, не препятствует в соглашении на его избрание, ибо при том им вся удобность остаётся точные положения учинить с сим ханом при здешнем посредстве, поскольку и в чём они от него зависимы быть имеют...»
Подполковнику Стремоухову и другим офицерам, находившимся в ордах, Щербинин от своего имени должен был дать предписание: «Несмотря на дружбу ногайских татар, по свойственной им к продерзостям поползновенности, в ведомстве каждого предосторожность наблюдать должно».
Не остались без внимания Екатерины и крымские дела. В рескрипте Долгорукову указывалось, что избрание ханом Сагиб-Гирея следует «за благо принять, в показание татарам, что, соглашаясь во всём на их желания, тем самым подаём им опыты бессумнительные, сколь мы склонны находимся доставить им совокупную во всём независимость».
Долгорукову вменялось в обязанность от имени её величества сделать пристойные отзывы хану и дозволить ему вступить в правление Крымским полуостровом со всеми прежними правами и преимуществами. Однако это следовало сделать только после того, как «он подпишет акт своего отрицания пред народом от Порты, с обязательством никогда и ни при каких обстоятельствах не подчиняться, но всегда пребывать в дружбе и союзе с нашей империей».
Кроме акта хан должен был прислать в Петербург «особливую грамоту», в которую вносились как содержание акта, так и прошение о российском покровительстве. Эта грамота будет оставлена в столице навсегда «залогом его обязательства», а акт депутаты привезут назад для «хранения в крымском архиве».
На заседании Совета особо подчёркивалось, что российскую ногу необходимо оставить в Крыму навечно, для чего следовало начать убеждать татар об уступке крепости и порта на побережье Чёрного моря.
– По свойственному татарским народам небрежению размышлять о будущих приключениях, – говорила Екатерина, – а также по излишнему уважению только дел текущих будет трудно уговорить их на сию уступку... Но самое большое неудобство причиняет дарованная им независимость! Ибо теперь хан может потребовать собственного соглашения с Портой об отторжении. А этого допустить совершенно нельзя!.. При настоящем положении наших с татарами дел я менее всего собираюсь позволить крымцам непосредственно трактовать с Портой о признании приобретённой нами им независимости. Оное трактование я присваиваю себе!.. И делаю это потому, что турки могут обговорить отторжение татар такими кондициями, что и свои гарнизоны повсюду в Крыму разместят. А гарнизоны должны быть только наши!.. И чем скорее князь Василий Михайлович достанет крепость и порт – тем лучше.
– Мне думается, ваше величество, – доверительно сказал Вяземский, – что для пущего приласкательства татар и облегчения предстоящих уговоров надобно не лишать хана тех доходов, что раньше поступали в крымскую казну. И даже добавить их!.. Как известно, в Кафе, где лучший на полуострове торг отправлялся, все пошлины и разные сборы поступали в казну турецкого султана. И лишь небольшая часть из них – хану и тамошним знатным мурзам... Ныне же, до признания Портой крымской независимости, мы могли бы по военному праву принадлежащие ей доходы – как неприятельские! – употребить на защищение самого Крыма. А когда ханские депутаты заключат с Россией договор, то оставить все доходы в полном владении хана и общества.
Екатерина согласилась, что это предложение разумно и весьма дальновидно...
Вместе с высочайшими рескриптами Долгорукову было послано указание о «преклонении татар к признанию нужды в занятии в Крыму одной крепости и порта. И чтоб просить о том стали по внутреннему удостоверению, что такая ограда от турецких покушений и нападений всегда продолжаема быть долженствует...».
* * *
Август – сентябрь 1771 г.
Август в Крыму выдался жарким... С выгоревшего неба – ни тучки, ни облачка – немилосердно палило солнце. Горячий тугой воздух дурманил голову. Солдаты, родом из северных губерний, непривычные к здешнему климату, тяжело переносили одуряющий зной; а те, кто послабее, падали от тепловых ударов... Полевые госпитали были переполнены больными моровой язвой... В лагере под Кафой – безжизненное уныние.








