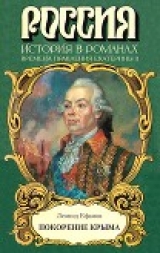
Текст книги "Покорение Крыма"
Автор книги: Леонид Ефанов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц)
«Вследствие первой статьи первое наше намерение было требовать и домогаться: 1) уступки в нашу сторону Кабарды большой и малой, 2) оставление границ от Кабарды через Кубанские степи до Азовского уезда на прежнем их основании, 3) уступки себе города Азова с уездом его, 4) признания со стороны Порты всех, в Крымском полуострове и вне его обитающих, татарских орд и родов вольным и независимым народом и оставлении ему в полной собственности и владении всех ими доныне обладаемых земель, 5) уступки грузинским владетелям взятых российским оружием в тамошней стороне мест...» Пунктов было много.
В «Инструкции» выражалась уверенность, что «все сии требования, исключая одной независимости татар, такого свойства, что не чаятельно им встретить затруднения с турецкой стороны».
...Пока Обресков шелестел бумагами, готовясь представить российские резоны по уступке Кабарды, Орлов начал говорить и – в нарушение «Инструкции»! – сразу поднял вопрос о признании крымских татар независимым народом. Граф знал, что в эти дни в далёком Бахчисарае Щербинин пытается подписать договор с крымским ханом, был уверен, что опытному генералу удастся сделать это быстро, поэтому решил и здесь, в Фокшанах, не откладывать дела в долгий ящик.
– Поскольку история и испытания всех времён ясно доказывают, – уверенно сказал Орлов, – что главнейшей причиной раздоров и кровопролитий между обеими империями были татары, то для истребления наперёд той причины надлежит признать оный народ независимым.
Услышав эти слова, Обресков бросил бумаги и, окаменев лицом, отрешённо посмотрел на Орлова... «Что же он делает?..» В зале было прохладно, но из-под парика Алексея Михайловича выкатилась и побежала по виску капелька пота.
Опрометчивость графа ужаснула Обрескова! Крымский вопрос был наиважнейшим на этих переговорах – от его решения зависело дальнейшее продолжение или окончание войны. Начав негоциацию именно этого вопроса, Орлов, сам того не ведая, поставил весь конгресс на грань срыва: если турки задумали не отдавать Крым – они тут же могли прекратить негоциацию.
Обресков метнул тревожный взгляд на Османа.
Тот был невозмутим – ответил Орлову спокойно:
– Надобно прежде доказать: татары ли были причиной сей войны?.. У нас на этот счёт другое мнение.
– История показывает, что Порта и нами, и другими окрестными народами по большей части из-за татар в ссоры и войны приходила. Именно они, татары, своей хищностью и необузданным своевольством всегда были первыми оскорбителями доброго соседства и зачинщиками неприятельств.
– Я согласен – они народ неспокойный. Но мой сиятельнейший султан содержал татар в тишине.
– Э, нет, – возразил Орлов. – Сама Порта многократно признавалась, что часто и в мыслях не имела разрывать мир и покой, но не находила прочных средств к крепкому их удержанию.
– Старые обиды не должны служить причиной новых, – здраво ответил Осман.
– Но ежели вы сами согласны, что сей народ требует надёжной узды, то кто же может попрекнуть Россию, что она ныне твёрдо принялась за исправление сего зла в самом начале.
– Это каким же способом? Уж не покорением ли Крыма вооружённой рукой?
– Нет, не рукой, – крепясь, чтоб не сорваться на крик, сказал Орлов, – а переменой самого бытия татар. И собственным их обязательством жить в тишине, покое и добром соседстве со всеми окрестными державами.
– Бытие татар не столь опасно, чтоб его переменять.
– Ошибаетесь, любезнейший! Разве вам не известны злодеяния, которые они учинили более трёх лет назад, вероломно вторгнувшись в границы Российской империи?
– Известны, – кивнул Осман. И тут же съязвил: – Они беспорядками своими походят на ваших запорожцев... Однако впредь мы намерены строже наказывать их за проступки и содержать в таком повиновении, какое большого беспокойства России не доставит.
Орлов замешкался с ответом: мудрый эфенди одной фразой свёл на нет все его усилия.
– Хочу напомнить достойным послам, – вступил в разговор до этого безмолвный Обресков, – что, покорив Крым, мы могли использовать право завоевания и всех татар огнём и мечом истребить, как людей, прежним их поведением помилования недостойных. Или, землю и города опустошив, их самих пленить и в неволю в наши дальние провинции отправить. Всё находилось в руках её величества!.. Но моя человеколюбивая государыня ни первого, ни другого не сделала. А по собственной их татарской просьбе даровала им вольность и независимость.
– Когда повсюду стоят чужие войска – любой народ станет просить о пощаде, – сухо сказал Осман. – А светлейшему моему султану, не имевшему над татарами права завоевания, они сами покорялись.
Осман хотел попрекнуть заносчивых русских в бессовестном оправдании своих преступлений, как благодеяний, но Обресков, не слушая переводчика, энергично подхватил:
– Сами покорялись – теперь сами отвергаются! Что ж им мешать?
Осман неестественно возвысил голос:
– Я надеюсь, ваша государыня, сравнивая татарина с султаном, не предпочтёт благополучие одного правам другого?
– Её величество такого сравнения не учиняла. Но похищенное ранее благополучие одного народа не может быть правом другого, – сказал Обресков, отчётливо намекая на давний захват Крыма турками. – Судя по вашим словам, Порта не стремится вернуть татарскому народу прежнюю вольность.
– Мы её не похищали! И возвращать нам нечего, – буркнул Осман.
– Значит, вы одобряете провозглашённую сим народом независимость и желание жить по древним своим обычаям?
– Они всегда так жили, – просто сказал Осман.
Чувствуя, что вопросы русского посла становятся всё острее, он хрипло закашлял, а потом, утерев усы и бороду платком, попросил закончить конференцию ввиду его недомогания.
Секретари прекратили скрипеть перьями, стали собирать бумаги...
Выйдя из зала, Орлов постоял недолго у входа, задумчиво глядя, как разворачивается, описывая большой полукруг, его карета, потом вялым голосом предложил Обрескову вернуться в лагерь пешком.
Тот без особого удовольствия согласился.
Орлов подошёл к карете, открыл дверцу, стянул с головы шляпу и парик, зло бросил на сиденье, снял кафтан, камзол – тоже бросил, нервным жестом распахнул пошире ворот белой рубашки, обнажив мускулистую волосатую грудь, и, обогнув карету, зашагал к боковой аллее.
Обресков последовал за ним.
Аллея предназначалась для прогулок – её сделали неширокой, плавно вьющейся между красивых развесистых деревьев и тщательно подстриженных кустарников. Остро пахло прохладной зеленью. Под ногами мягко шелестел речной песок. В кудрявых кронах переливчато высвистывали не видимые глазом лесные птицы.
Орлов шёл заложив руки за спину, опустив голову – о чём-то думал.
Обресков, расстроенный безрезультатным итогом конференции, не выдержал – сказал подавленно:
– Зря вы, граф, затеяли этот разговор.
– Что? – не понял Орлов.
– Зря, говорю, негоциацию с татар открыли.
– A-а, – рассеянно отмахнулся Орлов, – какая разница?
– Сей вопрос есть наиглавнейший, и следовало...
Орлов не дал договорить – вызывающе перебил:
– Вот потому и надобно было начать с него! Чтоб сразу выведать, сколь упрямы окажутся турки.
– Ну и выведали? – задиристо спросил Обресков.
Орлов остановился, обернулся, враждебно посмотрел на тайного советника.
– К чему это вы клоните, милостивый государь?
– К тому клоню, что вы, граф, своим неразумным поведением лишили нас манёвра.
– В баталию играть изволите?
– Баталия была там, за столом. И вы её проиграли!
– Это как же? – едко спросил Орлов. – Убитых-раненых как будто нет.
– Вы негоциацию ранили... Господи! Ну как вы не поймёте? Открыв конференцию с предписанных в «Инструкции» пунктов и получив со временем по ним удовлетворение – в этом сомнения нет! – мы развязывали себе руки: оставляли средства и способы сломить упорство турок в крымском вопросе, делая им в дальнейшем уступки по обговорённым уже пунктам. Ведь приобретение империей Кабарды – это пшик, медный грош в сравнении с утверждением независимости Крыма.
Орлов не ответил, резко крутнулся на высоком каблуке, снова размашисто зашагал по аллее...
Карьера тридцативосьмилетнего графа была стремительной и блестящей. Впервые о нём заговорили во весь голос во время Семилетней войны, когда молодой офицер, будучи трижды ранен в сражении при Цорндорфе, остался на поле боя, а не сбежал в лазарет, как делали некоторые при малейшей царапине.
Перебравшись в Петербург, силач и красавец Орлов становится одним из главных организаторов и участников переворота 28 июня 1762 года, в результате которого на престол взошла Екатерина. Она щедро отблагодарила капитана – произвела в генерал-майоры и действительные камергеры, пожаловала графским титулом и орденом Александра Невского, шпагой с бриллиантами и сотнями крепостных, а позднее назначила генерал-фельдцейхмейстером и членом Совета.
Годы любовной близости с Екатериной, широкие возможности влиять на государственные дела воспитали в Орлове чувство собственной непогрешимости: ошибаться могли другие, он – нет!.. И теперь, выслушав безжалостные упрёки Обрескова, он не мог и, пожалуй, не хотел переломить гордыню и признаться, что действительно поступил опрометчиво, начав конференцию с вопроса о татарах.
А ведь Обресков был прав: в «Инструкции» разрешалось в случае упрямства турок «отступить от требования на обе Кабарды», что, по мнению Совета, «может относительно Крыма служить хорошим доказательством бескорыстных наших намерений в рассуждении вольности и независимости всех вообще татар».
...Раскачиваясь всем телом, Орлов, не оглядываясь, словно забыв об Обрескове, ходко шагал по песку. Тучный Обресков не стал догонять его – шёл медленно.
Орлов вдруг остановился, повернулся и с запальчивой грубостью крикнул, выбросив вперёд руку:
– Рано за упокой поёшь, старик! Ты меня ещё не знаешь!..
На четвёртую конференцию турки не явились.
Рано утром в затянутый зыбкими дымами русский лагерь приехал Ризо и передал послам записку от Османа. Упомянув о продолжающемся недомогании, эфенди попросил отложить конференцию ещё на несколько дней.
– Дождались, – коротко изрёк Обресков, скосив неприязненный взгляд на Орлова.
После размолвки на аллее отношения между послами стали натянутыми. Они прекратили вместе столоваться, разговаривали только при крайней необходимости – редко и мало, отдыхали по отдельности: Обресков – читал, прогуливался по лесу, Орлов – выезжал на охоту, по вечерам устраивал шумные пиршества, затягивавшиеся, как правило, далеко за полночь.
Минувший вечер не явился исключением – Орлов, с помятым, бледным лицом, воспалёнными глазами, туманно глядел на Пиния, складывавшего записку, и молча утюжил ухоженной рукой волосатую грудь. Услышав возглас Обрескова, механически спросил слабым голосом:
– Чего дождались?
– А вы не понимаете? – сдерживая накатывающееся раздражение, спросил Обресков. – Осман время тянет.
– Зачем?
– Чтобы мы, осерчав, стали делать необдуманные шаги.
Орлов начинал приходить в себя: свежий лесной воздух выветривал из головы хмель, бодрил, во взгляде графа появилась осмысленность, голос приобретал прежнюю упругость.
– Я сам поеду к Осману, – сказал он, плеснул из графина в чашку студёной воды, выпил одним глотком. – Погляжу, какая это хворь его свалила...
Зная, что Осман болезненно воспринимает пышность российского посольства, граф предусмотрительно оделся неброско, карету выбрал простую, а в свиту взял только полковника Петерсона и переводчика Мельникова.
Недолгая благопристойная беседа с эфенди усилила опасение, высказанное Обресковым: турки действительно намеревались затянуть конгресс. Осман, старательно игравший немощного и болезненного старика, время от времени забывал об этом, что легко проглядывалось в уверенном жесте, бойком и твёрдом голосе. Орлову пришлось изрядно постараться, чтобы договориться о дате следующей конференции – 12 августа.
Когда он сообщил об этом Обрескову, тот восторга не проявил – сказал грустно:
– Если они задумали тянуть время – не отступятся... Только образ действий переменят.
И опять тайный советник оказался прав.
Осман отверг попытку Орлова начать конференцию с обсуждения вопроса о Кабардах, а когда граф вынужден был вернуться к татарским делам – заговорил о религиозных законах:
– Нет ничего важнее этих законов для всех народов, исповедующих ту или иную веру. Даже государи великих держав не могут их нарушать!
Орлов недоумённо посмотрел на эфенди, пытаясь понять, к чему он клонит, помолчал, потом сказал замедленно:
– Я не учен в богословии. Но коль почтенный эфенди утверждается на книгах своего закона, то и мне без нашего Евангелия обойтись нельзя... Если мир заключён быть имеет по закону и предписаниям веры – обоим дворам к постановлению оного должно было определить богословов. Однако мы с вами в таком качестве не состоим. Значит, и дело надлежит решать политически!.. Моя государыня перед всем светом обещала татарским народам вольность и должна сдержать своё слово!
– Слово государя дозволяющее меньше значит, чем слово Божье возбраняющее.
– В слове государевом объявляется воля Божья, – поправил Орлов эфенди. – Но мы здесь собрались не для богословских споров. Пора бы приступить к делам татарским.
– А мы и говорим о них... Россия может требовать от Высокой Порты какое угодно обеспечение относительно безопасности своих границ, но сделать татар свободными – противно магометанскому закону. Мой султан не может на это согласиться из-за опасения лишиться не только престола, но и самой жизни... Соглашение с великим монархом предпочтительнее вольности неугодного народа!
После таких слов стало ясно, что турки будут твёрдо и до конца отстаивать духовную зависимость Крыма. Россию это никак не могло устроить: имея духовную власть над татарами, турки фактически обладали бы и властью политической.
Османа поддержал отмалчивавшийся до поры Яссини-заде:
– Татары по личным их качествам не заслуживают никакого уважения Высокой Порты, которая издерживает на их содержание ежегодно до семисот мешков денег. И мы были бы рады от них избавиться.
– Так в чём же дело? – оживился Орлов. – Избавьтесь!
Яссини воздел худые руки к небу:
– Законы заставляют нас противиться их отделению.
– Отделение татар от Блистательной Порты и предоставление им свободы постоянно будет служить причиной столкновений между нашими великими империями, – снова заговорил Осман. – Когда татары по своему вечному беспокойству сделают какую-нибудь наглость против российских подданных, Россия, разумеется, пошлёт против них войско. А татары обратятся с просьбой о помощи к нашему светлейшему султану, который согласно шариату и как верховный калиф. – Осман поднял указательный палец, – не может им отказать в оной.
Орлов враждебно посмотрел на турецких послов. Избалованный вниманием Екатерины, он привык чувствовать себя хозяином в любом деле – перед ним заискивали, льстиво улыбались, сломя голову летели выполнять любое его указание. Здесь же, на переговорах, столкнувшись с упорством Османа, он быстро выходил из себя, не понимая, что на подобных конгрессах, когда речь идёт о послевоенном устройстве государств, об участи завоеваний и границ, ни один вопрос не решается с наскока – нужно проявить осторожность, терпение, настойчивость, чтобы мелкими шажками, неторопливо, делая уступки, продвигаться к намеченной цели. Для искушённого политика Обрескова такой путь был привычен, но энергичная, пылкая натура Орлова всем своим существом протестовала против тягуче-нудного хода негоциации. Тем более что турки почти неприкрыто её затягивали.
Сдерживая благородный гнев, Орлов повелительно объявил:
– Без разрешения татарского дела мы не сможем обговаривать прочие артикулы мирного трактата!
Осман уступать не стал – безбоязненно, с затаённой ненавистью, кинул на графа мерцающий взгляд, сказал предостерегающе:
– Ежели Россия и далее будет настаивать на независимости Крыма, то Блистательная Порта, следуя законам шариата, снова начнёт против неё войну.
Орлов закусил удила – вскричал клокочущим от негодования голосом, рискуя этим оскорбительным выпадом в один миг разорвать конгресс:
– Не вам грозить доблестному и непобедимому российскому оружию!
Он порывисто вскочил с места, намереваясь обрушить на турка поток ругательств, но тут же, услышав злое шипенье Обрескова, сел.
– Одумайтесь, граф, – шипел Алексей Михайлович. – Не рубите сплеча... Он, конечно, сволочь, но, чтобы повернуть обезумевший табун, надобно некоторое время скакать вместе, в одном направлении. Ещё не всё потеряно.
Орлов всё же проронил сквозь зубы:
– Угрозы за этим столом – не виктории, одержанные Румянцевым при Ларге и Кагуле. Да и Чесма тоже кое-что значит.
Осман и сам понял, что сказал лишнее, выдавил на губах кислую улыбку, но остался при своём мнении:
– Светлейший султан, соглашаясь на свободу татар, должен сохранить право апробировать каждого нового хана.
Обресков мигом раскусил уловку эфенди.
– Апробация, конфирмация, признание – каким словом ни назови – претит совершенной независимости татар. Султан всегда, когда захочет, может вдруг дать благословение на ханство трём-четырём татарским султанам, кои по обычаю и гирейской крови имеют право престолонаследия. И тем породит в Крыму междоусобные брани и беспокойства на границах.
Пока турецкие послы выслушивали переводчика, Обресков, склонив голову к Орлову, беззвучно шептал:
– Эфенди, вне всякого сомнения, человек большого ума. Только ум этот имеет свойство непостижимости. Он же прекрасно знает, что такая апробация равнозначна оставлению татар в прежней зависимости.
Ответить Орлов не успел, поскольку Яссини-заде, мелко тряся жидкой бородой, суетливо изрёк:
– Наш закон не допускает существования Крымского ханства в качестве независимого в религиозном отношении государства. Вы же своими упрёками стремитесь понудить нас к нарушению шариата.
Но Обрескова на такой мякине провести было трудно.
– Если мне не изменяет память, – укоризненно заметил он, – то преемников пророка Магомета в одно и то же время царствовало три: один калиф сидел в Вавилоне, другой – в Дамаске, третий – в Египте. И закон ваш сие, как видим, допускал!.. Ну подумайте сами, можно ли считать свободным народ, главные правительственные особы которого должны получать своё достоинство и чины по конфирмации другой державы.
Яссини не ответил.
А Осман, опустив углы морщинистого рта, сказал обиженно:
– Мы вытрясли из мешка всё, что имели... Ничего другого в нём нет... И если вы не желаете понять, что закон веры для нас превыше мира, продолжение конгресса далее становится бессмысленным.
Скрипевшие перьями секретари вздрогнули, перестали писать, подняли головы.
Турецкие послы сидели неподвижно, застыв в равнодушных позах. Подкрашенное медным загаром лицо Орлова затвердело неживой маской, но нервно подрагивающие ноздри, жёсткий, горящий взор сузившихся глаз говорили о сильном душевном волнении. Обресков внешне остался спокоен – он умел скрывать свои переживания, – но слова эфенди встревожили и его: он не ожидал, что турки так внезапно и откровенно разорвут конгресс.
В зале повисла напряжённая, давящая тишина.
Обресков окинул длинным цепким взглядом турецких послов и вдруг понял – Осман блефует. В политической борьбе стороны часто берут друг друга на испуг. Несомненно, хитрец Осман сейчас испытывал стойкость российских послов.
Обресков решил не пугаться его угроз, придал лицу скучающе-сочувственное выражение, покровительственно молвил:
– Коли вы так ставите вопрос, то соблаговолите сообщить количество подвод, потребное посольству для отъезда за Дунай... Мы выделим оные.
После долгой-долгой паузы Осман, облизнув сухие губы, пообещал дать ответ позднее.
Прошло несколько дней.
Обресков стал беспокоиться, что его ожидание – «не вытрясут ли турки ещё что-нибудь из мешка» – не сбывалось. Послы молчали, и было совершенно непонятно, продолжится ли конгресс дальше.
Потерявший терпение Орлов решил ускорить развязку – объявил Обрескову, что намерен послать туркам ультиматум: или принятие условий, предложенных Россией, или продолжение войны.
У Обрескова затряслись щёки:
– Не делайте этого, граф! Ведь не примут турки ультиматум, не примут! Погодите несколько дней – они образумятся... Столько трудов положили на созывание конгресса. Не можно в одночасье всё поломать!
– Знаешь, старик, – с обидной грубостью огрызнулся Орлов, – я не собираюсь вечно слушать несуразные речи этого турецкого болвана. Не примут ультиматум – пусть продолжится война! Они, вероятно, забыли, что граф Румянцев хорошо изведал пути к викториям. Сами прибегут с миром! – потряс кулаком Орлов. – И на всё, на всё, что продиктуем, согласятся!..
Утром 17 августа Пиний передал ультиматум турецким послам. Осман без промедления погнал нарочного к великому везиру и спустя пять дней получил указ Муссун-заде о формальном отзыве с конгресса. Через переводчика Ризо эфенди уведомил российских послов о прекращении негоциации.
Орлов и Обресков разругались окончательно. Орлов, бешено выпучив глаза, свирепо поносил тайного советника за мягкотелость и нерешительность. Обресков тоже в долгу не остался – с вызовом кричал графу:
– Вы, сударь, полагали, что турки станут перед вами угодничать? Ошибаетесь!.. Здесь не Петербург, а турки – не ваши лизоблюды!..
На следующий день, взяв с собой самую малую свиту, Орлов спешно укатил в Яссы, оставив на попечение Обрескова всё посольство и заботы по проводам турецких полномочных. В Яссах он тоже не задержался – сменил в очередной раз лошадей и отправился дальше, в сторону Киева...
Орлов торопился. Будучи в фокшанском лагере, он получил от доброжелателей из Петербурга ошеломляющую новость: Екатерина приблизила к себе невесть откуда взявшегося юного и пылкого офицера Александра Васильчикова и даже спит с ним.
Для графа это могло означать только одно – конец карьеры любовника и фаворита.
Ещё весной он почувствовал проскальзывавшую временами холодную отчуждённость Екатерины, но не придал этому должного значения... «Баба – она и есть баба! Перебесится...» А назначение первым послом на конгресс расценил как личную доверенность государыни, желавшей утереть нос Панину и его сторонникам. Но теперь всё смотрелось по-иному: видимо, Екатерина уже тогда, весной, задумала избавиться от него и удалить из своего окружения.
Орлову – человеку, имевшему большое влияние на дела государства, осыпаемому наградами и почестями, привыкшему к приятному воркованию сладкоголосых льстецов, входившему в любое время в спальню Екатерины – предстояло теперь пройти через унижение и позор отлучения от двора.
...Обгоняя медленно ползущие купеческие и крестьянские возы, графская карета безудержно летела по пыльным дорогам российских губерний.
Орлов ещё тешил себя надеждой, что стоит ему предстать перед очами Екатерины – всё вернётся на круги своя. Он ещё верил в свою звезду и не понимал, что она уже погасла!.. Короткое письмо, вручённое специальным нарочным, когда до Петербурга оставалась сотня вёрст, раздавило графа – Екатерина запретила ему въезжать в столицу и приказала остановиться в Гатчине.
Орлов механически смял в кулаке записку и, жалкий, поникший, забился в угол кареты...
С отъездом графа из Фокшан жизнь в русском лагере стала размеренной и деловитой. Обресков своей властью запретил многочисленным свитским бездельникам устраивать шумные ночные пирушки, приказал укладывать багаж и отправляться в Яссы.
Турецкое посольство тоже покидало свой лагерь.
Соблюдая этикет, Обресков вышел проводить послов.
– Мне жаль, что неразумные поступки графа довели конгресс до разрыва, – доверительно шепнул он Осману. – Лелею надежду, что он разорван не окончательно.
Осман сочувственно покивал:
– Мне тоже хотелось бы надеяться... Но срок перемирия истекает.
– Срок можно продлить, – ещё более доверительно сказал Обресков, предусмотрительно – ещё до орловского ультиматума – списавшийся с Румянцевым и заручившийся его поддержкой. – Я посоветовал бы вам донести об этом великому везиру...
* * *
Июль – август 1772 г.
После неудачной первой конференции Евдоким Алексеевич Щербинин решил навестить хана... «То, что он говорит на людях, – это одно, – рассуждал генерал. – Посмотрим, что он скажет приватно...»
Во дворец Евдоким Алексеевич прибыл неожиданно, без предварительного уведомления, когда хан, совершив полуденный намаз, отдыхал в одиночестве в своих покоях. Без особого желания он всё же согласился принять русского посла.
– Вашей светлости подлинно известно глубокое и нелицемерное уважение, которое высочайший мой двор питает лично к вам, – проникновенно начал беседу Щербинин. – История Крымской области знает немало случаев, когда по злой воле Порты или коварным проискам непослушных беев законные правители низвергались с престола. Имея же покровительство России и её победоносное оружие в здешних крепостях, ваша светлость станет истинным самовластным и никому не подчинённым государем, царствие которого будет нескончаемо до самой смерти.
Щербинин льстил хану обдуманно: надеялся на его откровенность.
Сагиб-Гирею было приятно слышать такие слова, но трезвости ума он не терял – ответил честно:
– Ханская власть словно вода в большом кувшине с узким горлом – воды много, а льётся тонкой струйкой. Кто его наклонит, тот и выльет... Не я становлюсь ханом, а знатные беи с согласия Порты делают им меня. Поэтому не могу сам, без их совета, принять решение.
Прямота хана понравилась Щербинину – он решил поддержать его.
– Я знаю силу беев и духовенства. Они могут многое... Но за вашей светлостью будут стоять русские штыки и пушки! Хан и только хан должен править своей державой!.. Мне говорили. – Евдоким Алексеевич кивнул на переводчика Константинова, – что у вашего народа есть хорошая пословица: «Где много пастухов, там все овцы передохнут». Не считаете ли вы, что доселе Крымская область имела слишком много этих самых пастухов?
Сагиб-Гирей усмехнулся, приоткрыв белые зубы:
– У нас есть и другая поговорка: «Карт сузин тутмаган картайгачы онгмас».
После некоторой паузы Константинов перевёл:
– Не поступающий по словам стариков до старости не будет удачлив.
– Без их согласия я не могу подписать акт, – понуро сказал Сагиб.
Щербинин вернулся в лагерь ни с чем.
Вечером, в свете лилового заката, ужиная вместе с Веселицким, Евдоким Алексеевич ворчливо пожаловался:
– Достоверно видно, что сам хан мало чего стоит, ибо весь в руках здешних стариков находится. Вот кто истинные правители области!
– В рассуждении моём, ваше превосходительство, старики будут и далее упрямиться изрядно, – заметил Веселицкий. – Предлагаемая независимость им совсем даже не нужна.
– Боятся, что она со временем может превратиться в зависимость от нас?
– Точно так. Им выгоднее скорее от Порты зависеть, чем от России... Вспомните, в чём состоял во все времена их главный промысел!.. Всегда татары кормились набегами на российские земли и главный их интерес был в добыче христианских пленников. И коль ханство и впредь будет в турецких руках – промысел сей злобный при них останется. А коль в наших? – Веселицкий вопросительно посмотрел на Щербинина.
– Да-а, – протянул тот, – в непосредственном союзе с христианской империей ласкать себя тем уже не смогут.
Некоторое время они ели молча, затем слуги убрали посуду, подали кофе. Веселицкий закурил.
– А что ваши здешние приятели? – спросил Щербинин.
– Деньги и подарки берут, – пыхнул дымом Веселицкий, – и говорят, что хана увещевают усердно.
– Что-то не видно этих увещеваний... Посмотрим, что следующая конференция принесёт...
Но и вторая и третья конференции ничего нового не дали – позиция татарских депутатов осталась неизменной.
– То, что вы требуете, несоразмерно с установившимися между нами отношениями, – попрекал Щербинина Мегмет-мурза. – Прежний предводитель армии Пани-паша присылал к нам письма, уговаривая отторгнуться от Порты и вступить в союз с Россией. Но в тех письмах ни о каких крепостях речи не было. Что же вы теперь нас принуждаете?
– Это так, – подтвердил Евдоким Алексеевич. – Но вы запамятовали, что на предложение предводителя ответ из Крыма так и не поступил!.. Одни только ногайцы оценили предъявленное им сокровище – вольность... Крымцы же, хотя и уверяли в готовности последовать их примеру, поначалу ограничивались одними обещаниями и всяческими отговорками. Отторгаться они не стали! А на деле выразили своё недоброжелательство, открыто приняв вместе с турками защищение Перекопской линии. Поэтому на внушение графа Панина вам ссылаться неуместно!.. Тем более что и далее своим неразумным поведением вы подвигли Вторую армию к походу на Крым. А ведь его можно было избежать!
Разящий ответ Щербинина не смутил Мегмет-мурзу – он продолжал настаивать на своём:
– Однако преемник Пани-паши Долгорук-паша подтвердил все прежние обязательства! И многократно изъяснял, что он определён выгнать находившихся в Крыму турок и доставить нам спокойствие и тишину. О завладении стоящими здесь крепостями, городами и аулами он не упоминал! И в манифесте его про то ничего не писано.
– Это правда. Но правда половинчатая, – возразил Щербинин.
– В чём же другая половина состоит?
– В том, что князь вооружённой рукой отворил ворота в Крым! А татары подтвердили свою преданность Порте, оказав нашим войскам сопротивление и чиня препятствия во время их движения на Арабат, Кафу, Керчь и прочие места. И лишь по занятии всех крепостей стали помышлять о спасении себя и своего достатка... Вот и выходит, что князь был озабочен не только тем, как выгнать турок, но и имел военное дело с вами, как с тогдашними турецкими приятелями... Сила нашего оружия заставила вас убежать от Порты и проситься под российское покровительственное крыло!
– Но когда мы просили Долгорук-пашу оставить в нашем владении крепости и внести запись об этом в договор, он не отказал, а, напротив, подтвердил, что ваша королева не имеет никакой нужды в сих крепостях. И ещё он говорил, что русское войско будет в Крыму только до окончания войны с Портой. Зачем же вам нужны крепости после войны?
– Вы лжёте, – сказал Щербинин с язвительной гримасой. Он протянул руку к папке с бумагами, вынул копию долгоруковского договора и выразительно помахал ею перед лицами татар. – В пункте седьмом точно указано, что на основании акта, который надлежит подписать, все крепости и пристани, где турецкое войско находилось, должны быть заняты русскими войсками для защищения от неприятельских происков... Все крепости!.. А я прошу только две!.. И они названы в акте, что я привёз с собой. И который вы уже тогда соглашались подписать!.. А вот о времени пребывания нашего войска в договоре о том нигде не упомянуто!.. Подумайте, коль ваши знатнейшие чины согласились на это в минувшем году, как можно теперь слово и подписи назад забрать?








