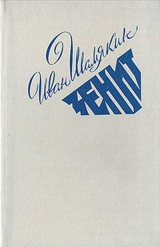
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
Подбежал Колбенко, крикнул на ухо, видимо уверенный, что я контужен:
– Дети! – и показал на вагоны.
А сам без фуражки, голова в крови. Не успел я сказать о его ранении, как парторг бросился к вагону.
Я подхватил Женю с земли – долговязую и легкую, как гуттаперчевая кукла. Поставил на ноги. Крикнул на ухо так же, как мне Колбенко:
– Дети!
Она шаталась.
– Иди в вокзал!
– Нет! Я с вами.
«Юнкерсы» сделали другой заход. Но больше я не считал взрывы. Не слышал их.
Ни через час, ни через день, ни теперь, через сорок лет, я не мог и не могу восстановить в памяти последовательность событий: что когда делал, с кем вытаскивал женщин, детей, мужчин, гражданских, военных из окон перевернутого вагона, передавая их саперам, быстро соорудившим помост из шпал. Кто из людей на моих руках был цел, кто ранен, кто, может, мертв – не помню. Хорошо помню только детей, которых мы с Женей выносили из соседнего вагона. Детей оглушило, изрезало стеклом разбитых окон. Но дети были живы. И я радовался и в то же время вслух крепкими словами, не стесняясь Жени, крыл тех, кто так рано вез сюда, на недавно освобожденную землю, детей. Потом я потерял Женю. Кажется, она осталась в здании вокзала, куда сносили раненых.
Носили раненых с Колбенко. Но и он куда-то исчез. Меня подхватила медсестра с санитарными носилками.
– Помоги мне, младшой…
У дальнего товарного вагона подобрали мы с ней убитую женщину – лейтенанта медицинской службы.
Я заметил окровавленную гимнастерку на груди, на животе. Совпадение поразило меня чуть ли не до обморока. Закружилась голова, подкосились ноги. Я постарался взять носилки спереди, чтобы не видеть убитую, не рассматривать ее лицо, рану…
Не сразу смог поднять носилки. Медсестра, не признавая субординации, выругала меня:
– Бери же быстрее, недотепа! Что ты как контуженый!
Не понесли ее в вокзал, вынесли за ворота на площадь. Там, на асфальте, в один ряд лежали убитые, их было человек двенадцать, некоторых накрыли плащ-палатками.
Лица накрыты, грудь, а ноги видны. Женские. Детские ноги были босые. И было очень страшно, что смерть настигла их босыми. Они ехали мирно. Возвращались домой. На освобожденную землю. И не доехали.
Хотелось запомнить лицо той, которую я помог принести к этому братскому ложу на асфальте. Куда она ехала? Сюда, в Петрозаводск? В Кандалакшу? В Мурманск? Воевала? Или, может, только из института? Нет, гимнастерка и погоны изношены. Я заметил. А в лицо побоялся всмотреться так, чтобы оно осталось в памяти. Потом не мог простить себе слабости. Должен был запомнить ее облик, чтобы он жил со мной, как облик Лиды, Кати, Любови Сергеевны, прожектористок. Мог бы и имя, и фамилию ее узнать, домашний адрес – видел же, как медсестра достала из кармана ее гимнастерки документы еще там, у вагона, а назад вложила медальон с адресом. До сих пор корю себя за минутную слабость. Тяжело нести в памяти безымянного, безобразного человека. Стоит перед глазами мертвая женщина, вижу ее во сне. И всегда вместо лица что-то жуткое, чаще – кровавое месиво…
Но на войне своя логика: на поле боя в первую очередь ищут своих. И я бросился искать Колбенко, Женю, Шаховского. Обожгла мысль: а вдруг кто-то из них под палаткой?
Зал, прибранный для встречи первых пассажиров, снова был усыпан битым стеклом, штукатуркой. Но на это я обратил внимание позже. А как вошел туда – взгляд на людей. Их было неожиданно много. Раненых. Они лежали, сидели на вокзальных скамьях и просто на полу. Изредка кто-то ойкал, но никто не стонал. Плакала девочка.
Раненым оказывали первую помощь врачи, сестры – из тех, что, как и мы, встречали несчастный поезд. Да и не только они. Видимо, успели приехать из ближнего госпиталя. Командовал подполковник медицинской службы, которого я до сих пор не замечал. Командовал почему-то зло. Кричал на сестер. Набросился на меня:
– Не ранен? Помогай выносить раненых!
– Я ищу своих.
– Кого своих?
– Заместителя командира дивизиона.
– Не ловите ворон!
При чем тут вороны? И почему я их ловлю?
– Павел!
Колбенко! Живой! Как я обрадовался! Он сидел в дальнем углу на скамье, потому я и не заметил его сразу. Рядом с ним, откинувшись на спинку, на знакомый вензель «НКПС», полулежал обнаженный до пояса человек. Ему опалило волосы, брови. Обожгло лицо, грудь. Немолодая врач в гимнастерке без погон делала обожженному примочки. Колбенко помогал ей – держал посудину, куда врач макала марлевые салфетки и обкладывала ими голову, щеки, плечи, грудь пострадавшего.
– Вы легко отделались, капитан. Только вот здесь, на плече, ожог второй степени.
– Рубашка спасла меня. Не та, в которой родился… казенная. Что мне скажет Кум за рубашку?
Кум? Наш обозник? Кто же это – с такими ожогами? Голос незнакомый, осипший. Приблизившись, узнал я Шаховского. И был ошеломлен его обликом. С обожженной головой, бровями, облепленный марлей, он напоминал марсианина с рисунка в фантастическом романе. И еще шутит? Что же сказать ему? Посочувствовать? Спросить, чем помочь?
– Что это у вас за кум такой строгий?
– О! Это всем кумам кум. Вы любите свою кастеляншу?
Женщина засмеялась.
– Я сама кастелянша.
– Да что вы! И так безжалостно изрезали казенные сорочки?
– Живой, Павел? – Взглядом ласковых глаз обнял меня Колбенко. – А мне чуть не снесло макушку. Не жалко было бы – финским осколком, а то родной рамой… треснула от пожара – и по голове парторгу. Несознательная какая!
– За этого молодца вы так волновались? – спросила доктор. И мне: – Пиши, комсорг, реляцию, я буду диктовать, как ваш капитан выносил детей из пылающего вагона… Я свидетель авторитетный.
– Вы правда кастелянша?
– Почти. Заместитель начальника эвакогоспиталя.
– Всего-навсего полковник?
– Всего-навсего. Слушайте, капитан, ойкните вы хотя бы разочек. Не люблю волевых раненых. Знаю, больно же. И сильно.
– Я не раненый. Я поджаренный. И поделом мне. Мы не выбросили необходимое количество НП. И вот результат… Печальный. Однако с какой точностью их навели. Не обошлось без радиста. Где наши пеленгаторы?
Я успел окинуть взглядом весь зал, всех на удивление молчаливых раненых. Девочку, видимо, повезли в госпиталь. Исчез шумливый подполковник.
– А Женя… где Женя?
– А где Женя? – поднялся с лавки Колбенко, наверное, чтобы поискать ее в зале. Сморщился от боли, покачнулся. Не легкая, выходит, рана у Константина Афанасьевича. Недаром он, остроумный балагур, не отвечал на шутки доктора.
Она пригрозила ему:
– Сидите тихо. Я таки заберу вас в госпиталь.
– Игнатьева загасила на мне сорочку, – сказал Шаховский. – Вот на кого нужно представлять. Найдите ее, Шиянок.
Я бросился на перрон. На нем было немало людей. Пассажиры, гражданские, военные терпеливо ожидали, когда саперы-железнодорожники стащат с пути поврежденные вагоны, состыкуют состав и поезд продолжит свой почетный рейс до Мурманска. Каждому видно, что будет это не скоро, через много часов, может, через сутки, но люди ожидали. Удивляло спокойствие пассажиров, а главное то, что они не боятся повторного налета. А меня страшил новый налет. Втемяшились в голову слова капитана про наводчика. И я подумал, что военному коменданту станции стоило бы разгруппировать этих людей. Недалеко от станции скверик – березовая роща, в городе все скверы березовые. Да и бомбоубежищ финны не могли не настроить. Но людям, вероятно, легче ожидать, наблюдая, как идет обновление средств их движения к цели.
Жени нигде не было видно. Я пробежал вдоль всего состава. Заглянул в вагоны, из которых доносились голоса. В теплушках ехали армейские команды. В других везли военное имущество. Сопровождавшие охраняли свое добро. Почему фашистские пилоты метили в пассажирские вагоны? Знали, что едут члены правительства? Генералы, офицеры? Так не видно же было высоких чинов. Погибли женщины и дети. И среди раненых больше женщин. Да тех, кто их спасал – как Колбенко, Шаховский.
Тревога моя за Женю росла. Где она? Моя идея – взять ее на встречу поезда. Встретили! Появилось новое необычное чувство ответственности за нее – не командирское, нет, и не отцовское: точно потерял порученного мне чужого ребенка.
Странно, вот уже сорок лет мне нередко снится один и тот же сон: я теряю ребенка… иногда кого-то из моих детей – маленьких Марину, Свету, Андрея, особенно страшно в последние годы – я теряю Вику, иной раз это чужой ребенок. Но все равно одинаково охватывает ужас, я просыпаюсь в холодном поту, сердце стучит, чуть ли не разбивает грудную клетку, а потом болит. Меняется только место потери: то это станция со множеством эшелонов, целых и разбомбленных; то современный, чужой и враждебный, город, где я бывал, – Нью-Йорк или Токио, со множеством людей, не понимающих меня, и я не понимаю их; то строительные леса, каким не видно конца, уходящие в высоту за облака; то подземные тоннели, узкие, тесные, загроможденные бочками, ящиками. Особенно страшно терять ребенка в этих консервных лабиринтах. Изредка теряю в лесу. Это не самый страшный сон, он как будто ближе к реальности, к жизни – случаю из моего детства, когда я действительно потерял в лесу свою младшую сестру. Но не этот факт – повод для сна. Он – след в подсознании от моих поисков Жени на Петрозаводской станции, где после бомбежки устанавливался порядок и где стоял всего один эшелон, если не считать финских вагонов на дальних путях.
Врезалось в мозг нарастание беспокойства – до панического страха. Росло чувство виноватости, что потерял человека. Всплыла тяжкая ассоциация: я действительно (Колбенко это сразу понял) сильно испугался, услышав в доме в Медвежьегорске Лидин голос. Как предчувствие. Не оно ли гоняло меня по всей территории станции, от паровоза до последнего вагона и назад? Неужели мое страшное предчувствие снова сбудется?
Начал расспрашивать у саперов: может, видели они девушку-бойца?
– Высокая такая. – Я показывал ее рост, поднимая руку над головой, хотя не настолько Женя выше меня, просто худая, потому и казалась неестественно высокой.
Саперы смеялись над такой приметой.
– Не дотянешься поцеловать, младший лейтенант.
Шутки не только были неприятны, они усиливали тревогу. Неизвестно, как долго я искал бы. Но старый сапер, по годам отец мне, помню, он работал в нижней сорочке и в разрезе на груди был виден шрам, прочитав, наверное, на лице моем беспокойство, а перед тем услышав шутки своих товарищей, остановил меня:
– Кого ищешь, сынок?
– Сестру.
– Сестру? Ты приехал или она приехала?
– Нет… мы вместе.
– Худая такая? Ленинградская?
Отец! Сколько у тебя проницательности, такта, чуткости! Многие голодали, но такие, как Женя, могли быть только из Ленинграда.
– Она!
– Так она же… как занесли мы с ней убитую., вернулись… подлезла под вагон и пошла вон туда, к тем вагонам. Видно, нехорошо ей. Но по-разному бывает плохо людям. Следом не пойдешь…
– Спасибо, отец.
Нашел Женю совсем недалеко, через три пути. Она лежала за ручной дрезиной на кучке свежего желто-белого, искристого песка. Лежала ничком. Песок ужаснул – как будто только что неизвестно кем выброшен из могилы. Почему она упала на этот песок?
Я застыл над Женей, окаменев от ужаса. Неужели мертвая? Неужели еще одна смерть? От чего? Не от осколка же! Она носила раненых, убитых и… не выдержало ее больное сердце?
Нет! Чуть приподнялись ее худенькие лопатки. Дышит!
Я упал на колени, схватил ее за плечи.
– Женя! Что с тобой? Женя!
Повернул девушку на спину.
В щеку впились песчинки, и щека эта розовее другой, полотняно-белой. Щека была живая. Я провел рукой по Жениной груди, по животу, не веря глазами, что раны нет. В мозгу моем зияла Лидина рана, и мне казалось, что девушка может умереть только так – от раны в живот.
Неожиданно прозвучал суровый голос:
– Что ты щупаешь? Она мертвая. Кто это? Надо мной стояла… Параска.
Она показалась мне вестником беды. И я закричал:
– Нет! Нет! Она живая! Живая! Это тебе хочется видеть ее мертвой. Фашистка!
– Что ты визжишь, как баба? Если живая, то давай понесем в вокзал. Там врачи. А фашистку я тебе, молокосос, припомню. Я тебе покажу, какая я фашистка.
И чудо! От моего крика или от наших голосов Женя открыла глаза. Посмотрела бессмысленно. И тут же попыталась сесть. Я поддержал ее.
– Что с тобой, Женя? Что с тобой?
Минуту она как бы вспоминала, что же с ней. Потом ослабевшим, больным голосом начала объяснять, виновато оправдываясь, словно сделала что-то нехорошее.
– Сколько я видела смертей… на санках возила на кладбище… маму отвезла, сестру. Я будто ждала их с этим поездом… А тут – снова смерть, кровь… кровь. Мне стало плохо. Боялась упасть там, на людях… Подумали бы, что я с поезда, и понесли бы… Меня понесли… А это страшно, когда несут.
– Несчастные дети, – вздохнула Параска.
Глянул я на женщину и… увидел… глаза, полные слез. И стало стыдно за свое подозрение, за оскорбительное слово, только что брошенное в ее адрес. Прав был мудрый Колбенко, когда советовал не спешить с выводами. Стоило бы попросить прощения. Но на это – стыдно признаться – не хватило духу.
– Вам помочь? – спросила Параска.
– Помогите. – Это была и моя просьба о прощении, и мое примирение с ней.
– Я сама… Я сама. – Женя пыталась подняться, но ноги не слушались, она упиралась руками в песок, и он струился между пальцами, тек под ноги.
Параска подхватила Женю под мышки, легко и, показалось, грубо, как обмолоченный сноп.
– Не ломайся. Видела, как ты сама. Точно бог послал тебе эту кучу песка. А то могла бы головой о рельс. Чего ты боишься? Не на танцах сомлела. Не отвернутся кавалеры.
– Павел Иванович, не говорите никому. Я сжал ее руку: не скажу.
Но как показать ее Шаховскому и Колбенко? Поручив Женю женщине, которую только что оскорбил, а теперь был благодарен ей, я бросился вперед, чтобы отвлечь внимание офицеров от состояния Жени.
Шаховский сидел на той же скамье, забинтованный с головы до пояса, в наброшенном на плечи госпитальном халате. Колбенко лежал рядом. Спал или потерял сознание? Врачи исчезли. Они оказали первую помощь. Вообще людей в зале стало меньше. Две сестры поили раненых каким-то розовым напитком. И мне вдруг страшно захотелось пить. Нет, в первую очередь напоить Женю.
Шаховский деликатно упрекнул:
– Куда вы подевались?
– Искал Игнатьеву.
– Нашли? Где она? Жива?
Тут Параска, поддерживая под руку, подвела Женю, и обожженный капитан увидел мертвенно бледную девушку.
– Что с вами, Игнатьева?
– Мы носили убитых. И у нее закружилась голова. И у меня закружилась голова… – усаживая Женю рядом с Шаховским, просто и правдиво объяснила Параска. И приказала, как хозяйка, как старшая: – Сестрички! Воды сюда! Воды!
– Шиянок, беги на позицию нашего пулемета! И позвони майору. Пусть летит сюда Пахрицина. А то «кастелянша», – он болезненно улыбнулся, – заберет нас в свой госпиталь. А нам с парторгом не хочется. Свои раны мы залечим дома.
Волновался я не столько из-за Шаховского и Колбенко, хотя его состояние испугало, – они могут полечить свои ожоги в госпитале. А вот Женя… как смерти, боится, бедняга, что ее комиссуют.
Трубку у телефонистки выхватила Любовь Сергеевна. Она сидела на КП, звонила пулеметчикам. Искала нас.
– Что с ним? Что с ним?
Я понял с кем и разозлился. Он же не один. А что с нами – с Колбенко, с Женей, со мной, – доктора, выходит, не волнует.
– Обожгло капитана.
– Как обожгло? Где? Да вы что, онемели там? Шиянок?
– Я оглох. Приезжайте – увидите. – И зло бросил трубку.
Только успел приплестись в вокзал – бежать я не мог, вдруг после телефонного разговора ощутил смертельную усталость, – как они появились – майор Кузаев и она, Пахрицина.
Любовь Сергеевна бежала впереди.
Санитары забирали очередную партию раненых. Чуть ли не насильно, показывая бумажку с фамилиями, хотели забрать Колбенко и Шаховского.
Оттолкнув санитаров, не обращая внимания на своего командира, на Колбенко, на меня, на рядовую Игнатьеву, капитан медицинской службы, строгая, волевая, без женских сантиментов – в дивизионе ее боялись больше, чем своих непосредственных начальников, – вдруг упала на колени перед Шаховским, обняла его ноги – только они не были забинтованы.
– Петя! Петечка! Живой! Живой!
Шаховский снял с ее головы пилотку, пригладил, бинтами волосы.
Женя прижала пальцы к глазам.
Колбенко крякнул.
Кузаев укорял как-то очень по-штатски:
– Любовь Сергеевна! Ну что вы! Люди смотрят.
Я простил начальнику медчасти ее вопрос: «Что с ним?» С ним одним. Не с нами. С нами могло произойти все, что бывает на войне. Только бы не с ним!
По дороге на КП она упрекнула меня:
– А вы жестокий человек, комсорг. Разве можно так докладывать: «Приезжайте – увидите!»
* * *
Не могу налюбоваться Минским метро. При открытии его, на митинге, горло сжимали сладкие спазмы гордости и радости. За город, где я прожил две трети жизни, где родились мои дети, внуки. За людей, строивших этот сказочный – для меня сказочный – город. Помню, каким увидел его в сорок пятом, возвратившись из Германии, каким видел ежедневно, когда учился здесь и сам ходил на субботники.
Я старел – город молодел: вот в чем волшебство. Но не в меньшей степени, чем метро, я любуюсь проспектом. С пуском метро он как бы обновился, помолодел, похорошел, расширился. Однако словно укоротился: отдельные части его, раньше казавшиеся разностильными и вызывавшие споры знатоков архитектуры, вдруг объединились в один цельный ансамбль, в одну каменную гармонию. И ничего не режет глаз, разве что неуместная телебашня, раньше она была хотя бы законченной, острой, а теперь будто перерезана пополам и на оставшуюся часть насажен дурацкий круг. Но это мелочь. Можешь не любоваться тем, что не нравится. Лучше полюбоваться обновленной академией, ее белыми колоннами, вдруг – не боюсь сказать – украсившими целый район, вместе с фасадом БПИ [5]5
Белорусский политехнический институт.
[Закрыть]образовав явную площадь. А каким апофеозом архитектурной симфонии звучит реставрированная площадь Победы!
Много лет я втискивался в автобусы, в троллейбусы. А теперь, когда можно быстро, с комфортом проехать в метро, я часто хожу пешком. Очень часто. После работы – почти всегда. И маршрут мой (двадцать лет считали, что я получил квартиру на окраине города) кажется действительно на удивление коротким. Домашние мои и коллеги шутят, что, дескать, поздновато я начал укреплять свое здоровье. Трудно объяснить им, что дело не в здоровье, хотя укреплять его никогда не поздно. Главное – радость от прогулок!
Бывает, правда, – вдруг охватывает страх. Он бьет в сердце, в мозг неожиданно, как бывает в последнее время нередко и дома (чаще всего на даче), когда любуюсь забавной игрой внучек или слушаю философские, пусть себе иногда и путаные, споры Марины с Андреем, Светланой, с Петровским, другими гостями.
Тогда замираю от панической мысли: «Неужели возможно, чтобы атомный смерч сжег всю эту красоту, созданную природой и человеческим умом, трудом?»
Читал сам, слышал аннотации по «голосам»: чуть ли не все писаки – сочинители фантастических романов о будущей войне, первый атомный удар наносят по Минску. Почему по Минску? Дался людоедам Минск! Не с прошлой ли войны?!
Однажды я остановился так внезапно, что молодая женщина, возможно моя бывшая студентка, озабоченно спросила: «Вам плохо? Помочь?»
Мне таки плохо. Но от этой болезни нет лекарства. Нет! Есть! Умение преодолевать страх. Кажется, я еще умею. Коллеги, студенты считают меня оптимистом и жизнелюбом. Приступы депрессии, отчаяния знает один человек в мире – Валя. Хотя и она, по-моему, не понимает всей глубины моей тревоги, нередко упрекает: «Что у тебя голова болит за целый свет? Живи проще. Если ты веришь в людей, то верь в их мудрость. Человечество не даст себя убить».
Я завидую жене – ее взгляду на вещи. Что это – индивидуальное или общематеринское?
Позавчера у меня не было первой пары, и я отправился пешком. Было тихое, сухое и теплое утро. Час пик – спешка на работу – миновал. Торговый бум еще не начался – ЦУМ, ГУМ, промтоварные магазины пока закрыты. Проспект казался почти безлюдным, редкие неторопливые прохожие да быстрые «Волги», «Жигули», они не раздражают, тот естественный ритм городской жизни, который успокаивает, настраивает благодушно, когда идешь пешком.
Если машин столько, сколько в Нью-Йорке или Лондоне, да и у нас в Москве в часы пик, они кажутся стихией, монстрами, съевшими, принизавшими, закабалившими людей. Пешеходы в таком хаосе становятся раздражительными, торопливыми, отчужденными – шарахаются друг от друга, толкаются, и все равно каждый сам по себе, как в скорлупе или в панцире. И мысли, желания, стремления у них мелочные, бытовые, эгоистичные – быстрее домой, к миске с супом, к бифштексу, к шлепанцам, мягкому дивану и телевизору. В свою ячейку! Вот реакция на нашествие стальной, резиновой, бензиновой стихии.
В бешеном ритме больших городов людям не хватает времени подумать о том главном, от чего зависит их будущее, судьба детей, внуков.
«А что толку, что ты без конца думаешь об этом?» – кажется, Валин голос? Может, Петровского? Нет, скорее, Марины.
Я спорил с ними, сидя за одним столом, спорил в мыслях в бессонные ночи и во время прогулок по проспекту, по парку Челюскинцев.
Но в то утро мне даже спорить не хотелось со своими оппонентами – так хорошо, бодро чувствовал себя. Бывают минуты, когда отступают все глобальные и житейские тревоги, страхи, заботы, переживания.
Любовался встречными женщинами с игривой мыслью, что старый эстет может себе позволить такую роскошь. Не так уж часто привлекали они мое внимание. Радовался, что наши женщины научились красиво одеваться – не хуже чем в любой европейской стране.
Вошел в комнату своей кафедры.
Большая кафедра – по количеству людей. Большая комната. Хлев. Просторно, но неуютно, несмотря на все мои и коллег моих старания. По насыщенности стендов наглядной агитации мы держим чуть ли не первое место. Но уют создают не только стенды, портреты, диаграммы. Каждое замкнутое пространство требует своего интерьера, а он создается соответствующей мебелью. Мебель же – казенная. «От казенной мебели – казенные мысли», – пошутила как-то наша веселая аспирантка Наташа Селец.
В комнате было многовато для раннего часа, когда шли лекции, преподавателей, хотя я не удивился: на конец дня назначил заседание кафедры, все «подтягивают» свои бумажные дела, рабочие планы и отчеты.
Я обычно с порога ловил настроение коллег, когда случалось что-то необычное, даже если схлестнулись между собой две женщины. А тут ничего не заметил.
– День добрый, товарищи. А день таки добрый. Я шел от самого дома пешком…
– Ты не слышал? – спросила Софья Петровна. – Убили Индиру Ганди.
Подхватился всегда шумливый, падкий на сенсации и склонный к интригам доцент Барашка:
– Они всадили ей восемь пуль в живот.
Само сообщение ошеломило. А тон Барашки – показалось, что он смакует трагедию, как нередко факультетские сенсации, – возмутил, нет, не возмутил – оскорбил, словно не тем тоном, нетактично сообщили о смерти родной матери.
Почему я поднял портфель высоко к груди и почему, по какому рефлексу уронил его на пол с грохотом – сообразить и объяснить не могу. Почему крикнул – понимаю.
– Не смейте так! Не смейте! Мать убили!
Крик мой всех удивил, Барашку – поразил. Он тут же обратился к коллегам, обиженный, злой:
– А что я сказал? Товарищи! Что я такое сказал? Что ни скажу, Павлу Ивановичу не нравится.
Софья Петровна смотрела на меня грустно и укоризненно, глаза ее говорили: «Ах, Павел, Павел».
Сорвался я, конечно, зря: никто не может, кроме разве Зоси, понять причину, и я не смогу объяснить ее ни теперь, ни позже. Но извиняться не мог. Чтобы как-то дать понять, из-за чего все же я, поднимая портфель, пробормотал:
– «Всадили»… Боже мой! «Всадили»… Нельзя же так про смерть матери.
Дошло? Не дошло?
Во всяком случае, наступила неловкая и тяжкая минута молчания. Даже Барашка затих. Я сел за свой стол, сжал ладонями виски, в которых стучала кровь. Болезнь возраста: чуть что, и крови тесно в склеротических артериях. А тут неожиданно такая стрессовая ситуация – сама трагедия и моя странная реакция.
Отняв от лица руки, я успел уловить, как Барашка крутит пальцем у своего виска, показывает: мол, того… дожил старик до пунктика.
Поступок на грани хулиганства, если иметь в виду разницу в возрасте и служебную субординацию. Но я не возмутился. Наоборот, кажется, немного даже успокоился, переключился на внутреннее, мелочное. Кому наглец подает такие знаки? Наташе? Нет. Та ломает пальцы от боли за меня. Наташа умница и, напуганная однажды моим сердечным приступом, с трогательным вниманием охраняет мой покой. Не Софье же Петровне. Ее он боится. Петровскому? Неужели Петровскому? У них установились близкие отношения? Странно, на какой почве? Михаил Михайлович никогда не позволял младшим коллегам фамильярничать с собой. У него больше, чем у кого иного, профессорского, гонора; Зося шутит, что у него даже походка профессорская.
Друг мой и сосед по даче гладил свою лысую, как бубен, голову и усмехался. Знакомый жест удовлетворения, еще Валя как-то давно заметила, что Михаил в такую минуту, по-видимому, шепчет своей голове: «Ах, какая ты у меня умная!»
«Чем же ты доволен, друг мой? Тем, что я сорвался из-за трагедии в дружественной стране? Считаешь это… чем?.. Слабостью моей? Но я не стыжусь ее. Пусть стыдится Барашка, если подлое убийство тронуло его только как сенсация».
Стоило бы сказать это. Но нахлынул приступ физической слабости, уже не раз пугавшей меня, говорить не хочется – тяжело.
Петровский – дипломат, хитрый и тактичный. Нередко, когда на кафедре собиралась грозовая туча, он умел так деликатно «расстрелять» ее, что она проливалась безобидным дождичком, от которого каждый прятался под свой «зонтик».
Я считал это мудростью. Зося злилась: «Да пусть бы лучше грянуло. Гроза очищает атмосферу, дала б озон для новых взаимоотношений».
Михаил Михайлович и тут отвел внимание на другое:
– Павел Иванович, позволь не присутствовать на кафедре. В партшколе защищается Зубрович, наш с тобой ученик. Он провел интересное социологическое исследование о восприятии политической информации разными социальными и возрастными группами населения. Но выводы делает, по-моему, слишком неожиданные. Или поспешные.
– Вам хочется завалить Зубровича?
– Софья Петровна! Как профессор я не завалил ни одного соискателя. Я всем помог.
Зосю он деликатно стеганул: а вот вы, мол, заваливали. Зося, которая еще десять лет назад сама отказалась защищать написанную и одобренную мною докторскую, была излишне требовательна ко всем другим. Ее боялись.
Но и этот диалог, и все, о чем говорили преподаватели – Петровский профессиональной беседой растормошил коллег, – доходило до меня как из соседней комнаты, где помещалась кафедра иностранных языков.
Разболелась голова. Захотелось вдруг лечь и… уснуть. Совсем что-то новое, раньше любое волнение, наоборот, подстегивало действовать. Такое состояние испугало, но не тогда – позже, дома, когда в бессонную ночь я вспоминал прошедший день. Я не услышал даже звонка – услышал тишину, наступившую в комнате.
– У тебя лекция, Павел, – сказала Зося.
– У меня лекция. – И точно сквозь меня пропустили ток: сразу зарядился необычайной энергией. – Я прочитаю лекцию!
– Я пойду с тобой.
– Зачем?
– У меня «форточка». А я давно не слушала тебя. Не выбиваешься из борозды, старый конь?
Зося засмеялась – и я засмеялся.
Было приятно идти по длинному коридору рядом с ней. Наши отношения – образец человеческих отношений. Мне давно хочется рассказать о них студентам, я уверен, они, молодые, поймут. А вот некоторые постарше могут и сплетню пустить, и, как ни странно, я, уже дед, боюсь гадких усмешечек. Тот же друг мой Петровский еще лет пятнадцать назад пошутил (подленькая шутка!) в присутствии Вали:
«А он живет как шах. Его обихаживают две жены. Ты – дома, на кафедре – Софья Петровна».
В молодости Валя нередко ревновала. Но в том возрасте у нее хватило мудрости дать надлежащую оценку Михаловой шутке.
«Что он так пошло шутит, твой лучший друг?»
«Не обращай внимания. Не все умеют пошутить умно».
«Я не обращаю. Но если он такое разносит на работе…»
А разнести было легко: года за два до того Зося разошлась с мужем и жила с дочерью-студенткой.
Я благодарен жене за то, что она не изменила отношения к Зосе и не лишила меня, да и себя, верного друга. Хотя дружба с ней была нелегкой: пожалуй, никто не критиковал меня за промашки на кафедре и даже за публикации так безжалостно. Иногда было неприятно. Бывало, мы чуть ли не ссорились с ней. Но громкие «объяснения» не мешали нашей дружбе. Такой, видимо, и должна быть настоящая дружба.
Студенты шумно поднялись.
Я поздоровался с ними и взошел на кафедру. В большой лекционной аудитории высокий амфитеатр, и у меня не однажды возникало ощущение, что те, сидящие на последних скамьях, ближе ко мне, чем те, что у самой трибуны. Во всяком случае, я чаще обращался к дальним, и на моих лекциях туда садились не те, кто хотел тайком почитать детективный роман или закончить практическое задание.
На кафедральном возвышении стоял длинный стол: кроме лекций в этой аудитории проводились собрания, на которых выбирался президиум. Но Софья Петровна не села за стол, она села в третьем ряду на свободное место, так садятся члены кафедры на открытых лекциях.
Обычно я начинал лекцию сразу, не отвлекался на постороннее. Иногда я спрашивал: «На чем мы остановились в прошлый раз?» И сам отвечал – перебрасывал мостик. Разговоры не по теме я позволял только в конце лекции, за что мне начальство делало замечания – забираю время перерыва.
Перед той лекцией я долго всматривался в молодые, до радостного волнения красивые лица будущих математиков. (Не историков. Лекция по истории партии на математическом факультете.)
Студенты насторожились. Даже те девичьи лица, на которых искрилось веселое кокетство, остатки недавнего смеха, стали серьезными.
– Дети! – неожиданно для себя, а тем более для них непривычно обратился я. – Убили мать. Встаньте.
Полтораста человек поднялись в едином порыве – даже колыхнулся воздух. Но на лицах было недоумение, удивление, вопрос. А у меня предательский спазм выжимал слезы, и я не смог сразу объяснить.
Повернулась к аудитории Софья Петровна, сказала:
– Убили Индиру Ганди.
Короткое «Ах!» – и глубокое траурное молчание.
В грудь хлынула теплая волна доброго чувства к молодым, которых нередко я критиковал за их… аполитичность. И мне стало легко. Кивнув студентам, чтобы садились, начал лекцию. Лекцию про Индию, про великий народ…
У Зои сначала вытянулось лицо. Но, заметив, что я обратил внимание на ее удивление, она одобрительно кивнула головой: «Продолжай. Я понимаю тебя».








