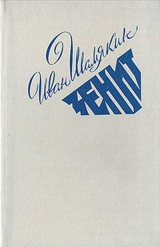
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 33 страниц)
Молча сел за стол. Но Ванда, молодая, веселая, остроумная, способная на самые неожиданные поступки, отдалилась, растаяла в тумане сорока лет. Мысли сосредоточились на внучках. Чьи гены передались Михалине? Мы с Валей такие спокойные, уравновешенные. Однако же мать ее, Марина, тоже была в детстве чертенком. Да и сейчас еще большая выдумщица, кажется, только и занята тем, как бы кого разыграть. Странно это. Словно бы от Ванды передались черты и нашей дочери, и нашей внучке. Мысль тайная. Валю она обидела бы.
Захотелось почитать серьезное исследование о типах характеров, темпераментов, как они формируются: что – от дедов и отцов, что – от окружения, внешних обстоятельств. В молодости, студентом, я серьезно интересовался психологией. Даже хотел в аспирантуру податься по психологии. Миша Петровский отговорил. И потом, вплоть до старости нашей, ставил себе это в заслугу: «Скажи спасибо. Самый выдающийся психолог может написать только одну хорошую книгу, а дальше будет повторять себя. Психология человека – величина постоянная, изменения в ней слишком медленны. Древние греки поступали так же, как и мы, а в чем-то мы, возможно, и не дотягиваем до них».
Я спорил с ним: «Ты – догматик. Психология изменяется вместе с историей. Что же, по-твоему, революции ничего не изменили? И научно-техническая революция не изменит нашей психологии?»
«Мою – нет. Да и твою вряд ли. Соловьева мы с тобой не переплюнули. Да и Карамзина… Не говорю уж о Пушкине и Толстом. Кто из современных поднялся выше?»
Спорить с Петровским интересно, но тяжело: он как бы мыслит от противного, с «другой стороны», и рассуждения его иногда ошеломляют, иногда злят парадоксальностью, непоследовательностью.
В те минуты, за столом, я думал, что все же, видимо, есть в психологии человека постоянные доминанты. И характеры повторяются значительно чаще, чем внешность.
Удивила Михалина: не поверил бы, если бы не видел, что она может так терпеливо отбывать наказание.
Оглянулся. Все понятно. Она таки разобрала штепсель. Чудо! Такими маленькими пальчиками. Ноготком, наверное, отвинтила шурупчик. Жаль ее: такая экзекуция для маленькой непоседы – стоять неподвижно. А увидел, чем занята, – успокоился. Чем бы дитя ни тешилось…
Нелегко Вале с ними, стонет, а в детский сад не отдает – жалеет: болеют там часто.
Эта проказница Михалина и меня недавно поставила в неловкое положение. Пошли в парк Челюскинцев. И встретил я там свою бывшую студентку, довольно молодую еще бабушку, года сорок три. Она катила коляску. Поздоровались.
– Внук? Внучка?
– Внук, – без эмоционального подъема ответила бабушка.
Заглянул в коляску и больше ничего не спросил. Там лежал сказочный негритеночек. А я, имея дело со студенческим интернационалом, знал, как иногда неожиданно для бабушек появляются такие внуки. Хотел деликатно попрощаться, но Михалину нельзя было оторвать. Она долго кружила около коляски, время от времени заглядывая туда. Я, чудак, не сообразил, что ей очень хочется Узнать тайну удивительного явления, пока наконец она не выпалила:
– А отчего это он у вас такой мурзатенький?
У неразумной бабушки на лице выступили фиолетовые пятна, и она, не попрощавшись, опалив и меня, и девочек завистливым взглядом, быстро покатила коляску на боковую дорожку.
А иногда Михалина удивляла непонятной зрелостью. Были гости, говорили о детях. И сначала всех рассмешила Вика – попросила:
– Бабушка, научи меня рожать детей.
А потом – Михалина: она стукнула сестру ложкой по лбу и по-взрослому сказала:
– Вот глупая.
Все смеялись, а мне страшновато стало, я разозлился на виновника раннего взросления детей.
– Выключите этот дурацкий телевизор! Поговорить по-человечески нельзя. Мы же слушаем друг друга вполуха. Разучиваемся сосредоточиться…
…Михалина не только разобрала штепсель, она собрала его обратно и стреляла глазенками, чем бы заняться еще. Это уже что-то новое в ее характере – столько простоять в углу, раньше и минуты не выдерживала.
Хорошая это черта или плохая? – рассуждал я.
– Деду! Долго еще стоять? У меня ножки заболели.
Не выдержал – бросился взять ее на руки. Но малышка отгородилась ручками:
– Не бери. У тебя пуп вылезет. Снова насмешила.
– Садись на диван, и вот тебе «Варшава».
Обе девочки очень любили рассматривать альбомы с видами городов. «Будущие архитекторы», – умилялась бабушка.
– Не хочу Варшаву, хочу Париж.
– Ну, дорогая, размах у тебя. На тебе Париж. Много раз пытался я предсказать, что в следующий ближайший час могут выкинуть девчатки. Действия Виты отгадывал. Михалины же – никогда. Действительно, как много у нее общего с Вандой. Только она, моя военная подруга (Была ли любовь? У нее? У меня?), могла ошеломить неожиданностью своих поступков и ошеломляла так, что, кажется, искры летели из глаз, и не у одного меня. Разве только сейчас, с высоты лет, зрелости, знаний и опыта работы с молодежью, отцовского опыта, я, возможно, могу объяснить поведение офицера Ванды Жмур, командира сложной для того времени локаторной установки. Да и то вряд ли. Она неплохо разбиралась в технике, умела руководить людьми, дисциплина у нее на СОН была – командиры-мужчины могли позавидовать… И при всем при том «отмочила», как говорил Константин Афанасьевич Колбенко, этот номер.
«Деды» наши говорили: женская душа – потемки. Не потемки – темная ночь.
Теперь, погрузившись в теплое море воспоминаний, пожалуй, переживаю, что без малого тридцать лет не видел ее. Имел же адрес, посылал поздравительные открытки, от нее получал, а навестить боялся. Смешно, горько и противно… Странно, почему Масловские, когда, бывая у них в гостях, я вспоминал Ванду, как-то хитро заминали разговор, отводили в сторону? Глаше чем она насолила? Непонятные для нашего возраста загадки.
Подбираюсь к зениту моей зенитной эпопеи.
В Познани мы стояли недолго. Третья батарея, при которой была СОН, размещалась далеко. Изредка город бомбили, но всегда в пасмурную погоду, из-за облаков, – боялись фашисты наших истребителей. Налеты держали в боевом напряжении. Поэтому встречались мы с Вандой редко и только в служебной обстановке. Нет, начал я не с того: хронологичность растягивает рассказ. Нужно «перескочить». Куда?
…Михалинка сопела носиком. Я оглядывался: не уснула? Не упала бы с дивана. Когда смотришь за ребенком, сосредоточиться невозможно. Я умел писать даже исторические труды, когда дети, маленькие Андрей, Светлана, а теперь внучки, ходили на головах. Но писалось тогда, когда за стеной находилась Валя, и я знал, что любые свои конфликты дети побегут решать с матерью или бабушкой. А вот Михалка тихонько листает альбом, но все мое внимание – на нее, а не на последние залпы далекой войны. Далекой ли? Нет, нельзя делать ее далекой. Мучительная память о ней – наше оружие в современном тревожном мире, где президент страны с гигантским атомным арсеналом беззаботно шутит: «Бомбардировка начнется через пять минут».
Вдруг Михалинка запела тоненьким детским голоском:
Ай хацела ж мяне маць
Дай за шостага аддаць.
А той шосты – малы, недарослы,
Ой, не аддай мяне маць.
Отлетели возвышенные размышления. Я едва не сполз под стол. Вот ее очередной номер! Попробуй отгадать!
Однако почему такая песня? Никто же ее дома не пел. Разве по телевизору.
Михалина повторила один и тот же куплет второй раз, третий, четвертый. Эта настойчивость повторения меня насторожила. Так она делала, когда злилась. Но на кого она злится?
Подсел к внучке:
– Давай вместе петь. – И пропел песню от того куплета, где «нервы – няверны», до того, где «той семы – прыгожы да вясёлы».
Но ни одного из новых куплетов малышка не приняла, настойчиво повторяла свой. Я с внутренним смехом подумал: «Не потому ли, что Майя Витольдовна – маленькая, худенькая, и Михалине эта «недоросль» кажется позорным пороком?» О, загадки детской логики!
Была Софья Петровна. Ее визиты всегда радуют не только меня, но и Валю, и Светлану, и девочек. Ни с кем из гостей они так не безобразничают, как с бабой Завеей (сама себя так окрестила). Светлану Зося сватает за «князей», и девушке при всей ее скромности и застенчивости нравится веселая игра; серьезно же предлагает познакомить с «пролетариями» – своими любимыми студентами старших курсов или аспирантами. Но пока у Светы нет жениха. Валю такая «несовременность» дочери печалит, я смеюсь: «Не бойся. Найдет своего».
Для жены моей Зося – информбюро: посвящает ее во все новости не только факультета, но и города. У Зоси удивительная осведомленность, но сплетницей ее даже недоброжелатели никогда не называли.
Мне же в Зосе больше всего нравятся чуткость и такт. Ни разу она не принесла в дом неприятного известия. Если и узнавала что-то такое, то никогда не сообщала в семье – только на кафедре. Возбуждение свое, возмущение, беспокойство выдавала разве что выпитым в огромном количестве чаем. Сто лет мы с ней спорим, у кого лучший чай – у нас или у нее, кто лучше умеет заваривать. Стараемся удивить друг друга, достаем высшие сорта, исчерпываем сувенирные запасы, делимся, меняемся. Своеобразная игра взрослых людей.
Одна из моих бывших аспиранток, мудро, как говорит Зося, поменявшая «сушку мозгов» на замужество, живет и работает в школе Грузии, муж ее агроном в чайном совхозе, и эта добрая душа, которую я нередко пробирал за легкомысленное отношение к истории, аккуратно шлет мне посылки с чаем, а мы ее отдариваем грибами, на суп из которых, как она пишет, собирается все совхозное начальство.
Зося смаковала чай, как самый тонкий дегустатор.
– Иреночкин? Неважный чай. Разучились грузины выращивать чай высших марок.
Тоже хорошая примета, когда она не хвалит мой чай, а хает и делает вид, что такое пойло ей и пить даже не хочется.
В действительности чай был отменный. Аромат его и вкус чувствовали даже Мика и Вика, хлебавшие из блюдечек, как купчихи, с довольным причмокиванием. Обеих очень смешило, когда Валя называла их купчихами, у девочек, видимо, возникали какие-то таинственные телевизионные ассоциации, которые они напоминали друг другу на ушко.
– Что вы там шепчетесь, купчихи?
Заливались смехом дети – смеялись и взрослые, без определенного повода, просто радуясь веселью детей. Наверное, это высшая радость, которая может быть у человека.
– Мусор она тебе присылает, твоя Ирена Болеславовна. Лентяйка была, каких свет не видел. Но умная. Головы кружила даже профессорам… Типичная полька.
– Не отзывайся плохо о польках. Павел сейчас пишет про свою фронтовую любовь Ванду и… плачет от умиления. Вся рукопись в пятнах.
– Что ты выдумала! Мои рукописи всегда в пятнах – от детских пальчиков. Там мурзилка Вика полазила.
– Я не мурзилка, у меня чистые пальчики. – Девочка показала ручки с растопыренными пальчиками. – Мика – мурзилка. – У Михалины ручки измазаны вареньем.
– Укушу за ухо, – по-взрослому серьезно предупредила сестру Михалина.
Вика закрыла свои ушки ладонями. Снова всех рассмешила.
– Между прочим, дорогая супруга, читать то, что человек пишет для себя… для души, нехорошо.
– Мне нехорошо? – удивилась Валя. – А кто тебе перепечатает на машинке? Кроме меня, ни одна машинистка не разбирает твоего куриного почерка.
– А зачем это перепечатывать?
– Ты не думаешь публиковать свои воспоминания? – почти озабоченно спросила Зося.
– Не знаю.
– Дай мне почитать, и я тебе скажу. Дашь?
– Тебе – дам.
– Но знай мое мнение заранее: излишняя роскошь для человека, умеющего писать, три года работать над военными воспоминаниями и… не напечатать их. Непростительная роскошь.
– Что подумают студенты о своем профессоре?
– Павел! У тебя были амурные истории? – удивилась Зося. – Никогда бы не поверила. Такой однолюб!
– Он хитро пишет: все девушки теряли головы от любви к своему комсоргу, а он знал лишь одно – воспитывать их.
Зося захохотала. Валина шутка, пусть себе и шутка, неприятно уколола.
– Постыдись, Валя. Я пишу чистую правду.
– Правда, она у каждого своя…
– А я верю, что он пишет правду. Правдолюбие его, ты знаешь, Валя, нередко выводило меня из равновесия. Нельзя жить без дипломатии… в наше доброе время. Но зато Шиянок – самый объективный историк.
Стало неприятно, что женщины говорят так, будто меня нет. Попробовал отвести разговор и от моих воспоминаний, и от моей персоны вообще. Но сделал не тот ход.
– Что там у нас на кафедре?
– Ты спрашиваешь, что на твоей родной кафедре, Павел! Я тебя разнесу на ближайшем партийном собрании за уклонение от жизни кафедры. Ты как почасовик: пришел, отчитал курс – и бывайте здоровы, живите богато. Неразумный протест!
– У меня – протест? Как ты могла подумать? У меня и мысли такой не появилось. Просто мне хорошо работается, и я спешу домой. Никогда не думал, что военные воспоминания могут так захватить. Не иронизируй, Валя, пожалуйста.
– Откуда ты взял, что я иронизирую? Теряешь чувство юмора, Павел.
– О-о! Если ты заметила такую болезнь, то прошу тебя и тебя, Зося, не давайте ей перейти в хроническую. Потерять чувство юмора – стать похожим на Марью.
– Между прочим, «тетка» снова в больнице. И, ты знаешь, происходит чудо: все вдруг очень подобрели. Выходу хоть к ране прикладывай. И Барашка такой деликатный кавалер, даже перед нами, бабушками, комплиментами рассыпается. А уж как подобострастен к Раисе Сергеевне – смех и грех. Может, рассчитывает на представление ее мужу? Напрасно старается. Райка положением мужа, как высокой стеной, отгородилась и от добрых, и от дурных дел. Ты помнишь, чтобы она кому-нибудь оказала хотя бы такусенькую, с мой ноготь, услугу? Правда, и неприятностей не устраивала. Помнишь ли ты хотя бы одно ее замечание кому-нибудь? Ей, мол, нельзя из-за мужа. Позиция – хитрее не придумаешь.
– Зося! Становишься злой.
– Открыл Америку! Я всю жизнь воевала и против «теток», и против раек, и против либералов, таких, как ты.
– Спасибо.
– Кушай на здоровье.
– Не заводись, пожалуйста, а то снова поссоритесь, – попросила Валя.
– Не бойся. Я сегодня добрая. А «тетку» мы с тобой недооценили. Начинаю думать, что не Барашка, а она создает атмосферу. Из-за своих болезней она ненавидит нас, здоровых. Хотя кто из нас здоровый? С ужасом думаю, что было бы, доберись она до заведования кафедрой. Кошмар! И для нас, и для нее.
– Пожалей больного человека.
– Если больная, пусть идет на пенсию.
– Разгонишь всю профессуру. Ведь и правда, кто из нас здоровый? Ты? Я? Петровский?
– Петровский твой – что атомный ледокол, только без вертолетов на палубе.
Михалинка залилась смехом:
– Лысый ледокол. Без вертолета. Ха-ха-ха! – Даже застучала ножками в крышку стола.
– Вы научите, а она ему ляпнет, – встревожилась Валя. – Девчатки, напились чаю? Марш гулять!
Но Михалина что-то шептала Вите, и та от смеха втянула голову в плечи, сжалась в комочек. У Мики дурная манера кусать за ухо, но, наученная не раз горьким опытом, Вита все равно охотно подставляет сестре свое ушко. Это и смешно, и трогательно.
«Да не будь же ты такой овечкой», – учат ее и бабушка, и мать, но ничего не помогает. А мне ее мягкость, покладистость нравятся, хотя любуюсь, конечно, больше неистощимой на выдумки шалуньей Михалиной, она лидер не только по отношению к сестре, она лидер во дворе, через пятнадцать минут делается им на любой детской площадке.
Часто шучу, что не я воспитываю ее, а она меня. В шутке этой немало истины: дети действительно делают нас и добрее и… умнее.
– Еще чаю хочешь, Зося?
– Бурда, ну да ладно – наливай.
– Притупился у тебя вкус.
– На чай, может, и притупился, на людей не притупляется. Кого ни возьму на зуб, сразу разгадаю, что за фрукт: лимон, банан или хрен…
– Хрен горький, фу, – вспомнила серьезно Вика.
– Потому я и выплевываю его, дитя мое.
– В прошлый раз ты пила этот же чай и хвалила.
– Нельзя человеку сразу отваливать много похвалы. Она, как лекарство, требует дозировки.
– Неужели собираешься похвалить меня? Давно не слышал.
– От меня не дождешься. Но люди хвалили.
– Есть же такие чудаки?
– Ты плохо думаешь о своих учениках.
При таком повороте игривый тон неуместен, и я ответил серьезно:
– Ты знаешь, что я хорошо думаю о них. Даже…
– Вот это твое «даже» мне не нравится, всегдашнее евангельское всепрощение. Никаких «даже»! Хорошо думай о хороших людях.
– Так кто меня хвалил?
– Им все же стыдно стало, что они так бесцеремонно расправились со старейшим профессором.
– Почему расправились? Общая тенденция: омолаживать кадры. Сама говоришь: старейший. По-твоему, приятный комплимент?
– Омолаживать нужно с умом. С сохранением преемственности. Дошло до них.
– До кого?
– До ректора и парткома.
– И что? – высказала нетерпение Валя.
– Готовь тесто на пироги. Покупай коньяк, а то, говорят, скоро введут сухой закон. А за академика нельзя не выпить.
– За какого академика? – Мне показалось, что жена испугалась, на лице ее даже пятна выступили.
– Принято решение ученого совета рекомендовать твоего богом суженого в академики. Давно пора. Важнейший идеологический факультет – и ни одного даже членкора, хотя бы завалященького. А почему у вас кислые физиономии? Я хотела заставить вас танцевать за такую новость.
– Боюсь, выбьет это его из равновесия, – невесело сказала Валя. – Знаешь, Зося, мне очень нравится его теперешнее спокойствие.
Молодец, Валя! Как она чувствует мое настроение, как угадывает мысли!
– Посади его под стеклянный колпак! – Софья Петровна разозлилась, так случалось нередко, когда я проявлял равнодушие к собственной выгоде. – Пусть жена, закрепощенная тобой, феодал, не понимает. А ты почему не радуешься?
– Я порадовался бы, наверное, скажи ты, что меня выбрали. А так… Слишком хорошо я знаю, какая огромная дистанция от выдвижения до избрания. А какая волна поднимется! На той же нашей кафедре. На факультете. В других институтах.
– Пусть поднимется! Неужели ты так боишься качки?
– Не боюсь. Но я заплыл в тихую гавань и стал на прикол. И мне хорошо. Спокойно, как сказал мой добрый лоцман. – Я легко обнял за плечи жену. – За тридцать шесть лет штормы больше трепали ее, чем меня.
Софья Петровна не на шутку рассердилась.
– Что-то потянуло тебя на морскую терминологию. Но моряк из тебя, прости… Не испытал ты настоящих штормов, потому рано и в бухту себя загнал, на прикол. Очень рано, Павел! Мне стыдно за твою обывательскую философию…
– Зося!
– Не бойся. Он не обидится. Я все же считала тебя бойцом. А ты лопух. Не вздумай отводить свою кандидатуру – уважать не буду.
Бывают приятные известия, выбивающие из равновесия сильнее, чем иная беда. Немало бессонных ночей стоило мне это выдвижение.
6
Третью неделю мы прикрываем… Что будем прикрывать – об этом в Познани не сообщили даже офицерам. Возможно, и Кузаев не знал. На войне каждый объект важный – мост, станция, армейские тылы… А тут есть и мост, и станция, и складов не счесть. Но когда прибыли сюда, в небольшой городок Ландсберг на Варте (есть где-то на западе Германии еще один Ландсберг), то быстро узнали, что нам крупно повезло. Правда, говорили об этом и офицеры, и рядовые почти шепотом. Но с радостью. Во-первых, можно считать, догнали передовые части самого ударного фронта, которому предстоит штурмовать Берлин – до Одера всего каких-то тридцать километров, в весенние тихие рассветы слышна канонада. Во-вторых, точно знаем: кроме мостов, прикрываем объект, не обозначенный на картах, – штаб маршала Жукова. Но никто из нас не знал, где она, ставка командующего. Все общественные сооружения, школы, больницы, замок и некоторые жилые дома были заняты военными штабами, армейскими учреждениями. Всюду охрана.
В своих маршрутах с батареи на батарею, на пулеметные установки я не пропускал случая пройтись по центру, где жителей-немцев почти не осталось – одни военные. Надеялся: вдруг по какой-то детали, по поведению караульных, по необычному эскорту машин догадаюсь, где конкретно штаб-квартира маршала. Видимо, мое частое курсирование не осталось незамеченным, и однажды меня задержали три офицера, наверное контрразведчики, звонили в дивизион, есть ли такой младший лейтенант, даже приметы расспрашивали – какой я.
Тужников дал мне проборку.
– Ты, оказывается, не политработу ведешь, а шляешься по городу. Еще раз задержат – посажу под арест.
К работе своей я действительно остыл. Боевой дух бойцов и офицеров-комсомольцев мы не поднимем выше, чем поднят он ходом войны, нашими победами и позициями, занятыми дивизионом.
Бродил я по городу еще по одной причине: очень хотелось узнать жизнь немцев.
Ландсберг («край гор») – весь на холмах, на самом высоком из них – древний замок, а вся центральная часть – большой парк, живописный даже ранней весной, когда деревья еще голые.
По логике, нам стоило бы КП разместить на одном из холмов, но нас туда явно не пустили. Военный комендант показал четырехэтажный дом на окраине, в пойме Варты. Жилой дом. Но жителей в нем осталось немного – большинство убежало с гитлеровской армией за Одер. После узнали, что в доме жили служащие фашистского суда, прокуратуры, полиции. Оставшиеся в доме, в основном старики, бесспорно, чувствовали свою вину. Им дали три часа на выселение – они оставили дом за сорок минут. Захватили только то, что можно было понести или повезти на тачке. Нас, крестьянских детей, удивило богатство, оставшееся в доме. Какая мебель, посуда! Какое белье! Да и продуктовых запасов осталось немало в кладовках, в подвале, особенно банок с вареньями и соленьями, даже свекольник был законсервирован. Удивило это. При такой мебели, при такой кухне – и ботва. Довоевались, гады?
Но больше всего злило их богатство. Чего им не хватало? Кипя злостью и не зная цены вещей, которых никогда не видели, бойцы нередко делали глупости. Отделению «дедов» и юных новобранцев приказали очистить верхний этаж под штаб, КП. Сносить вещи вниз, подниматься на четвертый этаж – работа нелегкая. И они «рационализировали» свой труд: хрустальные фужеры, рюмки, тарелки и салатницы из саксонского фарфора полетели через окно вниз. И всем, кто видел это, в том числе и нам, офицерам, такая очистка показалась вполне нормальной. А появился Тужников и… страшно возмутился. Дал командиру взвода выговор. Противоречиво удивил меня придирчивый замполит. Но тут не придирка, нет, возмущение его было искренним. Он долго и категорично говорил о том, что уничтожать плоды человеческого труда – варварство, только фашисты поступали так. Но я чуть ли не злорадно подумал: «Такой праведный, а немецкое буржуйское добро пожалел». Однако Колбенко, когда я высказал ему свое отношение к хрусталю, неожиданно поддержал Тужникова, что делал редко.
Взбунтовали они меня. Как же относиться к ним, к немцам? Вспомнилось, как мы своим ходом шли от Познани к Ландсбергу.
На довоенной польско-немецкой границе, на длинном здании пограничной таможни аршинными буквами было написано: «Вот она, проклятая Германия!!!»
Надпись и обрадовала – дошли, дошли мы до нее! – и как-то странно взволновала – появилась жажда мести. Меня это чувство почти испугало. Кому мстить? Не первый раз вспомнились слова Верховного Главнокомандующего: гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается, тот народ, который дал миру великих мыслителей, поэтов, композиторов, дал образцы высокой техники. Но разум говорил одно, а сердце – совсем другое.
Еще больше я испугался, когда через каких-то полчаса произошел случай, о котором нелегко мне, политработнику, сложить определенное, искреннее и твердое, неофициальное мнение, хотя понять можно.
Я напросился ехать с первой батареей – тянуло к Данилову. А может, к Лике? В Познани батарея размещалась далеко от штаба, на окраине города, и я не часто наведывался туда, стояли же мы там всего три недели. Утром перед отъездом обратил внимание на своего земляка Семена Тамилу, командира штабного взвода управления. Он излишне суетился, словно боялся опоздать в эшелон, злился на бойцов, грузивших имущество на машины, хватал сам тяжелые вещи и… задыхался, как астматик. Я догадался, почему он такой: через несколько часов будем в Германии. И я встревожился – как он поведет себя? Попросил Колбенко, ехавшего со службами штаба, проследить за ним.
О другом человеке, пережившем такую же трагедию, что и Тамила, я почему-то не подумал. Хаим Шиманский вел себя ровно, только как-то давно сказала мне шестой номер его расчета Галя Пискун, что по ночам командир плачет. В доверительной беседе я сказал Хаиму, что слышал от Гали. Удивился комсорг батареи:
«Тебе сказала Пискун? Ха! Нашел кому верить. Скажите пожалуйста, она слышала! Она спит как убитая! Ее не может разбудить тревога. Однажды при ночной стрельбе я таки сказал: не будите ее. И что ты думаешь? Батарея сделала добрый десяток залпов. Ее засыпало в землянке песком. Однако она не проснулась. Завидный сон. Скажешь, нет? Нам бы с тобой такой!»
Сочинял Хаим, как говорят, на ходу. Всегда так делал: чтобы уклониться и не отвечать на нелегкий вопрос, рассказывал то библейскую притчу, то случай из местечковой жизни, то вот так что-то придумывал.
Километров пятнадцать от границы – первый городок Шверин. Остановились напоить людей, залить воду в радиаторы подношенных машин. И вдруг подбегает к нам с Даниловым испуганная Аня Габова, кричит не по уставу:
– Ой, товарищ старший лейтенант! Что там творит Шиманский!
Бросились в дом, ею показанный, снизу услышали звон стекла. Вскочили в квартиру на втором этаже.
В большой комнате Шиманский прикладом автомата крошил шикарную мебель, посуду. Пол был усыпан осколками люстры, черепками, битой посудой. А Хаим с неутомимостыо фанатика разбивал большой прекрасный шифоньер, явно очень прочный – не дубовый ли? – сделанный практичными немцами, может, полстолетия назад. Но от него летели щепки. Да и приклад автомата раскололся. Мы с Даниловым, с Аней, еще с кем-то из бойцов схватили старшего сержанта за руки, отобрали автомат. Но маленький, вертлявый Шиманский вырвался и кулаками ударил в стекло серванта.
Не сразу заметил я в углу в кресле неподвижно сидящего старого немца в теплом коричневом халате. Увидев немца, ужаснулся: неужели Шиманский убил его? Нет. Старик сидел ровно и, показалось мне, усмехался. Чему? Принимал кару с евангельским смирением? Или чувствовал свое превосходство над маленьким евреем, мстившим не ему – благосостоянию его, устроенности быта, комфорту, сохранившемуся и после того, как здесь прокатился фронт.
Обессиленный Шиманский сел на пол, закрыл лицо окровавленными руками и плакал, впервые открыто – перед командирами, бойцами и перед… немцем. Не над горем ли его и отчаяньем насмехался тот? И я в гневе ступил к немцу:
– Что выскалился, старая падла? Ты знаешь, что сыновья твои сотворили с его семьей, с миллионами наших детей?
И немец, как будто поняв, испугался – усмешка исчезла, лицо вытянулось, в глазах появился страх. Над погромом усмехался – слов испугался.
Девчата перевязали командиру орудия руки, как маленькому вытирали глаза. Подняли его, обессиленного, повели в машину.
Мы с Даниловым стояли у разбитого окна. У дома собралась вся батарея. «Кто его? Кто?» Скажи кто-то по неосторожности: «немец», – представляю, как бы бросились сюда ребята.
А улица узкая, и по ней непрестанно мчались военные грузовики – на фронт и с фронта. Не подбили бы кого из наших.
Данилов из окна громко закричал:
– По ма-ши-на-ам!
Когда мы выходили, немец приподнялся, точно в поклоне.
…Ходили с Колбенко по городу так же, как когда-то по Медвежъегорску, Петрозаводску, Полоцку.
Наши города разрушены войной, там мы видели руины, пепелища, а немецкий – целехонький, чистенький, просто какой-то праздничный в ясный весенний день. Бережно его бомбили, прицельно: совершенно уничтожено одно большое здание, а вокруг все нетронутое. Говорят, в здании, от которого остался один щебень, размещался штаб воздушных сил восточного фронта – ставки Геринга. Аккуратно работали наши соколы. Более явственные следы войны на реке – взорваны мосты. Но это сделали сами фашистские войска, чтобы задержать стремительное наступление Красной Армии. Наши части уже успели восстановить железнодорожный мост, а вместо автомобильного навели понтоны.
Чтобы дойти от штаба до ближайшей батареи (быть ближайшей на этот раз выпало третьей; не потому ли, что Савченко везде просился на самую дальнюю позицию, чтобы подальше от начальства, Тужников окрестил его «удельным князем»?), нужно взобраться на крутой обрыв и идти по огородам. Еще в первый день меня поразили огороды. Удивляли и даже восхищали и на следующий день, когда мы выбрались с Константином Афанасьевичем в длительный поход; он назвал его «экскурсионной прогулкой», я – «инспекционным обходом», на что Колбенко хмыкнул: «Научился ты, Павел, оправдывать ничегонеделанье, хороший из тебя бюрократ вырастет».
Прежде всего огороды удивляли, как ни тавтологично это звучит, огороженностью: небольшие квадратики, сотки по три-четыре, а каждый обнесен сеткой. Где столько сетки набрали? А восхищали досмотренностью – с осени не осталось ни одного опавшего листика, все подгребли, сожгли, а земля точно руками перетерта и жирная, как маслом намазанная.
Связисты наши, когда тянули линию, прорезали в сетках дыры – обобщили индивидуальные участки, за два дня батарейцы и штабные протоптали на влажной глинистой земле тропинку.
Особенно поразило, что в такое раннее время – март, хотя, правда, теплый – на огородах уже работали старые мужчины – подрезали ягодные кусты, плодовые деревья. Крушение гитлеровского рейха не выбило их из привычного трудового ритма, верят, что наступит мир, установится жизнь и нужно будет питаться. Умирать собирайся, а жито сей – так учили наши деды.
Немцы здоровались, поднимали кепки и береты:
– Гутэн таг.
Я отвечал громко, задорно, будто пел, вспоминая школьные уроки немецкого языка:
– Гу-у-тэн та-аг, господа фрицы!
Мне действительно было весело – от весеннего солнца, от тишины, от запаха земли, от почтительности старых немцев. А Колбенко, по натуре своей оптимист, весельчак, юморист, помрачнел до того, что даже сопел носом.
– Ты чего подскакиваешь, как молодой козел?
– А что? – растерялся я.
– Сними перед сволочами фуражку.
– Вы думаете, они неискренне?
– Хрен их знает – кто искренне, кто – неискренне, в душу не залезешь. Но верить им не могу. И тебе советую: уши не развешивай. А то можешь и пулю в спину получить.
Выбрались из «клеток» на шоссе и пошли по тихой окраинной улице, с интересом заглядывая в такие же домоустроенные, как садовые участки, дворы.
Колбенко помрачнел больше. Вдруг он показал мне на двухэтажный дом:
– Смотри!
Я ничего не увидел. Дом как дом, разве что старее других, да на фасаде его остались редкие царапины от пуль; раньше мы видели только результаты работы наших бомбардировщиков, следов наземных боев не видно было. Показалось, что Константин Афанасьевич и обращает мое внимание на это.








