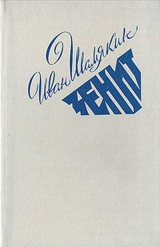
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц)
Речи говорили перед штабом.
На кладбище простились молча.
Девчата целовали покойницу в лоб. Колбенко поцеловал ее руки. А я не мог. Боялся. Чего? Заплакать? А разве это позор? Разве люди не знают, что Лида любила меня? Свою любовь мы вынуждены были скрывать при жизни. Какая глупость! Что же, и после ее смерти таиться?
Нет, так я думал, сидя над газетами. На кладбище о том не думал. Вообще не помню, о чем тогда думалось. Помню только, как содрогнулся от стука молотка, когда забивали крышку гроба. Не мог смотреть. Отошел, спрятался за березы.
Винтовочный залп испугал так же, как когда-то первый боевой выстрел орудия. Потом залпы батареи стали будничностью, их слаженность радовала. Радовала густота букетов в небе. Но они не черные, Лида! Букеты от разрывов наших снарядов. Почему они тебе стали казаться черными? Зловещий знак? Предчувствие? Взрыв заложенной в печь мины был черным! О, каким он был черным! Черными сделались не только стены, потолок, пол в доме. Перед выбитыми окнами почернела трава, цветы, песчаные дорожки, сосны.
Когда я услышал: «Выходи строиться!» – и увидел, что и наши, военные, и штатские пошли от могилы, меня охватила тяжелая печаль. Пойдут с кладбища люди, пройдет время – и забудут человека. Неужели забудут? Нет! Нельзя забывать эти могилы! Их миллионы – братских, одиночных, известных, неизвестных… И все нужно помнить! Представил грандиозное кладбище, края которого невозможно вообразить, и охватило отчаянье, новое, непонятное, какого не знал я и в самые тяжкие дни войны.
До боли прижался лбом к шершавой коре березы. Тем, кто видел, наверное, показалось, что я плачу. Нет, плакать я не мог. Потом плакал. Ночью.
– Пошли, Павлик, – послышался ласковый голос Колбенко.
– Пусть побудет один, – сказала Любовь Сергеевна. Я остался, но долго не подходил к могиле – холмику белого гравия, обложенного свежими ветками карельской березы, пионами, розами, с красным деревянным обелиском, с дюралюминиевой дощечкой на нем, где батарейные мастера выгравировали до боли знакомую, родную, все еще живую для меня фамилию в белорусской транскрипции – АСТАШКА и… почти незнакомое, как бы чужое имя-отчество – Лидия Трофимовна.
Колбенко после трагедии с Лидой все дни был разный – неожиданный, непонятный. Он точно искал то ли форму выражения собственной печали, то ли форму своего отношения ко мне. В день беды и на похоронах он опекал меня, как больного. Потом словно бы забыл обо мне, а сам, с опозданием, очутился в тяжелой депрессии. Выпросил у начальника продсклада граммов триста водки – на поминки. Мне пить не хотелось. И он, выпив, ругал меня, назвал слюнтяем, бабой.
Испугался я. Укладывал его спать, просил, укорял, как жена мужа или малый ребенок отца.
– Ну, зачем вы, Константин Афанасьевич. Пожалуйста, не ходите никуда. Увидят – что скажут, что подумают?
– И ты туда же – «что подумают?». Да наплевал я на всех, думающих так, как ты боишься, чтобы не подумали. Кто подумает? Тужников? Так я тебе скажу, что я о нем думаю…
– Не нужно, Константин Афанасьевич. Пожалуйста, не нужно ничего говорить.
Утром следующего дня Колбенко встал тихий и виноватый. Но в каком-то сообщении свежей газеты он прочитал фамилию знакомого, что дорос до генерал-лейтенанта и занял пост в украинском правительстве. А лет десять назад человек этот был вторым секретарем того райкома, где Константин Афанасьевич работал первым.
Незначительный эпизод взболтал душевный сосуд с горечью воспоминаний, всплыла горечь на поверхность. Нет, худого о генерал-лейтенанте старший лейтенант ничего не сказал. Наоборот, безжалостно уничтожал себя, просто топтал, едко высмеивал, выходило, что самый большой неудачник и бездарь в мире – это он. Меня такое самоуничижение испугало: Колбенко всегда держал высоко человеческое, партийное достоинство, умел постоять за себя и меня учил ни перед кем не клонить голову.
Опасаясь, как бы он снова не раздобыл водки, я не отступал от него ни на шаг. Он понимал, почему я так «прилип», и незло высмеивал:
– Что ты ходишь за мной, как жеребенок за кобылой? Я могу и лягнуть.
Я ответил серьезно – не до шуток:
– А мне с вами легче.
Подобное признание я мог сделать только Колбенко, да еще, может, Жене Игнатьевой. Возможно, Данилову. Но батареи я боялся: там все напоминало о ней.
Комбат сам отбирал замену Лиде – первый номер дальномера. Естественно, никто не мог даже приблизиться к той точности, какую давала Лида. Не было на батарее девушки с таким образованием – техникум! – и с нужными дальномерщику математическими способностями. А парни довоенного призыва давно стали командирами. Во время войны молодых парней нам не давали. Данилов, как, может, никто, особое значение придавал теории. Другие, даже Кузаев, полагали, что слаженность и меткость огня даются постоянными учебными тренировками. Данилов рассуждал иначе:
«Слаженность залпов можно достичь тренировкой. Но это нужно для салюта, а не для поражения противника. Для меткой стрельбы необходим прежде всего расчет. Голова нужна… Не только у командира».
Вероятно, и в школе, и в артучилище Данилову легко давалась математика. Но педагог он молодой, потому сердился, когда кто-то не понимал, по его разумению, простые задачи.
Добрый, веселый, остроумный в «тихие дни», он лютовал во время боя: бросался из КП к орудиям, кричал, ругался, когда что-то не так, правда, излишне крепкие слова прятал в цыганский язык, но батарейцы давно их знали. Случалось, после налета эшелонами, долгой стрельбы Данилов валился на бруствер изнеможенный до обморока. Однажды это случилось в присутствии представителя штаба дивизии, и тот испугался: ненормальная психика у человека! Кузаев едва выручил своего лучшего командира батареи.
Данилов переживал, что без дальномерщика его батарея при налете будет «дырявить небо», а не бить по целям. У него даже вырвалось в сторону девушек: «Тупицы!» Такого от него никто не слышал.
Колбенко сделал ему выговор:
– Данилов, не зарывайся. Что ты хочешь от девушек коми? У них по пять классов национальной школы. Хорошо еще, что твои команды понимают. Не все же такие академики, как ты и твой Унярха. Поставишь его на дальномер. Плохо ты выполнил приказ о заменяемости номеров.
Данилов побелел, сыпанул из черных глаз искры, но смолчал. По дороге с батареи парторг объяснял мне:
– Злится цыган потому, что сам-то все может, а дать точность на дальномере не умеет. И никто не умеет…
– Масловский умеет. – Думаешь, умеет?
– Он же был первым номером.
– Так чего же Данилов психует?
Наконец мне, кажется, удалось подавить свою тоску и вернуться к событиям радостным, великим, что несли освобождение моему народу. Но все равно перед внутренним взором стояли вдоль родных шляхов неисчислимые обелиски. Я написал о них, хотя знал, что Тужников вычеркнет, он категорически не допускал, чтобы в докладах, беседах политработники, командиры говорили о наших потерях. «Этим не поднимешь боевой дух». Однажды замполит сильно разозлился на меня. Алла Родичева получила извещение о гибели брата. Горе ошеломило девушку, она ослепла от слез, не могла ничего делать. Мне показалось, что кстати будет беседа о вечной славе героев. И я сказал о них так, что разрыдалась не только Родичева – другие девушки, даже мужчины, по возрасту им отцы. О такой слабости обычно деликатные люди молчат. А тут донес кто-то. Тужникову это показалось чуть ли не политической крамолой.
Представил могилы, и глаза наполнились слезами. Снова заплачу во время выступления? Ну и пусть!
Пришел Колбенко.
Я сразу заметил: наставник мой в каком-то новом состоянии. Словно опомнился от всего, что волновало его в последнее время, и успокоился. Но заметно возбужден чем-то иным. Разулся.
– Натер мозоли.
Сел на пол в углу, хотя в комнате стояли топчаны.
– Пыхтишь? Не штудируй газеты. О своей земле нужно рассказывать экспромтом. Помнишь, как я о Киеве?
– У вас опыт. И знания. А я в Минске всего два раза был. Как давний сон…
– Ничего. У тебя хватает фантазии.
– Но надо же было почитать, что там делалось в те дни. Как наступали…
– Надо.
– Читаю, а в голове туман.
– Рассеется. – Колбенко старательно растирал красные, как у гуся, ноги. – Я у минеров был. Эта – термическая падла. Ее миноискатель не берет. Вот же гады маннергеймовцы! Каких только не напичкали мин! Додумались даже в электропатрон. Закручиваешь лампочку – взрыв, глаза выжигает, пальцы раздробляет. Я с комендантом говорил. Семьдесят человек подорвались на таких хитрых минах. Здесь, в городе, после освобождения. Детей много покалечило. А ты говоришь: таких гадов вешать не нужно!..
– Я никогда это не говорил.
– Как не говорил? Пленных…
– Так то же пленных.
– А попадись тебе тот минер?
Не думал я, что сделал бы, попадись мне по воле случая тот, заложивший мину в печь. Учинил бы самосуд? Однако мысль о самочинной казни вызвала неприятную дрожь. Не смог бы? Значит, не созрели в душе твоей ненависть к убийце Лиды, жажда мести ему? И стало нехорошо: будто неспособностью отомстить я изменял памяти о ней. Вообще я размазня: у большинства людей все просто, а передо мной чуть ли не каждая ситуация ставит задачу выбора.
Никогда тот минер не попадется мне, никогда я не окажусь с ним один на один. Однако же вопрос, брошенный походя, взбунтовал и раздвоил мои чувства.
А Колбенко и не ожидал ответа на свой вопрос. Он говорил о другом. О чем он?
– …Военком его знакомый. У этого аристократа полсвета знакомых.
– У кого?
– У князя.
– У Шаховского?
– Можно подумать, у нас, как в армии Кутузова, одни князья. У нас он один, да и тот вымышленный.
– А капитан говорит: действительно, он потомок декабриста…
– Пусть будет потомок. Князья теперь в почете. Князь Невский, князь Кутузов… Так наш потомок выпросил у своего знакомого военкомата пополнение. Привел двух парней и четырех девушек. Мальчики, естественно, заморыши, как Ваня Рослик. А девчата, брат, гладкие. Красавицы. Князь в бабах разбирается. Особенно одна. Ее Данилову отослали. Фамилия русская – Иванистова. А имя карельское или финское, я так и не запомнил его. Виалеки… Туареки… Кукареки… Бис его знает. Шаховский докладывал, что она и еще одна в Хельсинки учились – на педагогов. Готовили финны кадры, чтобы финнизировать и карел, и вологодцов. Мечтали же, идиоты, о «Великой Суоми» – до Урала. Интересно, о чем сейчас мечтает их верхушка? О чем народ – знаю… Народ есть народ, у него одна мечта: сеять хлеб, растить детей. Зубров даже испугался, что девушки две зимы шпацировали по Хельсинки. «Привел пополнение!» А Кузя облизался как кот: образованные девушки! На эту… Туареки-Кукареки… пока они сидели в штабе, наши ходили посмотреть как на чудо заморское. Она и вправду точно из пены морской вылезла… Беленькая… Холеная… Реверансы делает. Смешно. Но вместе с тем, знаешь, как-то трогательно. Отвыкли мы…
«Что трогательно? Что трогательно? Константин Афанасьевич! О чем вы! Чтобы на место Лиды встала финка? Как можно? Как вы не понимаете?»
Ударило в сердце неожиданное сообщение. Я закричал. Показалось, минер тот, которому сам же Колбенко назначил высшую меру даже в плену, становится вместо Лиды к ее дальномеру. И все принимают такую замену? Я должен протестовать! Против чего? Против кого? Кому высказать протест свой?
Ошеломленный, оглушенный, словно от взрыва той проклятой мины, я, однако, в голос не закричал. Сердце закричало. Сдержала не только субординация. Сдержало, что кощунственную в моем представлении замену принимает такой умный человек – парторг. Значит, очень возможно, думаю я не так, как другие. Кузаев, Колбенко. Шаховский – они на земле. Война есть война. Ежедневно и ежеминутно она подносит и не такие неожиданности. Пополнение давно просили. Людей не хватает даже в боевых расчетах. Парней забирают во фронтовую артиллерию. Девчата выбывают домой… А для замены даже «дедов» не присылают: подмела война за три года людей. А ведь они и там нужны, где делают снаряды, растят хлеб.
Сглотнув сухую слюну, я спросил почти шепотом:
– Она будет вместо Лиды? Финка?!
Колбенко, занятый своими мозолистыми пальцами, ответил между прочим:
– Пусть Данилов решает, куда ее. – Но тут же догадался, что творится с его помощником, всмотрелся в меня и вдруг поднялся, шагнул к столу: – Ты чего побледнел? Не бунтуй, Павел. Никакая она не финка. Финнов, как и немцев, в Красную Армию не берут. А насчет тех, кто был в оккупации, мы с тобой говорили. Треть населения страны попала в такую беду, кто на годы, кто на месяцы. Куда же их подевать? Конечно, бдительность нужна… Но не такая, какую проявил Зубров в отношении Мальцева…
Призывник из освобожденной Брянщины, из тех, кого в дивизионе называют «дедами», Илларион Мальцев ни от кого не таил, что во время оккупации был недолго старостой деревни, Колбенко первому рассказал. А Зубров… чуть ли не последним узнал об этом от какого-то своего неумного осведомителя. И повели Мальцева под винтовкой в «Смерш» армии. Колбенко, услышав об аресте «деда», взбунтовался, знал, что Мальцев был старостой по заданию партизан и два сына его погибли, один, летчик, в звании Героя Советского Союза. Зубров, вероятно, получил выговор от своего начальства, потому что как-то доверительно сказал мне:
– Этот недобитый украинский националист когда-нибудь нарвется. Пусть скажет спасибо, что я добрый.
Мальцев – лучший плотник, все командные землянки в Кандалакше построил. Кузаев иначе не обращается к нему, как Илларион Петрович.
– …девушка и тебе понравится. Такая не может не понравиться. – Колбенко вытер губы – примета хорошего настроения. – Я подошел… Как тебя зовут? Она – реверансик… Кукареки… Вообрази. Я засмеялся. А у нее только глаза смеются. Какие глаза! Я, старик, утонул в них. А произношение какое! Мы с тобой никогда не научимся так говорить по-русски… А ты говоришь – финка.
И мое желание протестовать отступило. Появилось недоумение, удивление. Однако и оно меня испугало. Что делается со мной? Колбенко ни про одну из наших девушек так не отзывался, для него в военном плане они – бойцы, в человеческом – дочки.
Видимо уловив мое удивление, он прекратил разговор о новеньких. Снова сел на пол, стал обуваться. И – совсем о другом:
– Город собирается встречать первый поезд из Ленинграда. Хочешь, сходим?
– Хочу!
Обрадовался я предложению, понял, что смогу переключиться на другое. Произойдет что-то новое, необычное. Я же не видел его еще, освобожденный город. Давно не наблюдал гражданской жизни. Да и событие какое: первый поезд из Ленинграда! Как его будут встречать? Всмотреться в лица людей – кто как будет радоваться? И тут же вспомнил Женю Игнатьеву. Обязательно сказать ей!
– Нужно Игнатьеву взять, она же из Ленинграда. Колбенко знакомо хмыкнул:
– Странный ты человек, Павел. Но за чудачество твое я и люблю тебя. Если Муравьев отпустит – бери.
8
Мы шли вчетвером: капитан Шаховский, Колбенко, Женя и я. Вышли на улицу, что вела к вокзалу. На домах еще висели таблички с финским названием этой улицы. Никто из нас не знал, как она называлась до войны. Улица Ленина? Сталина? Не иначе. Ведь в центре города. Даже с разрушенными домами, с неубранным мусором улица выглядела красивой. Красные флаги на уцелевших домах и первые самодельные вывески советских учреждений придавали ей праздничный и – что особенно поразило – мирный вид. Отчего такое впечатление? Много штатских? По одному или небольшими группами они шли туда же – в сторону вокзала. Как пассажиры. Ощущение мирного покоя могло появиться и потому, что день, на счастье, пасмурный. Дождь прошел утром. Волнующий влажный запах земли и яркость умытых цветов на клумбах создавали мирное настроение. Случалось, и раньше что-то подобное наплывало. Всегда – в нелетные дни, летом, когда сеялся полярный дождик и пахло землей и хвоей. Война изменила и понимание красоты, и мотивы смены настроений.
По другим зенитным правилам тот день нельзя было назвать нелетным в полном смысле. Но почему-то свыклись, что даже при такой высокой облачности все же спокойнее, чем при ясном небе, хотя и знали немало примеров использования «юнкерсами» и «хейнкелями» именно такой погоды. Бомбили вслепую, легко скрывались от наших истребителей, выходили из пике, прятались в облаках и ненаказуемо улетали. С ростом наших противовоздушных средств фашистская авиация меняла тактику.
Но в тот день, не сомневаюсь, никто из нас о налете не думал. За несколько дней, с тех пор как мы прикрываем город, не сделали ни одного залпа. Однажды только третьей батарее дали команду обстрелять разведчика. Разведчик появлялся ежедневно, но забирался на такую высоту, что умнее было не тратить снаряды и не демаскировать свои позиции. Война приучила ко всему: к хитрости, осторожности, бережливости.
Я озирался на прохожих, стараясь угадать старожила, у которого можно было бы узнать название улицы. Но тут вспомнил Шаховский, он не единожды бывал в Петрозаводске до войны:
– Петровская. Улица Петровская. В честь основателя города.
Чтобы сообщить мне это, капитан обернулся – они с Колбенко шли впереди, мы с Женей за ними – и вдруг отступил в сторону, как бы пропуская нас вперед.
– Вы почему такая бледная, Игнатьева?
Женя неожиданно, смутив меня, нашла, не глядя, мою руку, сжала пальцы, как бы ища поддержки; ее рука была странно холодная, как с мороза. А может, она всегда у нее такая? Здоровался ли я со своим комсоргом за руку? Не помню. Как-то стало не по себе от этого, словно я совершил что-то неприличное. Вспомнился Колбенко: «Субординация субординацией, а люди должны оставаться людьми. На своей стороне баррикад мы – братья и сестры».
Женина бледность испугала, и я сжал ее пальцы, подавая знак: я поддержу тебя, сестра моя!
Шаховский, видимо, удивился, что мы, как дети, взялись за руки, но в дивизионе знали: заместитель командира с аристократической деликатностью уклоняется от обсуждения, а тем более осуждения любых отношений между мужчинами и женщинами – в наших условиях.
«Потому что у самого рыло в пуху», – иронически заметил как-то Тужников.
Женя ответила не сразу, у нее перехватило дыхание, что меня тоже испугало: скажет Шаховский Пахрициной – и спишут девушку.
– Я волнуюсь, товарищ капитан. Поезд из Ленинграда!
Тогда капитан встал рядом и взял Женю за локоть. Она, сконфуженная, отпустила мою руку.
– Вы долго жили в Ленинграде?
– Два года!
– О! В городе, тогда называвшемся Петербургом, родился мой прадед, дед, мой отец, мать, братья, сестры и я, грешный, ваш покорный слуга. Вырос, учился, работал…
– И вас не волнует?
– Что? Поезд? Видимо, у нас, мужчин, эмоции выявляются иначе. Меня, признаться, больше тронуло ваше волнение. Спасибо вам, что вы так любите его, наш город, несмотря на все там пережитое.
– Потому и люблю. Мы голодали, мерзли, готовились завтра умереть… а город любили все сильнее. Меня вывозили по ледовой Дороге жизни, а я плакала. Поверьте, не от радости спасения. От мысли, что, может быть, никогда больше не увижу Ленинграда.
– Теперь увидишь, – сказал Колбенко.
– Теперь увижу! – И щеки девушки начали оживать, зарозовели.
– При первой же командировке… думаю, нас переведут в Ленинградскую зону ПВО… я возьму вас с собой. Это будет моей наградой вам…
– Спасибо, товарищ капитан. Я постараюсь заслужить ее.
– Вы уже заслужили. Своей любовью к моему городу.
– А ты, капитан, собственник – целый город присвоил, – пошутил Колбенко.
– Вы, Константин Афанасьевич, целую страну присвоили Сколько раз я слышал от вас: «Моя Украина…»
Я засмеялся. А парторг серьезно и задумчиво сказал: – Моя ненько Украина! – И Жене: – Ты только кушай больше. А то, говорят, не съедаешь солдатской порции. Мало наголодалась? Капитан возьмет тебя ординарцем. Будешь носить ему чемодан.
– Ну, это я не позволю себе, – сказал Шаховский. А Женя снова нашла мою руку, как бы ища спасения или, может, желая предупредить: мне она как-то призналась, что после еды у нее болит живот.
– Недалеко от нас есть усадьба, у хозяина – коровы… Я договорился покупать молоко. Вам… больным…
– Мне?! – смутилась и испугалась Женя. – Зачем, товарищ капитан? Не нужно, прошу вас.
Мне тоже не понравилась такая необычная его забота. Небывалая роскошь – молоко! Не удивителен Женин испуг. Видимо, от доктора Шаховский узнал о ее здоровье больше, чем знает она сама. Или хочет помочь Пахрициной вылечить таких больных?
Я поспешил перевести разговор на другую тему:
– Товарищ капитан, вы привели пополнение? Образованные девушки?
– Игнатьева оформляла их. Образованные?
– Две учились в Хельсинки в педагогическом колледже.
После разговора с Колбенко я был настроен против той, что попала на батарею Данилова, хотя и не видел ее еще. Потому не удержался:
– Не видно, что голодали там?
– О нет, не голодали, – с тайной неприязнью ответила Женя, это еще больше сблизило нас.
Но обернулся Колбенко и погрозил мне пальцем:
– Павел! Не заводись! И комсорга своего не настраивай. Голодали не голодали… Думаю, в молоке не купались.
– Вы против призыва этих девушек? – искренне удивился Шаховский.
– Кто их лучше перевоспитает, как не мы?
– А зачем их перевоспитывать?
– Вы ошибаетесь, товарищ комсорг. Партийный опыт вашего парторга подсказывает другое. Верьте его опыту. Разве не так, Константин Афанасьевич?
– Я его буду просвещать, – весело пообещал Колбенко.
«Странно веселый ты сегодня, – подумал я. – После смерти Лиды ходил туча тучей, а тут вдруг развеселился. Почему?»
Я ожидал, что люди, горожане и военные, заполнят всю привокзальную площадь, даже улицы. Нет, площадь, убранная, подметенная, была пустая.
Люди – было их немало, хотя совсем не столько, сколько представлялось мне в связи с таким событием, – ожидали на перроне, на путях. Там же, на перроне напротив центрального входа в здание вокзала, стояла кумачовая трибуна, узкий проход к ней охраняли милиционеры, разделив толпу на две части.
Нас пропустили по этому проходу, но попросили пройти на пути, где стояла группа военных. Организованной была, правда, только рота саперов-железнодорожников, ремонтировавших пути. Но и они не стояли строем, некоторые из них продолжали укладывать шпалы и рельсы, даже не надели гимнастерок, работали в просоленных до желтизны нижних сорочках. Но большинство из них приводили себя в порядок и готовились к построению – суетились офицеры, сержанты. Отступая, оккупанты основательно попортили пути, под стрелками, шпалами, рельсами взорвались сотни мин, да и наши бомбардировщики, артиллерия тоже «поработали» во время штурма города.
Военных в строю мы увидели на переднем крае перрона – большой, что было неожиданностью, оркестр, какого в военное время не приходилось видеть. Если бы светило солнце, его надраенные медные трубы слепили бы глаза. Остальные военные были такими же стихийными участниками встречи, как и наша четверка, – те, кому служба позволила отлучиться с боевого поста. Штабисты, политработники, интенданты тыловых складов. Группа врачей и медсестер госпиталя, некоторые с медицинскими сумками.
Среди гражданских увидел я ту языкастую женщину, с которой мы с Колбенко познакомились в первое утро, – Параску, и снова, как на похоронах Лиды, стало неприятно от ее присутствия. Особенно поразило, что Константин Афанасьевич помахал ей рукой – поприветствовал как знакомую. Но потом я заметил, что Параска поддерживает плачущую старушку. Моя настроенность против нее ослабла, во всяком случае, раздвоилась. Враг не заплачет от радостного для нас события. От злости разве. Но старушка плакала не от злости – повод был тот же, что лихорадит Женю, волнует Шаховского, хотя капитан по-мужски, по-офицерски таит свои чувства.
Да и есть ли здесь равнодушные к предстоящему? Всмотрелся в лица. Плачет не одна старушка. Утирают слезы медсестра и старый железнодорожник.
В личном плане меня ничто не связывало с Ленинградом. Но и я разволновался еще в тот момент, когда Колбенко сказал о поезде. И волнение росло здесь, на путях, в людской массе. Особенная радость, приподнятость от понимания необычности события появилась, когда в проходе у трибуны показались генералы, руководители республики, города.
Оркестр грянул «Широка страна моя родная». Торжественная и широкая, как сама Родина, родная, всегда, казалось, жившая в душе мелодия вызвала слезы у многих. Я вытер глаза рукавом гимнастерки. Женя незаметно протянула мне носовой платок. Я даже растерялся.
– У меня два, – прошептала она.
Носовой платочек был… надушен. И с ним пахнуло на меня совсем иной жизнью, незнакомой мне или, во всяком случае, забытой. Мирной жизнью. Я знал только запах войны. Даже здесь, на станции, я прежде всего почувствовал запах гари, пожарища да свежевыкопанной земли, а она тоже пахла войной, особенно со дня похорон Лиды. С того дня даже запах цветов говорил о смерти. И тут увидел цветы в руках женщин. Почувствовал их аромат. И – вот счастье! – они благоухали радостью и миром.
Женя сказала с сожалением:
– А я не додумалась нарвать цветов.
Смолкла музыка. И сразу же послышался недалекий паровозный гудок.
– Идет!
– Идет!
Колыхнулась толпа. Смешались гражданские и военные – всем хотелось стать ближе к тому пути, на который придет состав, а это почему-то был дальний от перрона путь. Саперы создали цепь безопасности, оттесняя людей.
И вот он, состав, вынырнул, как из подземелья, у дальнего семафора. Но шел необычный поезд – приближалась, плыла сказочная березовая роща, так густо паровоз и вагоны утыканы березовыми, кленовыми, липовыми ветками. Для маскировки или для красоты? Некоторые ветки успели пожелтеть, словно там, откуда шел состав, листву опалила осень. На паровозе она почернела от пыли и дыма. Но на диво свежо, будто только что повешен, полыхал на буферных стойках паровоза красный транспарант. Захотелось быстрее прочесть слова на нем. Какой лозунг, какие приветствия?
Когда поезд приблизился и надпись вырисовалась, то поразили и растрогали меня, Женю… да и всех, конечно, сильнее любого самого горячего приветствия четыре слова. Их читали хором:
– «Москва – Ленинград – Петрозаводск – Мурманск».
Какая победоносная география! Какая радостная!
Состав подтягивался очень медленно. Машинист давал короткие гудки, шумно выпускал пар, предупреждал неосторожных, готовых в радости и восхищении смять цепь саперов. Люди махали руками, цветами, кричали, приветствуя тех, кто выглядывал из открытых окон вагонов, из тамбуров, и тоже кричавших, плачущих…
Оркестранты так старались, что гром их веселого встречного марша заглушал все другие звуки.
И в этом шуме и гаме я первый услышал залп батареи. Нашей, третьей: у Савченко всегда отставала одна пушка, отчего на совещаниях часто подтрунивали, а комбат злился и распекал командира расчета сержанта Вишняка.
Батарея стояла неподалеку от станции, на юге, в той стороне, откуда пришел поезд.
Стало страшно. Чуть ли не так же, как в первый день войны. Но тогда то был страх за себя, за свою жизнь. А тут – за людей, за великую радость, что может через мгновение смениться горем – кровью, смертью, слезами.
– Тре-во-га! – что есть силы закричал я. – Тре-во-га! Но меня не поняли. Поезд остановился, из вагонов высыпали люди. Целуются. Плачут.
Я выхватил пистолет, выстрелил вверх.
– Воз-дух! Воз-дух!
Смолк оркестр – и все услышали и залпы батареи, и мой крик, и шум моторов.
Первыми, бросив барабаны и тяжелые трубы, шуганули искать укрытия оркестранты, штурмовали двери здания вокзала.
Пассажиры – женщины, дети – полезли под вагоны, видимо, по дороге их уже бомбили и обстреливали. Или так инструктировали. Шустро бросились врассыпную по путям и дальше – за вокзальные строения – горожане.
Командиры саперов кричали команды, и бойцы занимали места, определенные на случай бомбардировки станции.
Не двинулись с места мы, неорганизованные военные, да представители республиканской и городской власти. Странным мне показался такой замедленный рефлекс у нас, зенитчиков, – у Шаховского, у Колбенко, у Жени. Я хотя бы кричал, поднял тревогу. Нет, я сделал еще одно: толкнул Женю, приказал:
– Беги!
Но она не тронулась с места, она смотрела в небо. И тут же я увидел их – «юнкерсов». Четверка «восемьдесят седьмых», на которые у нас, зенитчиков, была особенная злость – неожиданно они появлялись и очень прицельно бомбили, – вынырнула из высоких облаков и, казалось слишком медленно и спокойно снижаясь, шла над железной дорогой, на этот разукрашенный ветвями, как на троицу, состав. На нас шли.
– Ложись! – скомандовал кто-то из военных.
Я потянул Женю за руку, и мы упали между рельсами на теплые шпалы, от них пахло дегтем и… минной взрывчаткой. Почему врывчаткой? Странная ассоциация.
Знакомый мерзкий вой, от которого почему-то всегда холодеет до онемения спина – точно замораживают ее. Пикируют. Где упадут бомбы? Жди, что одна из них упадет на твою застывшую спину. Странно, я давно не боялся бомбардировок, когда бомбили батареи. Однако боялся прямого попадания шальной бомбы, которая может разорвать так, что ошметки твоего горячего тела никто не соберет и некого будет хоронить. Как раз тот случай. Метят в состав, а он вот – в двадцати метрах. В поезд как раз нелегко целить. На мост через Ковду, что прикрывался нашей батареей, сбросили семьсот бомб. Ни одна не попала в мост. Но разнесло санинструктора Гольдина, он ловил невдалеке рыбу. Хоронили не человека – части тела. Очень это потрясло девушек-новобранок.
Знаю – прошли секунды, но вой пикировщиков казался бесконечным. Где вы, чертовы игрушки? Рвитесь быстрей! Первая ухнула где-то впереди по ходу поезда. Кажется, в штабеля шпал попала. Над нами пролетели не осколки – тяжелые предметы, глухо ударили в стену вокзала, зазвенело стекло вагонов. Две другие, одна за другой, ударили сзади, в конце состава. Пронесло? Над кем пронесло? Человек эгоист, он думает в такой момент о себе. Но бомба могла попасть в других, в вагоны с людьми. Что там? Приподнял голову. И Женя подняла. Но я тут же схватил ее голову, пригнул к маслянистой земле между шпалами: услышал свист «нашей» бомбы. Вот она – над нами. Но когда над нами, не страшно: есть траектория полета! Она упадет дальше. Дальше…
– А-ах!
Горячая волна больно ударила в спину, кажется, снесла ее, мою спину, или, во всяком случае, содрала кожу. Словно проверяя, живой ли, подхватился. Живой! Живой! Вижу и слышу. Слышу: бьют все наши батареи, захлебывается пулемет Бондаря, он тут, рядом, на крыше диспетчерской. Вижу, самый близкий к нам пассажирский вагон перевернут в нашу сторону. Значит, бомба упала по ту сторону поезда. Посчастливилось? Кому? Там же люди! В вагоне. Под вагоном. Вижу еще: в конце состава горят товарные вагоны. Так быстро загорелись? Кроме фугасок, «юнкерсы» бросали термитки – горят дома за станцией. Горит какая-то смола – вонючий дым клубами бросает в небо, под облака.








