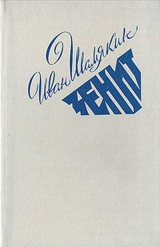
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
8
«Какой он, добрячок? – не однажды думал я. – Типичный? С общими чертами?»
Долго он казался многоликим. А теперь представляю его четко. Он – Петровский, друг мой со студенческой скамьи… Действительно, и тридцать пять лет назад, в группе, кудрявого Мишу, и теперь, на кафедре, лысого, как бубен, Михаила Михайловича считали добреньким. Никому никогда не наступил он на мозоль. Даже в той затяжной войне, которую вела против меня «тетка» и ее племянник, а потом настроенный ими мой преемник Выхода, Петровский занимал на удивление удобную позицию: никого не осуждал, но никого и не защищал, для всех оставался добрым. Нет, добреньким – сказал бы я теперь. Тогда я хвалил его, считал положительным качеством для ученого умение подняться выше мелких человеческих страстей.
Софья Петровна, тоже когда-то восхищавшаяся своим научным руководителем, во время «операции «тетка» резко изменила мнение о нем. Ругала меня за либерализм, за мягкотелость.
«Пошел бы ты в разведку с таким другом?»
«Он пошел бы. И защищал даже тогда, когда дружочек оставил бы его, раненого, во вражеском тылу», – это моя дорогая жена.
Раздражали упреки самых близких людей.
«Что вы сравниваете свару на кафедре с разведкой! Что вы знаете про разведку? Там включается совсем иной душевный механизм. Михаил ходил в разведку. В партизанах».
«После того как просидел два года у батьки на печи, повоевал три месяца…»
«Потому что был ранен».
«Ранение открыло ему двери университета, когда еще шла война».
Ранило Петровского серьезно – прострелено легкое, поэтому даже капля скепсиса к его военной биографии не просто раздражала – оскорбляла, будто касалось лично меня. А у Вали изредка пробивалось из потаенных глубин: моя легкая рана – рана, а его тяжелая – так себе.
Эта душевная раздвоенность искренней во всем ином женщины, жены моей, в отношении давнего друга семьи удивляла и огорчала. Валя помогала его болезненной жене, детям, гостеприимно принимала самого Михаила Михайловича, но я, как тонкий прибор, улавливал космические частички ее настороженности: она точно жила ожиданием его измены. Открыто, правда, высказывала разве что одно: Михал завидует мне. Он тоже, вероятно, чувствовал, что она, не в пример мне, не полностью доверяет ему, не с той дружеской искренностью, что я. Он с первого появления в частной комнатушке, которую мы, молодожены, снимали, обращался к Вале на «ты». Она к нему на «вы». Много раз Петровский просил ее перейти на дружеское «ты». Валю смущали его просьбы, она краснела, чуть ли не мученически упрашивала:
«Простите, Михал, но никак не могу. Не получается у меня».
«Аристократка она у тебя, – обижался друг. – Она не из нашей гжечной шляхты, случайно?»
«Это она из-за твоей лысины», – шуткой уводил я разговор.
Неделю назад неожиданно зашел ко мне Николай Снегирь, мой бывший аспирант. Я гордился им. В сорок лет полещук стал доктором и преподает в Академии общественных наук. Он навестил на Гомельщине мать и возвращался в Москву через Минск, как выяснилось, нарочно кружным путем, чтобы встретиться со мной.
Сидели за столом, пили чай. Вспоминали своих коллег – историков, минских и московских. Обсуждали новые книги, новые теории, новых исторических светил. Радовались, что оценки совпадают.
– А нашим недавно высокая инстанция поручила дать отзыв на вашу книгу, Павел Иванович.
– Почему вдруг?
– Покатили на вас бочку.
– Анонимка?
– Да нет, подписался. И вы бы знали кто. Очень удивило меня это письмецо. И вас ошеломит, не сомневаюсь. Я скопировал его… Подумал: раз подписано – секрета нет. А вам будет интересно.
Валя сидела с нами, и я увидел, как густая краснота залила ее шею, виски, лоб, а губы и нос побелели. У жены была гипертония, и я любыми средствами старался оберегать ее от стрессовых ситуаций, хотя их немало создавали дети. Догадался, о чем она подумала – кто автор письма. Я все еще не хотел верить.
Николай Иванович достал из кармана довольно толстый конверт, передал мне. Четыре листа. Не удержался, глянул на последнюю страницу – на подпись. И мне тоже кровь ударила в голову. Петровский.
Валя смотрела на меня испуганными глазами. Прочитал. Будто бы и ничего особенного. Даже и не критика книги, а как бы постановка вопроса (но перед какой инстанцией!): дескать, не послужит ли такое детальное разоблачение современного троцкизма пропаганде враждебных марксизму идей среди тех читателей, которые не ориентируются в теоретических глубинах? (Какое мнение у профессора о советских людях: неучи, мол!) И хитрый подбор цитат из высказываний буржуазных идеологов, которых я разоблачаю. Цитат из моего текста оппонент не дал.
Дочитал до конца и как-то странно успокоился, с облегчением засмеялся – будто прорвал гнойник, недолго, но сильно болевший. Ай да Мишка, ай да шустрик! Словно бы и безобидно, но – в яблочко! Разве не должны разбираться с сигналом доктора наук, профессора? А пока будут читать, рецензировать, выдвижение мое в академию задержат. Кажется, уже задержали.
Валя протянула руку. Не дать ей письмо в присутствии гостя я не мог. Передал бы мне сей опус Снегирь наедине, я бы, конечно, постарался утаить его от жены: зачем ей лишние волнения!
Николай меж тем удивился:
– Спокойный вы человек, Павел Иванович. Завидую я вам. У меня, молодого, после чтения этого подленького сочинения три дня давление держалось. Вы что, поссорились?
– Нет. Дружим по-прежнему.
– Что же им руководило?
– Зависть, – гневно сказала Валя. Она, как и я, глянула сначала на подпись. – Павла Ивановича хотят избрать членкором.
Снегирь всплеснул руками:
– О святой Михаил! Мне же говорили про выдвижение. А я, пустой улей, не сообразил. Проклятая зависть! Сколько она калечит душ! Что вы скажете ему?
– Ничего этот лопух не скажет!
Я даже вздрогнул от Валиной грубости, никогда она при гостях так не «величала» меня.
– Он будет целоваться с ним. Если вы, Микола, хотите увидеть живого толстовца – так он перед вами.
– Да нет, я не назвал бы Павла Ивановича толстовцем.
Когда он ушел, Валя наградила меня такими эпитетами, какие я редко слышал от нее, разве в молодости, когда она могла еще приревновать к другим женщинам. Даже маленькая Михалинка возмутилась:
– Буля-куля, не ругай моего дедушку, он будет плакать. И я с ним.
– Твоего деда нужно не ругать, а палкой бить, – немного смягчилась жена.
– Я тебя за ухо укушу!
– Смотри, какую защитницу себе воспитал! Но не думай, что она будет похожа на тебя. Она уже сейчас умнее. Боже! И он еще улыбается, будто ничего не случилось.
– А что случилось? Михал не всегда прочитывал мои книги, а тут явно прочитал, и довольно внимательно.
– Не юродствуй! Померяй мне давление.
– Пожалуйста, не нагоняй его глупостью.
– Ты готов любую подлость назвать глупостью.
В конце концов, измерив давление и дав Вале адельфан, я уговорил ее оставить историю с письмом Петровского в тайне. Выводы насчет друга сделаем для себя – на будущее.
Но на другой или третий день черт его принес к нам; в зимнее время, живя на другом конце города, Петровский не так уж часто наведывался, не то что на даче.
Я сразу увидел, как запунцовела моя Валя, и испугался в первую очередь за нее, но и за Петровского. А он, кретин, хотя бы молчал, говорил о чем-нибудь постороннем, анекдоты свои бородатые рассказывал, что ли. Так нет же, не придумал ничего умнее, как хвалить мою книгу. Видимо, мучила его совесть.
– Серьезную ты работу сделал. Основательную. Как раз то, что нужно сейчас в плане нашей контрпропаганды. Перечитал я еще раз и порадовался за тебя… Я выдвинул бы тебя в членкоры – в академики сразу. Достоин!
Да сказал как раз же в присутствии Вали, вероятно, почувствовал ее отчуждение; она, видел я, явно не могла смотреть на этого человека, опасаясь за возможный свой срыв. Заглядывала в кабинет, чтобы выпроводить внучек, которых давно забавляла лысая Михалова голова. Детей тянуло погладить ее, скользкую, это смешило, больше всех – самого Петровского. Одна Марина гоняла за это дочерей. В тот вечер, чувствовал я, Михалу было не до забав с детьми.
После его похвалы Валя прислонилась к косяку и сжала ладонями виски. Не забрав внучек, тихонько вышла. Я понял, что жене плохо. Пошел за ней. Она упала в спальне на гору подушек.
– Что с тобой, Валя?
– Ничего, – прошептала она, – иди к своему ненаглядному. – И с брезгливостью, жестко: – Чтобы девочки не трогали его голову! Мерзость!
Но было не до Петровского, я не мог не видеть, что жене действительно плохо. Бросился к телефону. Вызвал «скорую». Телефон у нас в прихожей, я никогда не переносил аппарат в кабинет, но Михал услышал мой разговор. Вышел в коридор даже несколько встревоженный.
– Что случилось? У Вали – сердце? – И намеревался войти в спальню.
Я почти зло крикнул:
– Не смей идти туда!
Неожиданная Валина болезнь и мой крик, видимо, навели Петровского на догадку. Он сел у телефона, позвонил своей Кларе, что скоро вернется, да так и остался сидеть в кресле. Я пробегал мимо на кухню за водой, за таблетками и не замечал его. Он тоже молчал. Странно – о детская чуткость! – и малышки не трогали его. Дети, как испуганные птички, забились в спальне в уголок и тихонько, необычайно мирно, шептались.
Петровский, не прощаясь, исчез, когда приехали врачи.
Вале намеряли 220. Трижды потом приезжали в тот вечер, делали уколы.
После своего самого тяжелого гипертонического криза моя дорогая Валентина Петровна не удержалась и показала письмо Зое. А та, бескомпромиссная, решительная, необычно отомстила. Сделала на ксероксе десяток или более копий. Придя на кафедру во время лекций, перед перерывом, положила письмо на все наши семь столов, на тот, который числился за профессорами Петровским и Шиянком, тоже.
Когда Михаил Михайлович вошел в комнату, за каждым столом сидел человек и за плечами у него стоял другой, а то и двое. Читали интереснейший документ, свалившийся с неба.
Профессор не догадался, что так внимательно читают. Его стол был свободен. Он сказал какую-то остроту, на которую никто не отреагировал, сел за стол, увидел свое тайное послание и… с ним случился сердечный приступ. Попал в больницу. И я сильно переживаю. Осторожно, чтобы не нагнать давление, упрекнул жену. Поссорился с Зосей. Считаю долгом посетить Михаила в больнице, но боюсь, не стало бы ему хуже от моего визита. Марии Романовне, навестившей его, он якобы сказал: всегда, мол, был убежден, что погубят его не враги, а друзья.
Кого же, Михале, ты хотел подстрелить – врага, друга?
9
День был не похож на апрельский – почти осенний, даже в полдень плыл туман, словно кто-то всесильный и умелый пускал дымовые завесы. На наше счастье, думал я. Туман, конечно, рождался над Одером. Казалось, я чувствую дыхание великой реки. Вот она – рукой подать. Спросил у командира прожекторной роты старшего лейтенанта Анютина, чует ли он, что мы перед рекой.
– Кто его знает, – ответил он. – Конечно, где-то близко. Пушки же бьют близко.
Даже командир не знает, где находится его рота. Кто же знает? Тужников? Но он настолько сосредоточен, что я не отважился беспокоить его пустым вопросом. Да и у него немецкой трехверстки не было.
Знают, конечно, офицеры с того «виллиса», которые вели роту сюда. Вели узкими дорогами с частыми поворотами, потому тяжело было определить в тумане, как далеко мы отклонились к северу, к югу отклониться не могли, поскольку магистральное шоссе с Ландсберга на Кюстрин, разведанные вылазками на трофейных мотоциклах, не переезжали. На брусчатках, связывающих небольшие городки, особого движения не было, только навстречу нам шли пустые машины, не боевые – больше интендантские. Но лесок, куда нас привели, забит боевой техникой: танками, самоходками, «катюшами», машинами с прожекторами. Целый полк прожекторных установок, но, по всему видно, собраны они с разных частей – командиры незнакомы между собой. Люди на войне легко знакомятся, легко сходятся, но редко спрашивают, кто откуда, из какого полка, дивизии. Спрашивать, где находимся, тоже неловко, решил я. Могут удивиться, насторожиться, а если и скажут, что вблизи какого-нибудь «дорфа», или «берега», то что это даст без карты. Делай, как другие, вид, что все хорошо знаешь. А меж тем все было загадочным. Началось с очень раннего, по существу, ночного – еще не светало – совещания у командира. Срочно, за час, снять все прожекторы, привести в боевое состояние, выделить новейшие машины и быть готовыми двигаться по указанию офицера штаба фронта. Значит, двигаться не в тыл – на передовую. Но почему только прожекторы? Я даже не утерпел и задал этот наивный вопрос. Кузаев ответил с обычным юмором:
«Спроси у маршала Жукова».
Офицеры засмеялись. Но мне было не до смеха.
Шуткой командир выдал главное: прожекторы понадобились фронту перед решительной операцией. Но зачем? Разведали о массированном ночном ударе фашистской авиации? Маловероятен такой удар. А если и так, то почему одни прожекторы? На фронте достаточно зениток и не хватает прожекторов? Но ведь давно убедились, что эффективность огня с ними небольшая. Лучше даже по звуку. А теперь, в конце войны, достаточно радиолокаторных установок. Однако же нашу СОН не забирают. Еще на совещании подумал я об этом и, между прочим, спросил и про СОН.
Кузаев пожал плечами:
«При чем тут СОН?»
А Тужников язвительно пошутил:
«Он думает, что с помощью СОН найдет ее командира».
Офицеры не просто засмеялись – захохотали. Я знал шуточку, ходившую по дивизиону: Ванда поменяла комсорга на комбрига.
«С ротой поедет майор Тужников», – сказал Кузаев.
Замполит засветился от удовольствия. Жаждет покомандовать? Или радуется поездке на передовую?
И я тут же попросил командира послать и меня. Сжался от возможной новой обидной шутки. Но все остались серьезны, только Колбенко крякнул недовольно. Командир спросил у Тужникова:
«Берешь?»
«Беру».
Еще одну просьбу Кузаев отсек:
«На время отсутствия майора Тужникова обязанности его исполняет старший лейтенант Колбенко».
После совещания Константин Афанасьевич все же уколол меня:
«А тебя, казаче, не обскачешь. Ты действительно хочешь ее искать? Забудь!»
Понимал, как наивно надеяться на встречу с нашими «дезертирами». И все же думал о ней. Человеческий океан – да, но и в океане сходятся корабли. Занесла же случайность Сивошапку к нам. Беглецов, ясно, здесь, на берегу Одера, не вернул бы и сам Кузаев. Но очень хотелось глянуть Ванде в глаза. Последний раз. И спросить… О чем? О нашей женитьбе? Смешно.
Ходил по лесу среди «катюш» и Т-34. Не удержался – спросил все же у танкистов, не из бригады ли Сивошапки они.
Получил ехидный ответ:
– Мы из бригады Красной Шапочки.
Отрезвел. И думал уже о другом. О небе. Это же счастье, что оно затянуто облаками и туманом. Но будет ли так весь день? Не осень все же – весна. Прояснится – ох, какая добыча для фашистских стервятников этот, судя по всему, небольшой лесок, плотно набитый техникой и людьми. А зениток что-то не видно. Вероятно, все там, где гремит артиллерия, близко гремит – версты за три, и где сосредоточены танки и пехота. Неужели начинается большое наступление? Среди дня? Какая же роль отводится прожекторам? Появилась тревога за роту, особое, видно даже здесь, в лесу, подразделение: две трети личного состава – девушки. И какие! Необстрелянные, не обученные и от бомбежки укрываться, наверное, даже без личного оружия, на всю роту – десяток автоматов, десяток винтовок. Начал присматриваться к этим девчатам, и у меня защемило сердце от жалости. Как они отличаются от девушек призыва сорок второго года! Дети голодных военных лет – девчушки.
Прожекторная рота давно стала пасынком, ненужным придатком, почти год, еще с Кандалакши, прожекторы не освещали цели. На роту мало обращали внимания не только строевые офицеры штаба, но и мы, политработники. Все внимание – огневикам-артиллеристам, пулеметчикам. Потому и посылали на прожекторы новеньких, слабеньких физически. Направляли их туда еще по одной причине – из-за образования. Большинство новобранок как кончили до войны пять-шесть классов, так больше и не учились – не до учения было, хотя они и из срединной России: растили и убирали с матерями хлеб для фронта. То, что учили, за войну забыли. Не поставишь их на ПУАЗО, дальномер, тем более на СОН. А на прожекторах приживутся, довоюют в затишье, в относительной безопасности. Спокойнее и им, и командирам.
Ходил среди этих девчат, и мною все больше овладевала тревога и… стыд, что мы забывали о них. Я не однажды выхвалялся своим знанием всех комсомольцев дивизиона. А тут вдруг выявил: в лицо знаю, а фамилий и имен многих не помню.
А они, девчатки, действительно как дети. Им и командиров давали не лучших, в роту нередко посылали «штрафников». Воспитатели же из них известно какие! Авторитет свой умели поддерживать только строгостью. А тут, почувствовав, что им придется на передовой с девчатами этими решать нелегкую задачу, офицеры, строгий старшина, сержанты, неожиданно подобрели. И доброта их совсем расплавила девушек. Находясь на разных установках, они, землячки, давно не виделись – с эшелона. Собрались вместе и обнимались, целовались. А вокруг ходили бравые танкисты в замусоленных комбинезонах, шлемах, подкручивали усы, любезничали, охотно давали свою полевую почту. Это еще больше поднимало настроение девушек, четыре года не знавших мужской ласки, внимания – ни отцов, ни женихов.
Я взял у старшины список роты, внимательно прочитал девичьи фамилии, имена. Неофициально, в паузах беседы о положении на фронте, начал знакомиться.
– Ты – Марина, да?
Сначала они отвечали по уставу, подхватываясь с влажной хвои, на которой сидели:
– Рядовая Марина Якушева.
– Рядовая Ефросинья Круговых.
– Рядовая…
– Не поднимайтесь, – попросил я. – Хочу проверить свою память – всех ли я знаю.
И все больше убеждался: не всех. Горел от стыда и недовольства собой. Как я знал людей на первой батарее! У кого какая семья знал. Кто кого из близких потерял на фронте.
Неофициальную перекличку сначала приняли по-детски – шутили, смеялись.
Вдруг я споткнулся на девушке, долго прятавшейся за спинами у подружек. Маленькая, как Таня Балашова, и личико совсем детское, с веснушками, с пухленькими губами, курносая. Заметная внешность. А я не только не помнил имени и фамилии, но и в лицо не помнил – словно увидел впервые. Но хорошо знал, что после Петрозаводска в дивизион не поступило ни одного нового человека, выбывать выбывали: человек пять забрал штаб корпуса – пулеметчиков, двое попали в госпиталь, четверо… «дезертировали»…
– А вы… ты… – делал вид, что вот-вот вспомню ее имя. Тем, кого вспоминал, по-простому говорил «ты», и это нравилось девчатам.
Она поднялась, залилась краской, опустила глаза и… не отвечала, как бы давая мне возможность вспомнить.
За нее отвечали другие, хором:
– Надя… Надя. – И фамилию назвали простую, русскую, распространенную. А я пошутил:
– Надежда. Чья-то надежда.
И не стал больше смущать девушку, продолжал рассказ о ликвидации немецкой группировки в Восточной Пруссии.
Вдруг ударила тяжелая артиллерия – совсем близко, с восточной окраины леса. Неужели начинается большое наступление? Начали выезжать на шоссе «катюши». Но в лесу и до того было неспокойно, по лесным дорогам, просекам постоянно сновали разные машины. Да и минометчики, не в пример танкистам, не оставляли свои установки, за девчатами не ухаживали.
Над лесом прошелестело, точно поднялись тысячи птиц. И близко, очень близко – на поляне, где стоял деревянный красивый дом, видимо лесничество, гакнули глухие разрывы. Не сразу дошло, что поляну накрыли вражеские реактивные минометы «фауст», появившиеся у немцев в конце войны.
В лесничестве, вероятнее всего, разместился штаб танковой части, вокруг стояли кухни, фургоны мастерских.
«Фаусты» ударили точно, туман не скрыл от гитлеровцев сосредоточение войск, а расчеты делать на своей территории легко.
В роте объявили тревогу. Командиры и бойцы заняли свои боевые места. Но что мы могли – светить прожекторами? С расчетов взяли мужчин выносить раненых, хоронить убитых.
После второго залпа «фаустов» сотрясли воздух и согнули вихрем сосны залпы многих батарей нашей тяжелой артиллерии.
Я пустил секундомер и, зная скорость снаряда и скорость звука, подсчитал, что снаряды рвутся не далее как в трех-четырех километрах. Всего. Во как близко!
А еще раз несколько минут над лесом, не убрав даже шасси и едва не касаясь ими верхушек деревьев, пронеслись штурмовики – те «илы», которых немцы называли «черной смертью».
И близко на западе, очень близко, началась частая минометная и пулеметная стрельба. Неужели пошли на форсирование?
Я ходил от машины к машине, всматриваясь в прожектористов. Тронули и порадовали девичьи лица, хотя и посерьезневшие, повзрослевшие, но более спокойные, чем у поседевших мужчин. Не осуждал пожилых солдат: у них дети, а война кончается. Сказал про девчат Тужникову.
Тот хмуро ответил:
– Не идеализируй их. Смотри, как бы они не разлетелись испуганными синицами, когда нужно будет выполнять задачу.
– А какую задачу мы должны выполнять? Люди вправе знать.
– Не спеши. Скажут.
Выходит, и он не знает. Не нравилась такая таинственность. Штурмовым ротам задачу ставят – людям, что в атаке ранеными могут попасть в плен. А наши в плен не попадут – от немцев нас отделяет Одер.
Удивительна человеческая психология на фронте. Только что рядом убило людей, их товарищи, а танкисты принесли трофейный баян. Комсорг роты москвичка Светлана Купцова умела играть. Обратилась не к своему командиру – ко мне:
– Товарищ младший лейтенант, можно потанцевать?
Просьба просто ошеломила меня. Спросил разрешения у Тужникова. Тот неожиданно позволил:
– Пусть танцуют, – и остановил меня. Когда я повернулся, сказал неожиданно, непривычно, с отцовской интонацией: – Станцуем и мы с тобой, Павел? Тряхнем молодостью.
И мы танцевали. Под баян. Под гул артиллерийской канонады.
В вечернем полумраке снова появился утренний «виллис», и те же офицеры штаба повели нас занимать боевую позицию, как сказал один из них. Машины шли, не включая фар, за синим стоп-сигналом «виллиса» сначала по брусчатке, потом по полевой изъезженной дороге. Буксовали. Молча, без выкриков – таков приказ – люди помогали моторам. Из-под колес на шинели, в лица летела липучая глина. Недевичья, непосильная работа выпала на долю девушек. Но не это волновало – недалекие вспышки выстрелов в нашу сторону, когда поднялись на пригорок.
– Немцы? – спросили ехавшие со мной девчата и плотнее прижались ко мне и друг к другу.
Действительно, похоже, что нас привезли на самую передовую. Странно. Зачем тех, кто не может ответить залпом на залп, выставлять на самом пупе? Ловить самолеты мы могли бы и оттуда, из леса, лучи наши длинные.
Остановились. И наконец получили задание: расставить прожекторы в один ряд и по сигналу, данному по линии связи, осветить немецкие позиции.
Расставляли прожекторы между артиллерийскими позициями. А они тянулись без начала и конца. Куда ни ступишь, в сторону, вперед, назад, – пушки и минометы. Вкопанные в землю, они молчали, но в густой мгле ощущалось присутствие множества людей, казалось, слышалось их затаенное дыхание. Наша позиция тоже растянулась: интервал между прожекторами в двести метров.
Артиллеристы удивились, рассмотрев пополнение:
– А вам что тут делать? Светить будете нам? Так у нас цели ясные.
По мере того как сгущалась ночь, все больше нервничали немцы. Начали пускать ракеты. Они освещали широкую гладь воды. Одер! Мы в каких-то двухстах метрах от него. Вот она – передовая. Впереди – только враг, ожидающий решительного штурма, последней минуты своей. Возможно, я радовался бы, что хоть под конец войны попал на самый передний край, кабы не страх за девчат. Чего лгать через столько лет – боялся и за себя, непривычное, невиданное всегда страшит. Но собственный страх таишь даже от самого себя, а страх за близких людей – не позор. Сказал об этом командиру роты. Анютин рассердился:
– Не распускай нюни, политрук. Забирайся в кабину и спи.
Оскорбительный совет. Как можно спать в такое время? Но тут же заметил, что и старшего лейтенанта лихорадит, и простил ему. Наверное, не от любви к физическому труду, не от недоверия к людям он работал вместе с бойцами. А может, ему, как и мне, хотелось хоть как-нибудь помочь этим малосильным девчаткам.
Работали в полной темноте. Строгий приказ: никакого света, никакого шума. В полночь затихли и моторы автомашин: все заняли свои позиции. Затаились.
Немцы часто начинали беспорядочную стрельбу из минометов и пулеметов, даже ухали тяжелые пушки или гаубицы. Наш берег молчал, редко-редко отзывались пулеметы, как бы подавая игривый сигнал: не беспокойтесь, мы здесь, на месте, ожидайте своего часа.
Вернулся из артиллерийского блиндажа Тужников и дал команду отдыхать.
Я остался с расчетом, в котором была Надя. Словно чувствовал вину перед этой девушкой – столько месяцев не замечал ее. Действительно, я виноват не только перед ней – перед всеми прожектористками. Напрасно мы так мало уделяли им внимания, считали приставленными к архаичному виду оружия. А оно вон где понадобилось! На самой передовой. Хотя замысел командования был все еще непонятен. «Светить – и никаких гвоздей». А зачем? Вероятно, чтобы ослепить противника в момент, когда наши начнут переправу. Где-то там впереди, над обрывом или в залитой весенними водами пойме, прячутся саперы, понтонщики и штурмовые роты. Их дыхание тоже чувствуется. Как будут разворачиваться события, об этом знают в самых высоких штабах. Но несомненно одно: укладываемся отдыхать в историческую ночь. Или ожидаем исторического рассвета.
Сказал об этом расчету прожектора. Но мои пафосные слова вряд ли дошли до усталых людей. Во всяком случае, никто на них не откликнулся.
Командир установки оказался опытным и предусмотрительным человеком – когда дневали в лесу, захватили в кузов еловых веток. Как знал, что понадобятся. Лапник положили на сырую землю под станиной прожектора, и там легли все в один ряд – «деды», девчата, сержант и я. Примостился с краю, возможно, именно потому, что заметил: крайней легла маленькая Надя, с немецкой стороны. Прикрыл ее от ветра, от шальной пули.
По-деревенски пьяно пахли елка и земля. Но и этот острый аромат жизни забивал смрад войны: когда светили наши прожекторы, чувствовалась горелая краска. Или, может, пахли так близкие орудия – тянуло и пороховой гарью, и бензином, и – странно! – конским потом, солдатскими портянками. Неужели кто-то недалеко просушивал портянки? По-прежнему ощущал я – неотвязное представление! – дыхание не одного расчета – многих тысяч людей. Это и поднимало дух, и страшило: сколько нас на одном пятачке земли, а за рекою – смерть, она и не таится даже в ночной мгле. Понятно, почему мы так скупо отвечаем на их огонь. Но в конце концов все дыхания утонули в одном, затаившемся, по-детски трогательном, – в сопении простуженного носика. Спросил шепотом:
– Ты спишь, Надя?
– Нет, товарищ младший лейтенант. Но я усну. Я усну. У меня хороший сон. Крепкий.
– Ты из деревни?
– Из деревни.
– Из какой области?
– Из Орловской.
– Немцы до вас доходили?
– Нет, до нас не дошли.
– Какая у вас семья?
– Обычная. Отец в колхозе работает, он инвалид, ему еще молодому молотилкой руку повредило. Мама… Она коров доит… Старшие сестры помогают. А я в полевой бригаде работала. Нас трое, сестер. И братьев трое. Но Ваню убило на войне, под Сталинградом. Мама сознание потеряла, когда похоронку увидела. А Пете в мае будет семнадцать. Как вы думаете, окончится до мая война?
– Окончится. До первого мая окончится.
– Ой, правда? Вы это знаете?
– Сегодняшняя ночь все решит.
– Ой! Их всех перебьют?
– Кого?
– Немцев.
– Ты имеешь в виду фашистских солдат?
– Да.
– Всех не убьют, конечно. Но они сдадутся…
– Вы верите, что они сдадутся?
– А куда им деваться?
– Это правда. Столько артиллерии нашей. Не ступить – всюду пушки и пушки. А куда мы будем светить?
– Дали бы вы поспать, – отозвался рядом недовольный девичий голос. – Ваш шепот хуже пушек.
Мы умолкли.
И я уснул. Провалился в ту глубину, в какой не видишь даже снов. Хотя, кажется, все же снилось – детство. А может, оно привиделось позже – в короткой яви или потом в бреду?
Разбудил нас сам командир роты не громким и привычным криком «Тревога!», а тихим голосом, чуть ли не отцовским, ласковым:
– Подъем, девчата, подъем. По местам! Сейчас светить будем. Но до того – никакого света.
Глубокая ночь. И удивительная тишина. Мы привыкли к тишине – в Петрозаводске. Но после дневной артиллерийской канонады и веселой вечерней переклички пулеметов тишина эта в полной темноте показалась зловеще-страшной. Единственное живое просветление: порвало тучи и кое-где из космических глубин смотрели на оглушенную и истерзанную землю одинокие звезды. Я нашел Большую Медведицу, от нее – Полярную звезду. Низковато она здесь; в Мурманске – чуть ли не в зените.
Безветренно, но все равно холодно. Или это нервное? Лихорадило. Не одного меня. Под наводчицей по азимуту бренчало сиденье. Знакомый звук – почти тот же, что и на орудии.
В системе звукоуловитель-прожектор Надя высчитывала координаты шума моторов. Здесь же звуковых установок не было. И ее сделали связисткой. Но она не сидела при аппарате, она носила его на плече, время от времени слушая шумы на линии – нет ли разрыва. Стоял рядом с ней и чувствовал, что ее тоже лихорадит.
Командир предупредил: приказ о пуске динамо-машины будет дан по телефону. Поэтому боялись слово сказать, чтобы не пропустить важного сигнала. Командир прожектора отдавал приказы шепотом. Но казалось, и шепот его гремит на весь мир.
Нет, лихорадило не от холода – от нетерпения: когда же поступит команда?
Вдруг… в черное небо взлетела тысяча разноцветных ракет.
И тут же оно раскололось – небо. Или земля? И небо. И земля. Словно бы взорвался гигантский – на всю Германию – склад снарядов.
Горячая волна сорвала с меня фуражку. Сержанта сбросило с площадки прожектора. Ударила батарея, стоявшая за нами, чуть ниже на пригорке. Били четыреста стволов на ширине позиции, занимаемой прожекторной ротой. Извергали смертельный огонь двадцать две тысячи орудий и минометов – знаем мы теперь из истории, из мемуаров военачальников.
На том берегу забушевало далеко вглубь сплошное пламя разрывов.
К грому орудий, минометов присоединился знакомый гул сотен моторов. Шли бомбардировщики, штурмовики. Там, за рекой, над огромными пожарами, бросавшими пламя в небо, высвечивались на разворотах серебряные силуэты самолетов и черные бомбы, что сыпались из них.
– Вот вам! Вот вам! За Ваню! За Ваню! – кричит, разобрал я, Надя, прижимая, как ребенок, телефонный аппарат к груди.








