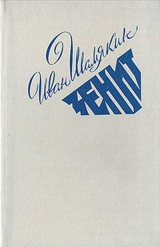
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц)
3
Тихо, ласково, непривычно для огрубевших от выстрелов ушей, очень уж мирно журчала вода, плескалась о борт. А вокруг тишина. Странная тишина. Сложная. Одновременно и спокойная, и тревожно-обманчивая. Здесь, на барже. И над всем бескрайним в сумраке белой ночи озером. Ночь – белая-белая. А все-таки ночь. На небе – несколько тусклых звездочек. Одна – яркая. Она плывет точно золотая рыбка в черной… нет, не в черной, какой-то странно сизой воде. Никогда не видел такого оттенка воды. От белого неба? От близкого северного солнца, такого знакомого нам там, в Мурманске? Тут оно спряталось на какие-то три часа. Позади нас, за кормой баржи, небо совсем белое. И на его фоне вырисовывается фантастический контур черного страшилища с единственным зеленым глазом. Это еще одна наша баржа. Очертания странные – от соединения буксирного пароходика и баржи. Такой же буксир и у нас впереди, довольно далеко. Кабы не его натужливое пыхтенье, шлепанье лопастей о воду, действительно ничто не нарушало бы первозданной тишины былинной Онего!
Едва приметно плывет «золотая рыбка» в сизой воде. Так мы плывем. Очень медленно. Не хватает силы у буксира? Или нам некуда спешить?
И вправду, спешить нам некуда. Врага мы не догоним.
Вряд ли кто-нибудь еще мечтает пострелять по танкам.
Только заняли позиции в Медвежьегорске – команда: грузиться на баржи. Никто не видел, когда и откуда они приплыли, эти длинные, дырявые, с пробитыми боками, с опаленными палубами посудины. Того энтузиазма, с которым грузились в Кандалакше в поезд, здесь при погрузке не было и в помине. Люди устали. Двое суток работали без передышки. Копали котлованы под орудия, под землянки, оборудовали в подвале сгоревшего дома артсклад, а в другом месте – продовольственный и обозно-вещевой склады.
Энтузиазма не было и по другой причине – угнетала неизвестность: где высадимся с нашими тяжелыми пушками, с большим запасом снарядов? Да и опасность почувствовали большую, чем когда бы то ни было. Опасность не ту, что в бою. Любом, даже с танками. Опасность от бессилия. Мы можем обороняться от авиации только батареей МЗА – на каждой барже по две пушки – да зенитными пулеметами. Но боялись не самолетов, хотя основное оружие – «восьмидесятипятки» – накрыло чехлами, на баржах батареи не развернешь. Говорили о минах, плавающих в Онежском озере. Я сначала почему-то не подумал о минах. Услышал о них от пожилых бойцов, говоривших украдкой и встревоженно. Настроение их обеспокоило. Сказал Колбенко. Тот удивил ответом:
– Настроение как настроение. Как у живых людей. Тебе хочется прогуляться на дно Онежского озера? Мне не хочется. Кто нас подберет?
Неприятный холод пронзил от его слов. Ходил утешительный слух, что сопровождать баржи будут военные катера, мечтали даже о минном тральщике, что якобы будет расчищать водный путь. Офицеры знали, какие все это химеры. Онежской флотилии в это горячее время не до нас. Где только нашли трухлявые баржи и два, разные по виду и мощности, пароходика?!
Тот, что тянет заднюю баржу, часто сыплет из трубы искры. Они наверняка далеко видны. Но имеет ли это значение? Самолеты нас заметят с любой высоты, особенно солнечным утром, что придет на смену белой ночи. А мины – слепые. Мина – фатализм, судьба.
Отплыли из Медвежьегорска с наступлением ночи. Хотя какая там ночь! Газету читай. Тогда же радисты приняли сообщение Совинформбюро: освобожден Петрозаводск. Особой радости не выявили. «Ура» не кричали. Свыклись люди и очень устали.
Но добрая весть внесла ясность и дала успокоение: все идет по плану, как стало известно еще в Кандалакше, мы становимся в Петрозаводске. Потому так крепко спят люди в эту дивную белую ночь. Спят в трюме на снарядных ящиках, на тюках шинелей и гимнастерок. Спят на палубе – кто где приладился: под ящиками с песком, под чехлами, которыми покрыты пушки; старшие офицеры – в тесной и душной каюте команды. Я тоже полежал там. Но заснуть не мог. Не спится. От какого-то странно возвышенного и одновременно почему-то грустного настроения – белая ночь тому причиной, что ли? А может, глубоко запрятанный страх: не сонным встретить мину. Увидеть свою смерть. Попытаться сразиться с ней. Я неплохо плаваю, на Днепре вырос. Но кто поможет здесь, кто подберет? Сколько до ближайшего берега? Какова глубина озера? Как долго придется опускаться на дно? Дурные мысли. Гнать их прочь! Никогда же раньше таких не было. Разве в сорок первом, на Петсамской дороге?..
Расчеты МЗА спят тут же, у своих орудий. Спит и дежурный разведчик, опершись на винтовку. Надо уметь спать стоя. Не услышал даже моих шагов. За сон на посту – суровое наказание. Но мне жаль бойца – девушка. Легонько дотронулся до ее плеча. Она встрепенулась. Очень испугалась. Хотела что-то докладывать.
– Ша-а, – прошептал я. – Но не спи, Роза. Не спи. В такую белую ночь они могут прилететь.
– Спасибо вам, товарищ младший лейтенант. Не буду.
Нет, не одному мне не спится. На носу баржи под чехлом, прикрывающим неразобранный дальномер, – затаенный шепот, поцелуи.
– Вася, милый, как я тебя люблю… как люблю… Не бросай меня, родной мой, – словно моленье богу.
– Ну что ты, глупая.
У меня предательски скрипят сапоги, я недавно сшил их у дивизионного сапожника – офицерские, хромовые. Однако парочка не услышала моих шагов.
Я замер на месте, затаив дыхание. По долгу службы я должен выявить этих двоих, нарушителей приказов… А их немало, приказов на сей счет, а еще больше слов – наших, политработников.
Да мне вдруг стало стыдно и за приказы те, пусть они и подписаны самим Сталиным, и за слова свои, а сказал я их столько, что ими, наверное, можно было бы загатить все Онежское озеро. Не впервые… Нет, не впервые меня захлестнула удивительная горячая волна радости от сознания всепобеждающей, неодолимой силы любви, которая здесь, на войне, наполнена особым смыслом.
Было совестно подслушивать, интимные отношения двоих всегда тайна, и тайна эта сохранилась людьми зрелыми, честными, чистыми душой. Но я боялся испугать их скрипом своих сапог. И стоял, зачарованный. Не их поцелуями. Своими чувствами. И мыслями. Я думал о Лиде. Как никогда раньше, мне хотелось вот так же обнять ее, поцеловать… Но попробуй только. Какой шум поднял бы Тужников: комсорг занимается любовью вместо того, чтобы вести упреждающую работу по «выходу из строя» бойцов. Впервые моя воспитательная работа показалась оскорбительной. Есть в ней что-то противоречащее жизни, неодолимой силе ее и как бы помогающее… смерти… Правда, теперь «острота вопроса», как любит говорить Тужников, притупилась. Поумнели и издающие приказы, и выполняющие их. А было же вначале: стращали штрафными ротами. Вспомнился случай, который я часто вспоминаю и за который мне давно уже стыдно.
Быстро, где-то через два-три месяца после того, как в дивизионе появились первые девушки, врач выявила беременность разведчицы из НП. Не помню уже ее фамилии, осталось в памяти имя – Лиза. Никто не сомневался, что «виновник» – командир НП младший сержант Валерий Клубкович, поскольку, кроме него, на НП был еще всего один мужчина – призывник последней категории, не только в отцы годившийся этим девушкам, но и в деды. Да и подружка Лизина выдала их тайну. Но сама Лиза категорически отрицала отцовство Валерия: мол, еще дома был у нее жених. И Клубкович с необычайным упорством отказывался: приказы были суровые, а толковали мы их просто страшно. Боялся парень. Признайся он, и обошлось бы, наверное, дисциплинарным взысканием. Но упорство его всех разозлило: командира батареи, замполита, меня – был я в то время только что избран парторгом батареи. Стыдно вспоминать, как мы допрашивали и девушку, и Валерия. Лизе еще как-то простили: баба есть баба. Клубович злил больше: воспользовался своим положением командира, нашкодил как кот, да еще и не имеет мужества признать свою вину! Исключили парня из комсомола. Хорошо, что тогдашний командир дивизиона капитан Колосов оказался умнее нас. Не дал «раздувать дело», а поспешил тихо сплавить Клубковича в резервный полк; даже исключение его из комсомола не успели оформить. Лиза, вероятно, не особенно понимала разницу между резервным полком и штрафным батальоном и в день отсылки Валерия выдала себя рыданиями, чуть ли не голошеньем, как по покойнику.
А через год или полтора на имя замполита дивизиона пришло письмо из Ярославской области. Писал Клубкович, сообщал, что имеет два ордена, два ранения, по ранению комиссован, приехал на родину Лизы, оформил брак и радуется подрастающему сыну. После такого лирического вступления назвал всех, кто допрашивал его и исключал из комсомола, кто мучил жену, – олухами, дураками, баранами… Словом, эпитетов не пожалел.
История с Лизой и Валерием случилась до Тужникова. Но письмо получил именно он. Замполит любил письма из тыла, умел использовать их в своей политической работе, правда, не столько на практике, сколько для рапортов начальству. Письмо, начинавшееся словами «Товарищ заместитель по политчасти, пишет вам бывший разведчик вашего дивизиона», не могло не заинтересовать, но когда он, не очень разобравшись по существу, дошел до эпитетов, то сильно возмутился. Поскольку в числе других называлась моя фамилия, кликнул меня. Рассказав историю, я попытался оправдать своего земляка. Тужников не понял, оправдания мои ему не понравились: «Либерал ты, Шиянок». Приказал написать в военкомат, чтобы человеку, который так отзывается о своих командирах, «прочистили мозги». Чудак. Больше у военкомата нет работы, как просвещать инвалида, подумал я. И письма конечно ж не написал. Тем более что Колбенко, который тоже позднее появился в дивизионе, письмо Клубковича понравилось, он весело посмеялся: «Хорошо он вас окрестил, только излишне деликатно – «бараны». Баран должен обидеться…»
…На цыпочках, чтобы скрипом сапог не испугать парочку у дальномера, я отошел на корму. Кто они? По голосам не узнал. А зачем? Лучше не знать. Хватает известных мне историй, которые делаются явными от болтливости самих же девчат, да и офицеров иных, и которыми, после таких разговоров, хочешь не хочешь, а вынужден заниматься. Колбенко все «сердечные истории» спихивает на меня: дескать, это дело комсомола.
За кормой шипит и пенится вода. Тут явственно слышишь, что не стоим на месте – плывем. А там, на носу, плыла звезда. Здесь же странная звездочка не плывет, а как бы перескакивает через волны. Зеленый огонек буксира, тащившего другую баржу, потух, и растаяли их очертания. Отстали.
Держась за холодное железо поручней, я, кажется, на мгновение тоже уснул: умел спать стоя не хуже других, как кавалерист в седле. Когда в Мурманске в морозные ночи под полосканье дивных знамен северного сияния высоко в небе мы целую ночь дежурили у орудий, поскольку немцы посылали по два-три самолета, то все научились спать у пушек и приборов в паузах между налетами. Установщики трубок засыпали со снарядами в руках и, случалось, обмораживали пальцы, за что командирам расчетов крепко доставалось: гляди, не спи! А командир не меньше обессилел. Я обычно утыкался лицом в плечо наводчика, тот все-таки сидит, спать ему легче, и просыпается он сразу – от стрекотанья стрелки на шкале азимута; стрелки стрекотали сильно: ПУАЗО на командном пункте, около прибористов – начальство, их будившее, и они дергали ручки прибора.
Да, я заснул, какой-то миг ничего не видел. Но услышал, что рядом со мной кто-то стал. Я, конечно, проснулся, но казалось, сплю и вижу сон: рядом стояла Лида. Там, на носу, я подумал о ней, и мне захотелось, чтобы она была со мной, как та девушка со своим любимым. И она пришла в мой сон…
Она прошептала, как мать ребенку:
– Спи!
Какой сон?! Я удивился:
– Лида?!
– Тише ты.
Она сжала мой локоть, и прикосновение ее разлилось по всему телу волнующей теплотой.
Я подумал, что, если ей не спалось, она думала про меня, следила за моими скитаниями по палубе в сонном царстве, и это взволновало меня до дрожи. Я должен сказать ей что-то особенное, что-то такое… Но что? Нет у меня таких слов. Я спросил то, что ясно и так:
– Тебе не спится?
Она тихонько засмеялась.
– Давай постоим и помолчим. Посмотрим на ту звездочку в воде.
И все? Да нет! Нет! Это, может, единственный случай, когда я могу… должен сказать тебе что-то необыкновенное, особенное, от чего наверняка зависит судьба твоя, моя… Я ищу слова. Я мучительно ищу такие слова. Но их нет. У меня на плечах шинель, но я чувствую озноб. От холода? От нервного возбуждения? От холода. А она же в одной гимнастерке.
– Тебе не холодно?
– Накрой меня шинелью.
Я набросил ей на плечи шинель, но ее не хватает на двоих, она стягивается с моих плеч. Лида поправляет ее так, что мы оказываемся под одной шинелью, теперь ее хватает. Странно. Ее плечо прижато к моему. Я обнимаю ее, чувствую под рукой худенькие, как у девчонки-подростка, лопатки, по спине её пробегает дрожь.
Стало вдруг жарко: словно я очутился в теплой воде озера и плыву вслед за сказочной звездой, догоняю ее, но не могу догнать, и становится грустно, что я никогда не догоню ее, звезду. А где-то, как бы надо мной, на поверхности, в пространстве, совсем реальные мысли – слова Колбенко: «И люби, Павлик. Плюнь на все наше ханжество…» Ах, если бы можно было так! Все это могло бы случиться полтора года назад, как только Лида прибыла в дивизион. Мы же подружились тогда. Она – моя землячка, из-под Рогачева. Мы учились в одном техникуме – индустриально-педагогическом, только я был на последнем курсе, а она – на первом, тогда я, естественно, не обращал на нее внимания. Но сразу узнал: «Вы в Гомеле не учились?» – «А я тоже думаю: вы или не вы? Шиянок ваша фамилия, да?» – совсем по-граждански, очень обрадованная, что в лице командира взвода встретила земляка, говорила она больше, чем позволено в строю, смущая меня перед комбатом, перед коллегой – командиром взвода управления, старшиной Лысенко, осматривающим новое пополнение хмуро, недовольно: «Много хлопот с бабским войском».
Командир взвода, я ни в чем не переступил субординации: настоящий служака! Разве что сам себе признавался, что девушка нравится мне. А должность комсорга давала возможность вести душевные разговоры. И мы часто вспоминали с Лидой родную Белоруссию. Рассказывала, как они, студенты, работали на оборонных сооружениях вокруг Гомеля, как защищали город наши войска и ополченцы, сколько ужасов она натерпелась при эвакуации. А родители, братья, сестры где-то в деревне между Рогачевом и Бобруйском. Что с ними? А что с моими на другом берегу Днепра? В дивизионе немало белорусов, и перед каждым стоял мучительный вопрос: что там с родными? Правда, теперь я знаю, что мать и отец мои живы, отец партизанил. А Лида ничего еще не знает. Как раз в эти дни идет освобождение ее родных мест. Как она, бедняжка, волновалась, когда пришла весть о начале большого наступления в Белоруссии. А мы приближаемся к родной земле. По железной дороге, по озеру. Может, потому волнуется она и не спится ей.
– Ты не боишься, Павел? – Чего?
– Мин.
– Зачем им было ставить здесь мины?
– А я боюсь. Никогда не боялась. Ни самолетов, ни бомб. А сегодня боюсь. Погибнуть, когда… Когда мой Грибовец, может, уже освобожден. И мама… мама живая. И ей напишут. Что о нас, утонувших, напишут?
– Лида!
– Не буду. Это я так. Не думай. Я не трусиха. Просто умирать не хочется. Давай помолчим. Так хорошо с тобой. Тепленько под твоей шинелью. Так тепленько, что и вправду страшно очутиться в воде. Смотри, как ныряет звездочка. Одна. Другие такие тусклые. Едва видны.
Мы долго молчали. И, наверное, молчанием сказали больше, чем неуклюжими, несмелыми словами. Правда, думал я: что скажет Тужников, когда ему донесут (многие, видимо, не спят!), что комсорг стоял вот так… под шинелью грел комсорга батареи. Но странно – боязно не было. Наоборот, весело стало. Я надеялся на защиту Колбенко. Тужников не очень любил Константина Афанасьевича, но считается с ним.
Оглушенный звоном крови от девичьей близости и смятенными мыслями, я не услышал, как с другой от меня стороны остановился человек. Услышала Лида, мышкой юркнула из-под шинели и моментально исчезла за снарядными ящиками.
Я тут же узнал неожиданного свидетеля моей «крамолы». Узнал до того, как повернулся и всмотрелся, – по запаху лекарств: врач дивизиона капитан Пахрицина! А ей почему не спится? Чего она бродит по барже? Такой свидетель, пожалуй, самый нежелательный. Кто-кто, а она не смолчит. Баба въедливая, не по-женски грубая, несдержанная на язык. Правда, офицеры относились к ней по-разному: одни издевались, посмеивались, другие жалели. Иронизировали над ее влюбленностью в Шаховского – человека загадочного: инженер-электрик, ученый, кандидат технических наук, а похваляется своим княжеским происхождением, будто служит в царской армии. Ходили слухи, что перед войной он сидел в тюрьме. За что? За свое происхождение? Но может, потому и подчеркивает титул, что прапрадед его был декабрист. Шаховскому все верили: серьезный офицер, образованный. Один Кузаев почему-то сомневался в его титуле, хотя очень ценил за технические знания. А Колбенко удивил меня, заявив, что сидел «князь» не за происхождение – за ум.
Жалели Любовь Сергеевну – «обижена богом»: во всем женщина как женщина – ладная, стройная, подвижная, остроумная, правда, язвительно остроумная, а лицо побито оспой. Из-за оспы и прощали ей ее злословие, грубость все, кто относился к ней доброжелательно. Кузаев, Колбенко…
Мое отношение к Пахрициной было двойственным. Когда-то, еще в звании старшины, пришлось лежать в медсанчасти с фурункулезом. Она вскрывала скальпелем фурункулы и… грубо шутила. После этого я почему-то боялся ее. Потом, получив офицерское звание, я как бы сравнялся и позволял себе не вытягиваться перед ней – подумаешь, врач! – и даже пошутить на ее счет, хотя была она на целых двенадцать лет старше меня. Правда, за шуточки свои я всегда был «бит»: она умела отвечать остроумнее. Но это меньше смущало, куда важнее было чувствовать себя ровней властной женщине, с самим командиром дивизиона дерзко спорившей.
С некоторым страхом и любопытством ожидал я шутки врача насчет девушки, шмыгнувшей из-под моей шинели. Пахрицина молчала. Странно. Неужели сделает вид, что ничего не видела? Не похоже на нее. Я знал, какая она безжалостная к слабости своих сестер, которых ей приходится комиссовать и отправлять домой. Я настраивал себя на дерзость. Если она не узнала Лиду и начнет допытываться кто, выскажусь о ней и Шаховском.
Этого она не любит. Пусть потом кричит хоть на всю баржу!
Но военврач неожиданно спросила о другом:
– Что за звезда? Такая яркая в такую белую ночь? Планета?
– Не знаю, Любовь Сергеевна.
Сам удивился, что назвал ее просто так, по-граждански.
И она, видимо, удивилась. Повернулась, всмотрелась мне в лицо.
– Всю войну мы смотрим в небо и… не видим звезд, не знаем их. Мы видим кресты. Черные кресты.
Потрясли ее слова. И как-то изменили представление о ней: не такая она жестокая и грубая, как представляется в службе своей. Нет, не сразу вот сейчас изменилось мое отношение, еще вчера я задумался о Пахрициной.
С батареи Данилова я пошел в санчасть навестить несчастного Рослика. Было еще не ясно, где займем постоянные позиции, если обоснуемся в Медвежьегорске, поэтому тыловые службы размещались во временных помещениях, и медчасть по-походному раскинулась в лесу, подальше от станции, поскольку станция была пока единственным объектом, достойным внимания вражеской авиации.
Пахрицина встретила меня неприветливо. Видимо, уже с кем-то успела поскандалить – была мрачная, кричала на фельдшеров, санитарок.
На мое пожелание увидеть Ваню ответила почти зло:
– А зачем вам видеть раненого? Учили б лучше! Меньше калечились бы. Непростительно в наших условиях. Мало выходит из строя на передовой…
Она сказала суровую правду, от которой и у меня появилась вдруг ответственность за руку Рослика, так же как чувствовал ее Хаим Шиманский. Что-то я не доработал с парнишкой.
– Товарищ капитан! Кроме устава есть душа. У меня – душевная потребность увидеть этого несчастного парня, пока он у нас…
Она посмотрела мне в глаза как будто удивленно и молча повела в палатку. После яркого солнца в палатке, хотя она и была раскрыта, стоял полумрак, пахло не медициной – лугом, провяленной травой.
Ваня Росляков лежал на земле, на матрасе, накрытый одеялом – такой маленький, что, казалось, тела там нет, просто одеяло чуть смялось. Присутствие человека выдавало белое, как наволочка подушки, лицо, да еще белые бинты на перевязанной руке.
По неуловимому его движению и расширившимся зрачкам я понял, что Ваню напугал наш приход. Испугало его и то, что я стал перед ним на колени. И он вдруг спросил:
– Меня расстреляют?
Спросил, кажется, спокойно, без страха, но мне стало жутко.
Я схватил его голову, приподнял с подушки.
– Ваня! Кто тебя расстреляет? Весь же расчет видел, что это несчастный случай. Сержант видел. Весь расчет!.. И девчата – за тебя.
– А лейтенант кричал…
– Лейтенант – дурак! – Не мог я удержаться, чтобы не дать Унярхе заслуженного определения.
У парня покатились слезы. Он стеснялся их, утирал рукавом здоровой руки. Кажется, пытался даже усмехнуться – в знак благодарности, наверное. Наконец прошептал:
– Товарищ младший лейтенант. Передайте всем: я их никогда не забуду. Никогда.
– Поправляйся, Ваня. Выздоравливай. И ни о чем не думай.
Поднявшись, я увидел врача у входа в палатку. Я подошел: она платочком вытирала глаза. Строго мне приказала:
– Не смотрите. Я – сентиментальная баба.
А когда мы отошли от палатки, вдруг сказала:
– Вы ничего не заметили. Ничего. А я… я поняла сразу, что он подготовился к скорой смерти. Я немало видела больных, готовивших себя… Но тут другое. Готовится ребенок… к такой смерти. Он ни разу не застонал, когда я ампутировала ему раздробленные пальцы. И потом. Ни разу. Он был там… За гранью… Неужели все это мы когда-нибудь забудем?
А когда я распрощался и пошел, Пахрицина догнала меня, спросила:
– Зубров не явится? Я понял ее тревогу.
– Я скажу Колбенко, Кузаеву…
Вчера Ваню отослали в Беломорск, во фронтовой госпиталь.
И вот снова доктор удивила меня – словами о звезде и… крестах. Конечно, она имела в виду кресты на крыльях «юнкерсов», «мессершмиттов». Но как сказала!
Мне вдруг захотелось поблагодарить ее. За что? За Ваню? За деликатное молчание насчет Лиды? И за слова, за потаенный смысл их – как в стихах. Но слов благодарности я не находил. Хотелось положить свою руку на ее, лежащую на поручне совсем рядом с моей, легонько пожать ее или погладить. Но поймет ли она? О мальчишеском ухаживании, конечно, не подумает. Но хуже всего, если заподозрит мою жалость – за оспу. Такая жалость оскорбительна, хотя офицеры нередко высказывали ее в разговорах между собой. У меня раньше подобного чувства не возникало. А тут вместе с благодарностью появилась и она, жалость.
Да, хочется сказать что-то особенное. Что? И вдруг решил: самое лучшее – честно признаться, она поймет. Я поверил, что Пахрицина не пошутит насчет нашей с Лидой дружбы. После слов о звезде и крестах – разве можно? Тут она примет серьезно. Но какое-то мгновение колебался: раскрывать ли имя?
– Девушка… – я натянул глубже шинель, давая понять, о ком хочу сказать.
Но Любовь Сергеевна прервала.
– Не нужно, Шиянок. Лучше думать, что у тебя есть своя тайна. Лучше думать так.
Это не похоже на слова Колбенко. Странно: доктор за тайну!
И вдруг своеобразно раскрыла свои чувства, наверное, слышала Лидины слова:
– При погрузке все боялись мин, однако все так крепко спят. Сон сильнее страха.
– Люди измучены.
– А я ничего не боюсь, но мне не спится. Однако пойду, попытаюсь уснуть. А вы намерены любоваться звездой? Скоро она погаснет. Смотрите, как разгорается небо. Наступит день, взойдет солнце. Такое ласковое. А его заслоняют кресты… Вы видели мины? На них тоже кресты?
Холодновато стало от второго напоминания про кресты. Невеселое настроение у доктора. Стало жаль ее, но уже совсем по другой причине – из-за ее, по всему видно, душевных мук. Их причина, конечно, всенародная трагедия, что продолжается четвертый год. Но теперь уже скоро. Скоро! Вон как стремительно наступаем! Их много, крестов. Как их много по всей нашей земле! Однако в такую ночь не о них думается. Не о них. О жизни.
С этими мыслями я забрался под чехол в нишу между снарядными ящиками, почему-то нарочно в самое опасное место, там никто не примостился на ночлег. Каждый хотел быть подальше от снарядов. Хотя что значит дальше на одной трухлявой барже?
Засыпал я с удивлением, что не помню, есть ли на минах кресты.
А видел же их в Кольском заливе. Но их не поднимали. Их расстреливали в воде.
– Тре-е-во-о-га!
Слово это впервые испугало четыре года назад, в мирное время, в тихую полярную ночь. Прошло недели две всего, как нас, безусых мальчишек, привезли в Мурманск, обмундировали, у кого среднее образование, тех зачислили в учебную батарею, познакомили с воинской службой и ее суровой (очень даже суровой в то время) дисциплиной, привыкать к которой вчерашним студентам, учителям, техникам было ох как тяжело. Но что особенно действовало – ежедневное напоминание командиров, что мы – не учебный, не резервный, как какие-то пехотные или артиллерийские полки в Рязани, Саратове или даже в Минске и Виннице, а боевой дивизион, которому доверено прикрывать с воздуха конкретные объекты: порт, железную дорогу, аэродром, электростанцию. Важность, значительность объектов выработало чувство огромной ответственности у каждого из новобранцев: как много нам поручено! О том, что прикрыть объекты такого масштаба в радиусе почти трех десятков километров тремя батареями семидесятишестимиллиметровых орудий, пулеметной и прожекторной ротами – нереально, об этом не мог сказать никто из командиров, да и никто из нас, реалистов и даже в определенном смысле скептиков (пока не выбило наш скепсис), так не думал. Это мы, оглушенные, ошеломленные, поняли через восемь месяцев – в воскресенье 22 июня.
Уверенность придавал полк истребителей И-153, И-16, которых прикрывали мы и которые в свою очередь должны были прикрыть те же объекты – встретить вражеские самолеты на подходе к Мурманску. Без тени сомнения верили мы в силу нашей артиллерийской техники, самолетов, как и в силу всей Красной Армии. В собственное бесстрашие верили. И вдруг вместо привычного «Подъем!», который вскидывал нас с тесных нар как пружины, среди ночи, когда самый крепкий сон, – зловещее, страшное: «Тревога!» Дневальный курсант крикнул испуганно – до срыва голоса.
Потом над этой первой тревогой немало смеялись: один курсант выскочил без штанов; без гимнастерок, без портянок, без ремней – многие.
Я выскочил к орудию не в самом смешном виде, кажется, только портянки засунул за пазуху, над чем старшина незло пошутил. Но на всю жизнь запомнил, как колотилось сердце, до обморока, и как гадко, постыдно, кажется, на всю позицию, клацали зубы и предательски бренчало подо мной сиденье наводчика.
Было морозно. На берегу Туломы трещали штабели бревен. В небе полоскались огромные полотнища полярного сияния. Их резали сабли прожекторов – тревога общедивизионная. Все казалось зловещим. Не стало красоты, которой я, романтик, любовался в предыдущую ночь, стоя на посту.
Потом несчетное количество раз звучала учебная тревога. Три года днем и ночью поднимает пугающее слово для встречи вражеских самолетов. Ко всему можно привыкнуть. Воют над головой пикировщики, свищет фугаска – не скажешь, что не страшно (умирать всегда страшно), но как-то привычно: на войне – каждому свое. А вот когда, сонного, будил пронзительный этот крик – «Тре-е-во-о-га!» – повторялось в какой-то степени то давнее ощущение; во всяком случае, пока не окажешься на своем боевом посту, так же предательски стучит сердце. В последний год, став комсоргом, я отвык от крика: штабные службы поднимали по боевой тревоге ревуном. Почти все не любили этот противный «бычий рев», высказывались за батарейную форму – за голос разведчика, мол, человеческий голос поднимает мягче. А я думал иначе. Ревун не пугал меня.
И вот снова оно – зловещее для меня слово «Тревога!».
Не сразу сообразил, где нахожусь. Привычным движением сбросил шинель, чтобы подхватить ее на лету и тут же надеть, но руки, одна, потом другая, наткнулись на стены. И над головой темно, странные, как щели, просветы. Только ощутив на ногах сапоги, вспомнил, где я – между снарядными ящиками.
Все стояли на палубе баржи, не в строю – вроссыпь, кто где, и смотрели в небо. А оно было удивительным. Нет, там, куда вглядывались люди, – на западе, оно не было таким прекрасным: обычная утренняя, как бы немного в дымке, голубизна. Дивным небо было на востоке: яркий багрянец над самым горизонтом плавно, неуловимо мягко в вышине переходил в цвета, которым и названия, наверное, нет, – синь с алым, тонкий фиолет, розово-серый, необычная голубизна – в зените.
Почему-то я один посмотрел в другую сторону – не туда, куда все. Но поразило меня не небо. Берег. Он явственно проступал синей стеной на фоне багрянца, разлитого восходящим солнцем. Восточный берег! Вологодский. Значит, мы шли все время вдоль восточного берега? Капитаны буксиров знали, где меньший риск наскочить на мины.
Странно, близость берега успокоила, хотя потом, рассудив, я усмехнулся над своим внезапным ощущением: какая близость? Километров пятнадцать, не меньше! Кто доплывет?
Наконец я повернулся туда, куда смотрели все. И сразу нашел то, что приковало внимание, – белую полосу тепловатого следа. Она медленно расплывалась и почти не таяла – там, в небе, было так же тихо, как и здесь, на земле… нет, на воде: впереди, за буксиром, озеро как зеркало. Привычная алюминиево-блестящая птица, ярко освещенная солнцем.
Близкой опасности не было. Шел разведчик. Куда? В глубокий тыл? Или изучает озеро – что на нем? В таком случае мы явно станем мишенью, на которую он наведет бомбардировщиков.
– А может, это свой? – услышал я девичий голос; в надежде уловил тот страх, который спросонья ощутил сам.
Надежда, что самолет свой и утренний сон прерван напрасно, была не только у той невидимой для меня прибористки или связистки, а может, кухарки, но и у офицеров. Они столпились вокруг Кузаева и переводили взгляды с далекого самолета на Шиманского. Давно знали: у командира орудия необычайный слух, уши летучей мыши; когда большинство еще вообще не слышало моторов, Хаим определял по шуму марку самолета. Ошибался редко.
Но сейчас и он, немного смущенный, пожимал плечами. Самолета не было слышно. Прозрачность утреннего воздуха создавала оптический обман. Это тоже успокоило немного: из такой дали разведчику нелегко рассмотреть нас. Он – на фоне неба, в лучах солнца, мы – на фоне темной воды и пока еще в тени.








