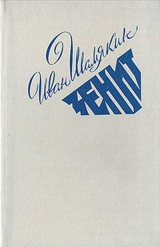
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
Зачем мне под старость такие нелепые причины для тяжелой бессонницы?
Позавчера поговорил с Глашей – и вроде стал меньше переживать. Вали мало, Зоси мало. Нужна была еще Глаша со своим поразительным оптимизмом. Что она сказала? В голосе ее прозвучало удивление:
«У тебя муки? Душевные? – И после Валиного сообщения про кафедру: – Насколько мы, бабы, мудрее!» Все!
В бессонную ночь еще раз прокрутил, как за нами гонялся «мессер». И стало мне, как Глаше, когда она прочла похоронку, до сердечной боли, до слез жаль Старовойтова. И стыдно, что когда-то при первом знакомстве я нехорошо подумал о нем – офицерский, дескать, гонор. Очень захотелось узнать, как он погиб. Через сорок лет? Кого найду? Части не знаю, в которой он воевал.
Как погиб – не узнаю. А в Калининград поеду и найду его фамилию на одной из плит среди десятков тысяч имен.
В Петрозаводск, на могилу Лиды, я ездил дважды. Первый раз Валя молчаливо ревновала. А прошлым летом поехала вместе со мной. И разрыдалась там.
«Что тебя расстроило, Валя?»
«Могила запущена, – объяснила она, хотя причина явно была иная, более глубокая, ее, причину, жена и потом не сказала мне; там упрекнула: – Как ты мог?»
Прожили мы в городе, где я мало что узнавал, неделю и установили на могилы новые плиты. На две могилы…
7
Позвал меня командир дивизиона и вручил два билета в театр. Преподнес сюрприз. Жизнь быстро обновлялась, и в столицу республики вернулась труппа музыкальной комедии с примой Калининой. Мой земляк Леня Френкель, музыкальный парень, буквально стонал от желания послушать Калинину. Помнили певицу и Муравьевы, даже Анечка, у них дома была граммофонная пластинка с ее песнями.
И вот мне счастье – присутствовать на открытии театра.
Доброта Кузаева не удивила. Неделю назад и к нему приехала жена, и он с ее приездом удивительно подобрел.
Как изменяет человека счастье! Удивил его неожиданный приказ:
– Пригласи девушку. Самую красивую. На твой вкус. Посмотрим, кто тебе нравится.
Шутит командир? Последнее время он часто шутит. Я недоверчиво посмотрел на него: влипнешь с этими шутниками; он добрый, а Тужников потом будет распекать.
– Что ты глядишь так? Я, брат, не шучу. Не вздумай отдать билет плясуну Френкелю. Только с девушкой! Это приказ. И если хочешь знать, не мой – генерала, начальника гарнизона.
Чудеса, да и только! Переходим на мирную жизнь? Она уже ощущается при нашем штабе – с приездом Муравьевых, Кузаевой. С 1 сентября начался учебный год. И я каждое утро с умилением и каким-то незнакомым до того волнением смотрю, как Мария Алексеевна со старшей дочерью, обе с клеенчатыми портфельчиками, бегут в город, в школу, мать учительствует, а дочь пошла в третий класс.
Сказал о своем волнении Колбенко. Он ответил совершенно серьезно:
– Жениться тебе, Павел, пришла пора. Потому волнуют дети.
– Какая женитьба, Константин Афанасьевич! Шутите!
Согласился:
– Да, пока что не до женитьбы. Хотя, если нас продержат здесь до конца войны…
Не договорил, что в таком случае может произойти. Переженимся?
Я видел, как с появлением чужих детей парторг затосковал по собственным. Раньше так не чувствовалось. Анечка Муравьева стала его лучшей подругой. Деликатный Иван Иванович считал неприличным присутствие дочери в штабе, хотя малышка все равно весь день крутилась там, ее опекали Женя, телефонистки. Шла веселая игра: спрятать девочку от отца, выставлявшего ее из помещения штаба, и от строгого Тужникова, которого Анечка хитро и потешно дразнила. Правда, у майора хватало ума не злиться на ребенка. Аня нашла пристанище у нас, в партбюро. Сообразила, что Колбенко никто не отважится делать замечания, даже придирчивый майор. А нам с Константином Афанасьевичем хорошо работалось над докладами и донесениями в политотдел, когда в уголке на полу, смешно сопя носиком или тихонько, шепотом, разговаривая с призрачными персонажами, Анечка рисовала почти натуральные зенитки и страшные немецкие самолеты, из которых, как горох, сыпались убитые фашисты. В творчестве ее преобладали три темы: война, мама и цветы. Колбенко восхищали ее рисунки. Он даже загорелся показать выставку их на батареях.
Парторг сохранял их, рисунки на тему «мама», и отдавал Марии Алексеевне. Та смущенно благодарила.
– Боже мой! Как мне неловко. Анечка превратила вас в няньку.
Начальник штаба тоже горевал:
– Избалуете вы, Константин Афанасьевич, и вы, Павел, нам Анюту. Вы не знаете детской психологии. Они – гениальные хитрецы до определенного возраста.
Но именно детская хитрость больше всего и забавляла огрубевших солдат.
Из-за Анечки у меня произошел конфликт с человеком, с которым я служил с сорокового года на одной батарее, когда-то, можно сказать, дружил, – с Кумковым, начальником обозно-вещевого обеспечения.
Муравьев, человек необычайной скромности, делил с детьми свой паек. Он не мог попросить более того, на что имел право. Рассчитывал только на свой паек да на карточки жены-учительницы. Но и Кузаев, и любой из нас считал своим долгом накормить детей, столько голодавших. Конечно, официально на довольствие не поставишь. Но командир через меня – мне доверил – дал поварам указание: наливать начштаба так, чтобы хватало на всю семью. И те старались, Муравьев даже начал протестовать. Ни Мария Алексеевна, ни Валя в штабной столовке ни разу не появились. Завтрак еще до подъема приносил сам Иван Иванович, за обедом и ужином неизменно ходила Анечка.
И вот однажды встретил ее у столовой с котелком.
– Взяла кашу, Анечка?
– Взяла, – грустно ответила девочка.
– Подожди! А голос почему такой?
Вечер холодный, дождливый. Старенькое пальто старшей сестры было ей до пят. Маленькая, хрупкая фигурка у солдатской кухни напомнила мне о тех сиротах – сколько их на нашей земле! – что ожидают кусочка хлеба, черпака борща. И хотелось крикнуть на весь свет: «Солдаты великой армии! Разделите с ними свой хлеб!»
– Анечка! Что случилось?
Девочка потупилась и долго не отвечала. Наконец прошептала:
– Мало.
– Каши мало?
Я заглянул в котелок. Три ложки на дне. Такую порцию в офицерской столовой накладывает себе разве что Пахрицина. Неизвестно почему доктор морила себя голодом. Злые языки издевались: «В княгини готовится».
– Кто давал?
– Дядечка Кум.
Я выхватил котелок, бросился в пустую столовку. Да, дежурный по кухне Кумков. И я сразу сообразил, за что дружок мой решил так низко, так подло отомстить Муравьеву: начштаба еще в Кандалакше выявил у Кума недостаток девичьих сорочек и еще чего-то; покрутился он тогда, просил меня поддержать его при рассмотрении дела на партбюро; отделался выговором.
В гневную вспышку мою подлила масла ситуация, в которой я застал Кумкова: он и повар сидели за длинным столом и уплетали американский бекон.
Я схватил Кума за грудки.
– Тебе каши детям жаль? Сукин сын! Ворюга! Наел морду! Беконы жрешь!
Вероятно, мы бы сцепились всерьез, если бы не Анечка. Она закричала сзади, испуганно, как взрослая:
– Павлик! Не надо!
Кумков написал рапорт. Утверждал, что я ударил его. Записали бы мне выговор, несмотря на сочувствие и поддержку всех членов партбюро, да повар – честный солдат! – опроверг измышления младшего лейтенанта Кумкова. Но и так Тужников хватался за голову и стонал:
– До чего дошли! До чего дожили! Комсорг хватает своего товарища за грудки.
Колбенко, правда, ответил ему:
– А ты не схватил бы? А я схватил бы. Да и не так.
– Анархисты, – сказал замполит, вдруг успокоившись. Анархистами он называл нас не впервые. Меня обижало, а Колбенко усмехался.
Так кого пригласить в театр? Ванду? Логично. Ей только что присвоили звание младшего лейтенанта. Мы теперь равные по положению. Офицер пригласил женщину-офицера. Естественно. Даже строгому моралисту Тужникову не к чему будет придраться.
Ванду? Но эта бесстыдная полька и без того раззвонила на весь дивизион, что она моя невеста. Вот язык! Слова не сказал, что могло бы послужить каким-то основанием, зацепкой. Руку не пожал так, как жмут девушке – с нежностью, волнением.
Недоумевал и был оскорблен: будто взяла и присвоила как бессловесную вещь. Да и приказ командира был: «Самую красивую. Посмотрим, какой у тебя вкус». Мол, распоряжение генерала. Странный генерал! Хочет устроить конкурс красавиц?
А Ванда – подумаешь, красавица! Но тут же устыдился: зачем хаять девушку, которой, возможно, нравлюсь? Она по-своему красивая. Во всяком случае, внешностью не посрамит мужчину рядом, будь он хоть генерал. А вот бесцеремонностью, языком своим может поставить в неловкое положение.
Счастливому Кузаеву легко шутить. А замполит может ко всему прицепиться. Не знает командир, как его заместитель высказался про жен. Дня через три после приезда Кузаевой подал рапорт командир третьей Савченко с просьбой позволить ему вступить в брак с младшим сержантом Мусаевой, приложил к рапорту официальный документ о разводе с первой женой.
Я принес замполиту сочиненное мною и напечатанное Женей на машинке очередное донесение. Писать их стало тяжело: нет боев, мирная учеба людей, давно обученных боевым огнем. Как игра. Приходится действительно сочинять – расписывать малозначащие факты.
Просматривая мои фантазии, вычеркивая высокие ноты, что делал редко, Тужников протянул мне рапорт Савченко.
– На, читай. И завидуй. Командир – за. Скоро я тебя назначу на новую должность.
Я встрепенулся: что еще за новости? Никакой другой должности мне не надо! Эту люблю.
– Знаешь, на какую?
– На какую?
– Начальником детских ясель. Как раз для тебя служба. Слезки будешь им утирать, как их мамам утираешь. Сказочки рассказывать… Сочинять ты умеешь…
Тужников нередко шутил грубовато, однако я свыкся, не обращал внимания. Но эта шутка обидела. Как только удержался, чтобы не ответить майору непочтительно? И на Колбенко обиделся: когда пожаловался ему, он захохотал. Что тут смешного?
Возможно, именно тужниковская «шуточка» настроила меня на полный протест в решении нелегкой задачи – кого пригласить в театр. Нет, не черноокую польку! А «купанную в молоке финку», как о ней сказал однажды сам Кузаев. Лику Иванистову! Никто не скажет, что у меня плохой вкус. Завидовать будут. И пусть завидуют! Даже если потом Тужников и пошутит вроде того, как с яслями, бог с ним, за такую девушку можно любую шутку вытерпеть.
Была еще одна причина. Неделю назад Лика получила письмо от отца. С какой радостью она сообщила мне о нем. По телефону. А когда я пришел на батарею, прямо у дальномера, в присутствии Данилова и Масловского, совсем по-деревенски, не стесняясь, достала письмо, спрятанное на груди, и, пунцовая от радости, протянула мне. Я понял, зачем она так «гласно» показала мне письмо – чтобы я сказал Зуброву. С капитаном у меня хорошие отношения. Он любит историю, и я люблю, и мы как бы соревнуемся, кто знает больше исторических фактов. Часто спорим, толкуя их каждый по-своему. Споры наши любит любознательный Кузаев, сам подбивает на них за обедом или ужином: «Что-то историки молчат» – или: «А что сказал бы на это Кутузов? А ну, историки!»
В спорах я нередко звал в арбитры эрудита Шаховского. Зубров его авторитет не признавал:
«Не марксистские у него трактовки».
«Он же наш институт окончил».
«Власов нашу военную академию кончал».
Такие сравнения, брошенные Зубровым как бы походя, между прочим, странно смущали, я не знал, что ответить на них. Это не позиции войск Петра I и Карла XII под Полтавой, предмет наших споров.
Зубров мог и не так смутить.
«О чем девчата еще говорят, кроме того, что ты пишешь в донесении?»
«О женихах».
Без удивления, без неудовольствия, как бы в шутку:
«Будешь дипломатом. Только не советским».
Как обухом по голове.
Реакция капитана на мое, естественно, радостное сообщение о письме отца Иванистовой, о том, что он – полковник инженерных войск на Первом Белорусском, тоже смутила и ошеломила:
«И ты?! Смотри ты, конспиратор! От меня таился. Обскачи любителей клубнички. Желаю успеха».
«В чем?»
«Не прикидывайся ягненком, Шиянок. В этом деле все мы – коты. Не посрами род мужской. Финночка-малиночка. Играет недотрогу. Но это ненадолго».
Оскорбился я – за Лику, за себя. Но возмутиться не посмел. А потом три дня ходил как оплеванный. Противен был сам себе.
Возможно, и зубровская «шутка» повлияла на мой выбор, кого пригласить в театр.
Конечно, сначала я заглянул к командиру батареи. Данилов удивился моему приходу в конце дня. Сам он собирался на КП дивизиона: Кузаев оставлял его вместо себя.
– Что тебя принесло?
– Заберу у тебя бойца. На вечер.
– Куда?
– В театр.
– В театр? – Нет, Данилов не удивился, он как-то сразу подозрительно насторожился: – Кого тебе дать?
– Я сам выбрал.
– Сам? Кого?
– Иванистову.
– Лику?
С непонятной ревностью я подумал: «Для него она – Лика. О Саша! Сейчас ты будешь возражать. Но я опережу тебя».
– Командир приказал взять самую красивую девушку.
– Ты считаешь ее самой красивой?
Голос странно приглушен – чуть ли не до шепота, но в приглушенности его я уловил что-то незнакомое, чего у самого голосистого командира, хорошего певца еще не слышал. Что это? Затаенная угроза? Цыганский гнев?
– А ты не считаешь?
В потемках барака всмотрелся ему в лицо и… кажется, отступил, испуганный. Глаза его горели как у ночного хищника, а смуглые скулы неровно и некрасиво напряглись, будто он набил рот неразжеванными яблоками.
– Для меня она – как все другие. Боец! Номер дальномера!
Врешь, цыган! Почему ты забегал по тесной комнате, как тигр в клетке? И вдруг зло выругался.
Неожиданная и грубая брань удивила, ошеломила.
– Ты на кого так?
– На кого? На кого? – Данилов слепым танком двинул на меня, готовый, кажется, сбить с ног. – На вас, штабных крыс! Довоевались! Обабились! По театрам разгуливаете!
Первый раз за всю войну выпало такое счастье – сходить в театр, а он, умный офицер, протестует. Я тоже разозлился:
– Разгуливаем? Х-ха! Кто когда в нем был – в театре? Думай, что говоришь, Саша. Люди услышат.
Но слова мои не укротили его, а, пожалуй, еще больше разъярили. Голос сделался совсем глухим, как сквозь стену, но не менее гневным:
– Твой «стрелочник»… твой вонючий князь!.. – Ну, это уж слишком! – И этот… барабанщик, моралист… – не обошел и Тужникова. – И вождь твой… Кто из вас подумал пригласить хотя бы одного командира батареи, взвода? Ни один не приглашен. Ни один! Я звонил Савченко, Антонову… А штаб весь идет!
«Неужели ты разошелся из-за того, что не приглашен? – подумал я. – Нет! Ты не из тех. Не крути, цыган!»
– Да еще дай им девчат покрасивее…
«Вот это ближе к истине. Выдаешь ты себя, Данилов».
– А я – сохраняй полную боевую готовность…
– Из-за отсутствия дальномерщицы в осеннюю ночь батарея утратит боевую готовность?
Данилов словно споткнулся, остановился, всмотрелся в меня. Послал далеко-далеко…
– Пошел ты!.. Меня оставляют вместо командира дивизиона…
– Не бойся. Налета не будет. В такую пасмурную ночь…
– Я боюсь? Я боюсь?! – Скрипнул зубами. – Да вы все в штаны наложите, пока я вздрогну хоть раз. Стратеги дерьмовые! Не будет! Получил данные из ставки Гитлера? За выход Финляндии из войны немцы шалеют, готовы укусить где хочешь. В любую ночь. ДБ [8]8
Дальние бомбардировщики.
[Закрыть]могут прийти из Прибалтики, из самой Германии…
«Боишься ответственности? Нет. И тут не верю. В любой другой ситуации остаться вместо командира дивизиона ты посчитал бы почетом. Парень ты самолюбивый. Все-таки – Лика».
Убежденность в этой догадке встревожила меня. Непонятно почему, но стало боязно и за Лику, и за него, Алеко: не дай бог, закипит у него цыганская кровь – наломает дров; как отец его. Переключусь на Таню Балашову. Хорошенькая же кнопочка. И веселая. Можно только представить, сколько подарю ей радости. А сколько потом она выдумает самых невероятных историй и о театре… и о моем отношении к ней! Последнее как раз и сдержало: Таня может насочинять такого, что не оберешься, как от репья.
Да и Данилов, неожиданно взорвавшись, так же неожиданно и затих – выдохся, как летний ветер, что столбом поднял пыль в небо, скрутил колосья, перевернул телят, разбросал гусей, но миг – и ничего нет, даже пыли, куда что подевалось.
Данилов молча надел шинель, подпоясал ремень с пистолетом. Мое присутствие как бы игнорировал.
– Так можно взять Иванистову? Буркнул:
– У тебя же приказ командира дивизиона.
– Спасибо.
Повернулся ко мне, лицо его обрадовало: нормальное лицо – красивое, веселое.
– И замечание тебе, товарищ комсорг. В театр не берут, в театр девушку приглашают.
– Спасибо, Саша. Ты гжечный кавалер, как говорит Ванда Жмур. Между прочим, она о тебе так сказала. Меня она называет белорусским лаптем.
– Она любит тебя.
– Ты уверен, что это любовь?
– Ванда сама сказала мне.
– Рекламщица!
– Скажи, Павел, это выдумка Шаховского?
– О чем ты?
– Приглашение… самой красивой…
– Нет. Если честно – Кузаева. После приезда жены он добрый.
– Добрый… – Скулы у Данилова снова напряглись, и я поспешил распрощаться, не трожь лихо, пока тихо.
Хотя времени у нас еще хватало и дорога недалекая – от батареи до театра километра три всего, мы почти бежали. Такой темп задала Лика. Но она же и запыхалась. Одышка ее не понравилась: здоровое ли у девушки сердце? Призывная комиссия не очень вслушивалась. Да и Пахрицина могла не обратить внимание, если рядовая не жаловалась. Почистить дальномер – нагрузка небольшая. Снаряды, слава богу, девчатам не приходится грузить, с такими стрельбами на каждой батарее хватит боевого запаса на год.
– Что вы так запыхались, Лика?
Она остановилась, в-вечернем полумраке лицо ее показалось неестественно белым.
– Это от счастья, товарищ… Это от счастья, Павел.
Я сам, только мы вышли за позицию батареи, попросил ее обращаться в этот театральный вечер не по уставу.
– Вы не представляете, какая я счастливая. Письмо от папы… Подписан мир. Мир! Павел! Какое счастье! Какое счастье!
Я скептически отнесся к ее радости по поводу подписанного с Финляндией перемирия. В офицерском зале столовой я склонялся к мнению тех, кто считал слишком почетным выход финнов из войны безнаказанными. Не зная деталей соглашения, офицеры высказались о необходимости требования суда над военным правительством.
– И я иду в театр! Боже мой! Я так растерялась, когда вы пригласили. Я испугалась, что это шутка. Злая. Простите.
Испуг ее я заметил там, в казарме.
Был час «личного времени». Я знал, что девчата используют его для мытья головы, стирки, шьют, штопают чулки – самое слабое в девичьем обмундировании. Кум стонет: «Горят они у них, что ли? К портянкам нужно вернуться». Несчастный портяночник!
Я постучал.
– Айн момент! – крикнула Таня Балашова по-немецки. И тут же приоткрыла дверь, полураздетая, в одном бюстгальтере, в панталонах. Окинула, стукнула дверью, пискнула: – Девчата! Павлик!
Зашелестели, зашаркали. Одна минута – и:
– Можно! Я вошел.
Девчата стояли каждая у своей кровати. В сапогах на босые ноги. Не у всех, правда, гимнастерки застегнуты, ремни перевязаны. Одна Таня в сапогах, в юбке, но без гимнастерки, держала ее в руке, прикрывая грудь. Делала, хитрунья, вид, что не успела надеть. Но явно нарочно «не успела». На Таню даже Данилов летом жаловался: «Позволил позагорать. Все попрятались. А она разлеглась перед батареей и бюстгальтер сняла, бесстыдница. От такого зрелища любой парень завоет».
Старшая в комнате – санинструктор Валерия Грекова. Она попробовала доложить:
– Товарищ младший лейтенант! Расчеты прибора…
– Вольно, вольно. Занимайтесь своими делами. Политинформации не будет.
– Жаль! А мы так любим вас слушать! – сказала та же Таня, маленькая подхалимка, не однажды удиравшая с политинформаций.
У меня заняло дыхание от необычности миссии. Давно уже я так не волновался. Как пригласить? Как обратиться? Может, вызвать на улицу? Дескать, комбат требует. Позорная трусость. Да и видеть они могли в окно, что Данилов пошел в штаб.
Проглотив воздух, я шагнул к Лике, самой аккуратной среди девчат – гимнастерка застегнута.
– Лика, я приглашаю вас в театр.
Ахнули, по-моему, все – в один голос. Лика побледнела. А Таня выскочила вперед, стала между ней и мною и сказала бесцеремонно, фамильярно, настойчиво:
– Пригласите меня, Павлик.
– Ефрейтор Балашова! – Но тут же понял нелепость окрика: к одной – Лика, к другой – уставная строгость. С Таней мы с сорок второго служим, пуд соли съели, подразниться она умеет, но я знал, что не один наглец по морде получил от нее. – Таня, я уже пригласил Лику.
Тогда она отпустила гимнастерку и выставила свои упругие грудки – словно фиги показала, сразу две.
…На городской улице недалеко от театра Лика снова остановилась. Вновь тяжело дышала.
– Вы знаете, почему я еще волнуюсь? У меня есть просьба к вам. Но я боюсь… я боюсь, вы откажете. Не откажете?
– Сегодня я вам ни в чем не откажу. Подвела моя галантность!
– Позвольте мне зайти на квартиру и… надеть платье. В театр же идем! В театр, и я такая счастливая. Я хочу быть в том платье… Я буду красивая в нем.
Вот так просьба! Озадачила. Чего угодно ждал, а о таком не подумал. Имею ли я право? Что скажут Кузаев, Тужников?
Она затихла – совсем не дышит. Затаилась. А я, видимо, долго молчал.
Ах, была не была. «Чего не сделаешь для женщин!» – часто повторял Колбенко, утверждая, что это из Бальзака. Не съедят же меня за то, что я позволю девушке на один вечер, в театр, заменить форму на платье. Подумаешь, крамола!
– А это далеко? Успеем?
– Вот здесь, – показала Лика на трехэтажный дом, у которого мы стояли.
– Тут ваша квартира? И кто в ней?
– Никого. Ключ у соседки. Если вернется отец… Я схватился за соломинку:
– Платье под шинель?
– Я возьму накидку. Подождите. Я мигом. Порхнула в подъезд.
А меня охватил страх. Мелькнула нелепая мысль, что Лика дезертировала. И я буду за это отвечать. Да нет! Нет! Сейчас она вернется! Но все же здесь есть «внутреннее дезертирство» – от формы, как бы унижение ее, формы красноармейской, такой прославленной. Словом, столбик моего приподнятого настроения упал до нуля. Воистину подвела тебя галантность, товарищ комсорг.
Выскочила она из подъезда действительно очень быстро, минут через пятнадцать, – и я охнул от удивления и восхищения. Сгустилась уже чернота осеннего вечера, однако я рассмотрел появившееся чудо. Раньше я не видел той ее красоты, которую сразу разглядел Колбенко и другие. Девушка как девушка, в гимнастерке, в юбке, в сапогах – как все. А тут – что-то необычное. Появилась она без пилотки, и льняные волосы ее, казалось, излучали солнечный свет. Даже на улице посветлело. От волос и от белой накидки. Удивительная накидка – как пончо без рукавов, из тонкого сукна. (Потом она объяснила, что ткут их в Исландии.) А из-под накидки – длинное темное платье. По деревянному тротуару стукнули тонкие каблучки.
«Быстро же она «дезертировала». Когда успела?» – уже без всякого страха весело подумал я.
– Вот теперь я театральная.
– Вы демаскируете весь город, Лика. Вы как фонарь на тысячу свечей.
Она засмеялась, выдавая привычку к комплиментам.
Театральное фойе ослепило светом и оглушило музыкой. Играл военный оркестр. Танцевали. Офицеры и женщины. Руководители республики и начальник гарнизона не просто открывали театр, они устроили праздник победителей – тех, кто выбил из войны еще одного союзника фашистской Германии. В буфете можно было купить стакан портвейна и пирожное из пшеничной муки – без карточек. (Я, конечно, не попробовал лакомства, не до пирожного мне было. А Лику угостил Шаховский.)
Чтобы не пробиваться сквозь танцующих, мы с Ликой остановились у двери.
Смолкла музыка. Люди отхлынули в глубь фойе. Но тут же я заметил… нет, скорее, ощутил всем существом своим, что почти все взгляды со всех сторон скрестились на нас, как лучи прожекторов на пойманной цели. А тут еще Лика артистическим жестом бросила мне на руку свою необычную накидку и сказала, как мне показалось, слишком громко:
– Отнесите в гардероб.
Но я повернулся к ней и осмотрел с тем же интересом, с каким смотрели на нее – не на меня же! – наверняка все. А потом я оглядел других женщин и сразу отметил разницу между ними и Ликой. Немало женщин было в штатском. Даже знакомые врачи и сестры из госпиталя, размещавшегося рядом с нашей третьей батареей. Но ни у одной из них не было такого шикарного платья, как у моей спутницы. Вишневый рубин! А пошито как! Видимо, лучшей портнихой. Вернувшиеся из эвакуации были одеты вообще бедно, убого: в довоенные поношенные платья, юбки, кофточки, обуты в стоптанные туфли. На врачах были новые платья, из богатой трофейной ткани, но шили они их явно сами, военные мастерские вряд ли брали такие заказы. А вот на офицерах, в том числе и на женщинах, кители, как говорят, с иголочки. Сияли золотом парадные погоны.
Да недолго я рассматривал публику – мгновение, взгляд вдруг споткнулся на человеке, смотревшем именно на меня и смотревшем совсем не так, как другие, незнакомые. Тужников. Казалось, лицо его почернело как туча грозовая. Но я не без злорадства подумал: «Нет, тут не загремишь». Подумал, правда, минутой позже, заметив другого нашего офицера – Колбенко. Константин Афанасьевич весело подмигивал мне, показывая большой палец, его явно раздувало от смеха.
Нет, загремело. С другой стороны – строгим голосом Кузаева:
– Шиянок!
Я перебросил накидку на левую руку, смущенный незнанием, как в таком публичном месте подойти к командиру. Козырять? Я же в полной форме, в фуражке.
У меня подкосились ноги от страха: пожалуй, Кузаев может и при людях отчитать. Нет, не людей я испугался. Стыдно перед Ликой. Здесь она не рядовая, не подчиненная. Приглашенная мною в театр девушка. Я быстро подошел к командиру. Не козырнул.
– Слушаю, товарищ майор.
– Что это такое? – приглушенно спросил он.
– Мы шли мимо ее дома. Она попросила разрешения забежать и… переоделась…
– А ты ловкач, комсорг. Посмотри – успел переодеть. Как вам нравится? – обратился Кузаев к женщинам – своей жене и Марии Алексеевне Муравьевой. – Нужно уметь.
Но женщины шутки не приняли – у них вытянулись лица. А я вспыхнул: такое неприличное оскорбительное подозрение командира при… учительнице, матери дочерей. И ответить нечего. Как оправдаешься?
– Много у вас таких красавиц? – снова-таки без тени улыбки спросила у мужа Антонина Федоровна. – Потому ты и не хотел, чтобы я приезжала.
– Ну что ты, Тоня! – испугался Кузаев.
Но мне не стало легче. Если еще и жена подольет масла – не скоро потухнет огонь, и обожжет он меня: командир постарается показать всю свою строгость в отношении морали в дивизионе. Да вдобавок имея такого союзника, как Тужников. Нелегко будет моему «крестному отцу» защищать меня. Двух моралистов, облеченных властью, не убедить. Вот тебе и «пригласи самую красивую девушку». Удружил!
– Позволь человеку сдать в гардероб одежду, – строго сказала мужу Антонина.
– Иди, иди, Павлик. – Но его ехидная доброта полоснула ножом.
Однако отошел я не по-военному, злорадно подумав: «Не буду я вам в театре стучать каблуками и выкручиваться на одной ноге».
Лика стояла в одиночестве. Однако не растерянная. Чувствовала, что мужчины любуются ею, и умело, как говорили в былые времена, светски позировала. Явно осознавала свое превосходство над женщинами. Таких молодых, как она, было немного – несколько сестер из госпиталя да, может, секретарши государственных учреждений. Но ни одна из них не выглядела так элегантно – по-настоящему театрально. Мне даже стало немного страшно. А вдруг кто-то скажет, что платье пошито в Хельсинки. Тогда женщины, пока что только ревнующие, возненавидят ее: вот где ты красовалась, пока мы хоронили близких, страдали, голодали!
Но кто может сказать? Женя Игнатьева? Капитан Пахрицина? А больше из наших никого нет. Напомнить про Хельсинки могла только Глаша Василенкова. Да Глаша письмо прислала уже из Калинина, из госпиталя – Масловскому. Он прочитал мне не все, часть письма: их тайна еще больше сблизила нас. Хотя вряд ли была их любовь тайной для проницательных девчат, для той же Тани Балашовой – слышал, как подкалывала телефонистка командира ПУАЗО. Веселое письмо написала Глаша, о ранении своем с юмором писала. Умная девушка.
«Как она могла рвать такие волосы? Ох, бабы!» – подумал я, направляясь от гардероба к Лике, любуясь ею в сиянии люстр. Острый глаз «дяди Кости» сразу заметил ее красоту. А я, сухарь, три месяца не видел.
Оскорбительный намек Кузаева выбил из колеи ненадолго. Появилось какое-то ухарство молодецкое. Никого не боюсь! Ни Тужникова. Ни Кузаева. Ты мне, шутник, приказал привести в театр самую красивую девушку, и я тебе показал всю ее красоту, которую ты, возможно, тоже не замечал. Посмотри. Полюбуйся! Пусть жена поскубет тебе поредевшие волосы, бисов сын, как говорит Колбенко.
Но не успел я подойти к Лике, как оркестр заиграл вальс. И к ней, как на «МИГе», подлетел полковник в летной форме. Поклонился. Она вскинула ему руки на погоны. Они первые вышли на круг. И все остальные, кому хотелось потанцевать, не сразу присоединились к ним, какое-то мгновение любовались блестящей парой.
Кузаев не танцевал. Жену его пригласил Шаховский. Мария Алексеевна тоже не танцевала, и я приблизился к ним – ну, осмелел! Возможно желая загладить неловкость от слов Кузаева и защитить меня перед ним, деликатная учительница сказала:
– Красивая девушка. Кем она у вас?
– Где она у нас, комсорг? – уже без строгости спросил командир, и я обрадовался: «И впрямь ты не обратил на нее внимание».
– Первый номер дальномера у Данилова.
– Ага. Помню. Та, что училась в Хельсинки? Финская учительница? Ваша коллега, Мария Алексеевна.
Я похолодел: выдаст командир происхождение Ликиного платья, ее умение так грациозно танцевать.
Нет, никто не услышал. А Муравьева сказала, вздохнув:
– В городе не хватает учителей. Кузаев засмеялся:
– Ох, Мария Алексеевна! Вас бы в наркомы просвещения. Не введите в уши городскому начальству, вон тот высокий танцор – секретарь горкома, что красавица наша – учительница. У меня большой недокомплект. Дальномерщика непросто научить. А кто знает, где мы будем завтра.
– Не пугайте нас, Дмитрий Васильевич. Мы с Антониной договорились: если вас бросят в самое пекло, мы поедем с вами.
– С детьми?
Мария Алексеевна помрачнела:
– Нам некуда деваться.
Окончился вальс. Но оркестр заиграл новый танец после очень короткой паузы, не дал танцорам отдышаться. На этот раз первым к Лике подлетел капитан Шаховский. И она расцвела в улыбке – свой человек! Шаховский танцевал несравненно лучше летчика. Артистично танцевал. Потому любование первой парой затянулось, Тот же полковник зааплодировал им: мол, уступаю пальму первенства.
– Какой талант, – сказала Антонина Федоровна.
– У Петра это от дедов и прадедов. Чем им было еще заниматься! – немного даже ревниво сказал подошедший Тужников. – Моим родителям и мне, мужику, не до танцев было, когда хлеба не хватало.








