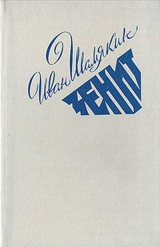
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц)
2
Иллюзии насчет нашего движения в эшелоне на Петрозаводск, якобы вдогонку наступающим частям, развеялись сразу же после сообщения командира дивизиона о мостах. Да и были они, иллюзии, разве что у таких фантазеров, как я или Татьяна Демушкина, мечтавшая пострелять по танкам.
Реалист капитан Шаховский, заместитель командира по артобеспечению, «светлейший», как называл его Колбенко то ли за происхождение, то ли за ум, предрекал еще при погрузке в Кандалакше, что в такой ситуации стоять нам полмесяца в тупиках лесных разъездов, защищаясь пулеметами да батареей МЗА [3]3
Мелкокалиберная зенитная артиллерия.
[Закрыть], орудия которой установлены на платформах. Капитан ошибся. Не стояли.
Но когда, вернувшись, мы с Колбенко увидели поспешную разгрузку эшелона и узнали, что батареи займут боевые позиции, я пережил разочарование. Значит, все. Суждено нам в горячий час великого наступления защищать глухой городок, который скоро станет глубоким тылом, таким глубоким, что вряд ли немецкое или финское командование будет посылать сюда самолеты. Что бомбить? Станцию? Но и станция быстро пустеет. Утром разгрузились танкисты и двинулись дальше, в глубь карельских лесов, своим ходом. Разгрузились и мы…
Погрузка, выгрузка из эшелонов частей, которые не часто перебрасываются с места на место и поэтому обживаются, обрастают, словно мхом, разным военным имуществом, – самое на войне безалаберное, беспорядочное, стихийное, как паническое отступление. Командный механизм, точный в боевой обстановке, начинает давать перебои. Вмешательство в ход погрузки или разгрузки командиров, особенно молодых, чаще вредит, чем помогает, поскольку разлаживает людские связи, что в тяжелой и спешной работе создаются не принадлежностью к тому или иному подразделению, не командирскими приказами, а совсем другими законами единения бойцов – их опытностью, смекалкой. Подчиняться начинают тому, кто больше умеет, кто дает разумные советы, будь он хоть самый до того незаметный человек, простой рядовой.
Короткая деревянная платформа была разбита бомбами. К ней прислонилось несколько задних вагонов, из них выгружали обозноматериальное, продовольственное обеспечение, доски, лопаты, пилы, пустые ящики из-под снарядов и просто рухлядь.
– Тянем за собой эшелон барахла. Вояки! – съязвил Колбенко, которого неожиданная разгрузка, видимо, тоже огорчила, он стал ироничным и злым.
Тяжелые орудия сгружались с платформы на землю, на рельсы, покрытые досками. Соорудить настил, чтобы скатить многотонную пушку, как будто бы и просто – теоретически, а на практике требуется особое умение. В Кандалакше, при погрузке, восьмидесятипятка проломила настил и чуть не покалечила людей. Поэтому я не удивился, что разгрузкой орудий руководит «батя». Так окрестили самого, пожалуй, старого в дивизионе солдата, шутили – «николаевского». Сам он на вопрос: «Какого разряда запасник?» – ответил так: «Того разряда, что не призывался в сорок первом». Перенес оккупацию на Брянщине. Человек незаметный, молчаливый, не все даже знали его простую фамилию Грибов, состоял он при штабе «ординарцем для всех» – топил печи, подметал. Но часто его посылали туда, где требовался плотник или столяр, а мастер такой всюду нужен, поэтому знали Грибова во всех батареях, в прожекторной и пулеметной ротах. Командиры обращались к нему уважительно – Петр Петрович, младшие бойцы – «отец», без иронии, серьезно.
«Отец» руководил совсем по-граждански:
– Ребятки, ребятки! Реечки эти под детскую колясочку подложите, а не под пушечку. Шпалы! Шпалы тащите!
Кузаев стоял сбоку, наблюдал командирство «бати», весело улыбался, но не вмешивался, хотя на погрузках и разгрузках зубы съел, поскольку до войны служил начальником железнодорожной станции. Настроение у командира было приподнятое – очутился человек в своей стихии. Вдыхал знакомые запахи угля, шпал, масла, реек, нагретых на солнце. Рассказывал офицерам разные случаи, происходившие на железной дороге: хорошие – на его станции, плохие – у соседей. Слабость его эту офицеры знали, за глаза посмеивались, но слушали всякий раз с почтительным вниманием – командир есть командир!
Я проскочил мимо офицерской группы. Разгрузка орудий меня мало интересовала: там работали мужчины и руководил «батя». Да и сам командир дивизиона наблюдал. Потянуло меня на выгрузку снарядов. Запас их накопился большой, несколько вагонов, – на Кандалакшу последние месяцы фашисты налетали редко.
Снаряды выносили преимущественно девушки. Взбегали одна за другой по шатким деревянным сходням в вагон и выбегали оттуда с ящиком на плечах, склонившись до земли. У штабеля две девушки послабее осторожно снимали ящики со спин. Делалось все бегом: в вагон – бегом, из вагона – бегом. Конвейер! У пушек так не суетились. Там трудились не спеша.
Разгрузкой командовал старшина Рысовцев, начальник артсклада. Это он задал такой темп. Стоял сбоку и повторял как автомат:
– Быстрее, пташки мои, быстрее!
Издевательское «пташки» и подхлестывание возмутили меня. «Мы же с тобой когда-то носили эти ящики! Не мог ты забыть, что это такое, Федор! Четыре пуда каждый!»
Вспомнился давний случай. Зимой сорок второго вошел в Кольский залив большой караван судов союзников. Стояла полярная ночь. Света – считанные часы. Немцы начали бомбить ночью. Прилетали по два-три самолета, вешали ракеты на парашютах, в сиянии которых и заходили на порт, на корабли, стоящие под разгрузкой. Наше командование с опозданием разгадало их тактику. Немцы не столько рассчитывали на прицельное бомбометание, сколько старались обессилить нас, зенитчиков, заставить израсходовать боеприпасы малоэффективным заградительным огнем. Чтобы днем мы остались без снарядов. Знали, гады, какой ценой достаются нам снаряды – и как делают их на заводах под открытым небом, и как привозят с Урала в Мурманск по дороге, спешно построенной после падения Петрозаводска.
В одну из таких долгих ночей батарея, где я командовал орудием, израсходовала почти весь боевой запас – били до красного свечения стволов. Под утро, как это часто бывает в Мурманске, пошел зимний дождь. А через несколько часов снова подмерзло, ветер разогнал тучи, еще до наступления темноты установилась летная погода. Жди «гостей». Но сопка, на которой стояла батарея, так обледенела, что на нее не могла вползти не то что автомашина, но даже гусеничный трактор. Как доставить снаряды?! Только на плечах людей! Огневиков не оторвешь: не вести огонь – преступление, за которое командир подлежит суду.
На снаряды бросили взвод управления – связистов, разведчиков, штабистов. А именно там больше девушек, новобранок, первый отряд которых поступил всего какой-то месяц назад. У командира батареи Горкавого хватило ума отдать приказ: из ящиков, которые понесут девушки, вынимать по одному-два снаряда – сколько какая осилит. И все равно случилась беда: Надя Малинина (как на грех, еще фамилия такая – ласковая, запоминающаяся, на всю жизнь запомнилась) упала под тяжестью ящика с тремя снарядами, ударилась головой о камень и умерла.
Было большое ЧП. Наказали не только командира батареи, взвода, взыскание дали и командованию дивизиона. Командир дивизии ПВО отдал приказ: бойцам-девушкам носить только по два снаряда от семидесятишестимиллиметровки. Однако позже о приказе забыли. Девчата натренировались, поздоровели, у нас они почти все старослужащие, а новички, наоборот, мужчины, призывники из освобожденных областей – старики вроде «бати», часто совсем немощные, силы некоторых едва хватит на половину такой тяжести, как ящик с полным комплектом. Военкоматы ошибочно полагали, что таким место в стройбатах да зенитных частях.
Я подошел к вагонам со снарядами – к Рысовцеву. Когда-то мы командовали соседними орудиями, кажется, и дружили, но я знал, что относился он ко мне ревниво и завистливо: мой расчет чаще хвалили, чем его, мои бойцы лучше знали матчасть, еще лучше – политграмоту и огонь вели слаженно, без грубых ошибок. Завидует Рысовцев мне и теперь: я стал офицером, а он с потугами вырос до старшины.
Вдобавок такие, как Рысовцев, считают обязанности политработника самыми легкими: мол, никакой конкретной ответственности. Побеседовал, написал донесение, провел собрание – это ли работа?
Встретил Рысовцев меня ехидным и опасным вопросом:
– Говорят, вы с Колбенко весь город обшарили. Осталось что от финнов?
Я остолбенел: выходит, не тайна, что мы нарушили приказ. Знает Рысовцев – будут знать все. Неприятно. А все Колбенко со своим скепсисом к «мудрым приказам» Кузаева. Ну, в конце концов, мы оправдаемся: нам, комиссарам, первым надлежит увидеть освобожденную землю. А вот если скажут, что вслед за нами пошла и комсорг батареи Асташко со своей комсомолкой… Думаю, мне придется разбирать проступок Лиды на бюро. Даже в жар бросило. Представил себя в этой ситуации. Однако не оправдываться же мне перед Рысовцевым. Пусть он покрутится.
– Ты что делаешь, Федор?
– Как что? Выгружаю свое имущество – боезапас.
– Нельзя же так… по полному ящику на девчат.
– А ты хочешь по одному снаряду? За трое суток не разгрузим. А мне дано два часа.
– Есть же приказ.
– Какой? Тот? Слезы по Малинке? Изданный при царе Горохе? Сходи с ним в кусты.
– Не забывайся, Рысовцев! – косвенно напомнил я разницу в наших званиях. Но начальника артсклада не испугаешь субординацией; с ним командиры батарей запанибрата – чтобы получить лишний ящик снарядов.
– А ты мне не командир! – вспылил старшина. – Подумаешь, комсорг! Бабский защитник! Чем они тебе за это платят?
На нас обратили внимание: девчата, возвращаясь в вагон, останавливались на настиле, прислушивались. Женское любопытство – безграничное и повсеместное. На гулянье и в самой тяжкой работе. В раю и в аду.
Я отошел.
Рысовцев закричал уже не весело, а зло, как надсмотрщик:
– А ну, шевелись! Навострили уши!
Стычка с бывшим приятелем взволновала. Задета офицерская честь, унижена должность. Но еще больше расстроило, что наглец, в сущности, оплевал мое искреннее желание помочь девушкам, облегчить их тяжелый, неженский труд. Погоди же! Я докажу свою правоту! Однако к Кузаеву обратился не сразу. Сдерживали сомнения: а не амбиция ли взыграла? Не покажусь ли я в глазах командира кляузником и выскочкой? Мол, нашел, где отличиться.
Пока Кузаев стоял со своими заместителями и командирами батарей, я в раздумье прошел мимо раз, второй. Замполит Тужников, не терпевший незанятых людей, поручил:
– Шиянок, не маячь, проследи за выгрузкой документов.
Приказывает не думая. Какая документация? Штабная? Так за нее отвечает начальник штаба капитан Муравьев, человек необычайно пунктуальный.
Его, замполита, железный ящик, парторга и мой – с комсомольскими делами? Так они тоже сданы в секретную часть, и забрать их можно не раньше чем мы обоснуемся и заимеем свой дом, землянку или хотя бы палатку.
Однако, когда они остались вдвоем, командир и замполит, я все же отважился:
– Товарищ майор! Разрешите обратиться.
– Валяй! Чего там разрешать. – Кузаев нередко удивлял то чрезмерной любовью к уставу, то излишней штатскостыо.
– Бойцам-девушкам нельзя носить полные ящики. Это же без малого семьдесят кило!
– Нельзя, говоришь? – Командир как бы удивился открытию, но я заметил его лукавые глаза. Над кем смеется? Надо мной?
– На войне нет «нельзя». На войне может быть только «есть», – строго и поучительно сказал Тужников.
– Слышал, комсорг? – с явным смешком спросил командир.
– Так точно.
– Вот так, дорогой мой комиссар. – Непонятно, кому он это сказал – Тужникову или мне.
– Разрешите идти?
– Валяй.
Еще один щелчок по носу. Обидно. Но главное, такие вот «мягкие шутки» начальства размывают мою уверенность в себе. В ранге командира орудия и взвода я чувствовал себя куда увереннее, хотя козырять, вытягиваться, получать разнос тогда приходилось намного чаще. А дурак Рысовцев – да и он ли один? – считает должность комсорга одной из тех, про которые шутят: «Солдат спит, а служба идет». Нет, Рысовцев! Спишь на складе ты, даже опух. А мне не до сна. Мне до всего есть дело. Что там в Белоруссии? Как идет наступление?
Пошел в штабной вагон. Послушал радио. Тужников давно позволил мне слушать приемник в любое время: мое оружие – информация, которую я оперативнее любого другого умею передать людям, что замполит ценит.
Первая батарея, Даниловская – моя батарея, там я служил, – занимает позиции в полуверсте от станции, на холме, поросшем бурьяном и молодым березняком, видимо, там еще в начале войны сгорело какое-то строение, на старых пепелищах всегда густо растет бурьян.
Пошел туда. На батарее, знаю, гость я желанный. От меня ждут новостей. И я чувствую себя не лишним, могу что-то посоветовать не только парторгу, комсоргу, но и самому командиру. Как говорят, зубы съел и на орудии, и на ПУАЗО. Лиду выучил на лучшую дальномерщицу, когда был командиром взвода. На этой батарее я точно в родной семье. С Даниловым у меня наилучшие отношения, молодой комбат, при всей своей цыганской натуре, без гонора – прислушивается к советам.
Издали видно поблескивание солнечных зайчиков на лопатах, отполированных кольскими камнями. Фонтанами взлетает земля. Копают котлованы для орудий, приборов, а заодно, вероятно, и под землянки. По всему видно, грунт мягкий, долбить ломами не нужно: на мягкой земле работа всегда спорится.
Орудия приведены из походного в боевое положение. Дула нацелены в небо над станцией. Батарея готова прямой наводкой прикрыть эшелон. Такая быстрая готовность к бою порадовала. Помнилось страшное ощущение беспомощности, когда на аэродроме в Африканде нас бомбили до того, как батарея заняла боевую позицию. Самое гадкое из пережитых мною ощущений. Боевые расчеты бежали от собственных орудий, оставшихся под чехлами, рассыпались по полю, спасаясь от осколков.
Только взошел на позицию, ко мне бросились девчата с ПУАЗО, связистки, все взволнованные. Окружили. Говорили разом, обращаясь и по уставу, и по-граждански:
– Товарищ младший лейтенант!
– Павел Иванович!
– Он не виноват!
– Это – несчастный случай.
– Поверьте.
– Весь расчет видел.
– Кто не виноват? В чем?
– Ваня Рослик.
– Спасите вы его.
– Комвзвода пригрозил трибуналом.
В конце концов из туманных девичьих выкриков я дошел до смысла того, что произошло на батарее: когда приводили пушку в боевое положение, установщику трубки Ивану Рослякову отсекло пальцы. ЧП! Несчастные случаи бывали и раньше, например, однажды взорвался снаряд: уронил трубочный, и снаряд капсулем ударился о ребро железного клина, что прикрепляет пушку к земле. Разное случалось за войну не только в боях. Но я понимал волнение девчат: несчастье с Ваней Росликом.
Месяца два назад получили мы небольшое пополнение – десяток мальчишек последнего призыва. Наверное, снова-таки в военкомате или на «сортировке» кто-то рассудил, что, мол, в зенитную часть можно послать самых слабых, обессиленных голодухой и непосильной работой в колхозах, где дети заменили своих отцов, ушедших на фронт. Теперь пришел черед сынов. Действительно, глядя на них, нельзя было подобрать другого определения, кроме как «дети войны»: низкорослые, худенькие, одни уши торчали на стриженых головах. Но даже среди таких выделялся боец с громкой, точно в издевку данной, фамилией Росляков. Рассказывали – несомненно, так оно и было, – что «гром-баба» Таня Демушкина, увидев нового бойца, всплеснула руками и по-матерински удивилась: «А как же ты, дитятко, попал сюда?»
Даже при том, что имелось обмундирование с расчетом на девушек, Ване не сразу подобрали шинель, сапоги, гимнастерку.
Вдобавок к своему достойному жалости виду мальчонка был еще и словно бы испуганный. Остальные призывались из Вологодской области, даже из одного района, потому по-землячески дружили, держались друг друга. А Ваня почему-то единственный был привезен на фронт из далекого тыла, из-под Омска, из таежной деревни. Кто его там затюкал, допытаться не могли ни я, ни командир его, ни девчата. Сначала он боялся людей. И, что удивительно, не столько даже офицеров, не разбираясь в субординации, сколько девчат. Женщины в гимнастерках с погонами, в сапогах, однако в юбках казались ему бог знает кем. Он пугался их бойкости. А девчата на этой батарее все были старослужащие – два года ели кашу из котелков. Некоторые, воображая себя настоящими солдатами, не стеснялись и крепкого словца и сами, случалось, под настроение умели «закрутить». Странно, что деревенского парня это так смущало.
Ваню поначалу сделали считывателем трубки. Но при первой же боевой стрельбе он потерял и без того слабый голос. Данилов хотел от него избавиться – спихнуть куда-нибудь в медчасть. Но командир орудия Хаим Шиманский, сам низкорослый, убедил, что Росляков не слабее других, во всяком случае, пудовый снаряд подхватывает легко, и его поставили установщиком трубки. И скоро на учебных тренировках Ваня показал и быстроту, и точность установки. Однако, только работая, он жил в коллективе, а так все еще сторонился или, может, боялся людей, потому долго путал звания – кто кому подчинен.
Когда я начал с ним разговор о вступлении в комсомол, он испугался.
«Ты из староверов, что ли?»
«Нет, дядечка, я не старовер», – это он мне. И смешно, и трогательно.
Я поручил комсоргу батареи Лиде Асташко взять его под свою опеку, готовить парня в комсомол.
Лида подключила к шефству над новобранцем всю свою команду – девчат с ПУАЗО, с дальномера. И, видимо, проснулось в них женское, материнское, они назвали парня Росликом, пестовали как сына. У Вани скоро исчезла затюканность. Перестал бояться крепких слов, начал понимать шутки, выучил уставы. Можно принимать в комсомол. И вот тебе раз! Потерял пальцы… Что за судьба ждет его теперь? А тут еще угроза.
Командир огневого взвода – Аким Унярха. Сибиряк, русский, фамилия странная, неизвестного происхождения. Унярха у нас недавно, из школы, парню всего двадцать лет. Загадочна не только фамилия, но и сам Аким. Молчаливый, как и Ваня Рослик. Но необщительность его совершенно другого свойства. Она не от стеснительности, скромности, а, наоборот, от самоуверенности, ощущения своего превосходства над другими. Ничем иным, а только суровой замкнутостью Унярха, безусый лейтенант, неплохо знавший теорию артиллерии, но не нюхавший пороху, очень быстро подчинил себе не только взвод, но и всю батарею. Его боялись. Попробуй не так обратись к нему, не так козырни, появись с расстегнутым воротничком!..
Саша Данилов, непосредственный командир его, веселый и шумный цыган, жаловался мне:
«Знаешь, я даже боюсь его. По-моему, он больной человек. Он не повышает голос на людей. Но понаблюдай за ним, как из-за ерунды он заводит себя. Не так козырнула девчонка… подумаешь, страх! А у него синеет лицо, дрожат губы, меняется голос… Мягчает голос, кажется, добреет. Но он будет гонять несчастную до изнеможения. Он пьянеет от своих «Кругом!», «Шагом арш!», «Отставить!». От собственных команд у него учащается дыхание, пульс, конечно, тоже. Он входит в какой-то странный экстаз. Прервешь – будет сидеть обессиленный, остолбеневший, с оскорбленным видом».
Мне не довелось наблюдать Унярху в таком состоянии, со мной он вежлив, на «вы», не очень разговорчив, когда расспрашиваешь о жизни, о близких, однако любит порассуждать о делах военных – высокой стратегии, политике: что думает Сталин, какие планы у Жукова, у Рокоссовского, где немцев подстерегает очередной котел? Но кто не любил поговорить об этом в те дни!
Не успел я расспросить у девчат подробности несчастья с Росликом, как появился Унярха: на позиции батареи, пока люди не заберутся в котлован, – все как на ладони.
Спросил как будто спокойно:
– Митингуем?
– Говорим…. по-комсомольски.
Меня он видел превосходно, еще на подходе, а то и раньше, но сказал:
– Ах, это вы? – Не удивился, произнес с каким-то обидным пренебрежением и тут же – девушкам: – У вас готов котлован?
– Готов, товарищ лейтенант! – ответила Лида Асташко почти со злостью: ее больше других расстроило несчастье с Ваней.
– Я не вас спрашиваю, товарищ младший лейтенант! Я спрашиваю командира приборного отделения.
Виктора Масловского, командира этого отделения, не было среди окружавших меня девушек. Унярха не мог не заметить его отсутствия, просто ему хотелось подчеркнуть, насколько самоволен наш сбор. А вообще Унярха был немного растерян: не накажешь бойцов-комсомолок за обращение к комсоргу дивизиона, это он понимал, да и конфликтовать со мной не входило в его намерения, сам – комсомолец. Лида подчеркнуто громко и отчетливо попросила меня:
– Товарищ младший лейтенант, передайте командиру дивизиона, что с Ваней – несчастный случай. Весь расчет подтверждает… Командир его.
На этот наказ мне Унярха не ответил, приказал девчатам почти мирно, словно посоветовал:
– Идите работать.
Но когда девушки отошли, сказал с непонятным упрямством:
– Это – самоувечье.
Мне стало страшно от его слов. Не видел же, как все произошло. Откуда такая уверенность? Зачем ему нужно подвести под трибунал несчастного парня, и на гражданке хлебнувшего лиха?
– Аким! Что ты городишь ерунду? Зачем Рослику в наших условиях калечить себя? Подумай. Это же абсурд. Ты что, боишься за себя – недосмотрел? Да? Что тебе может быть? Выговор? Трое суток ареста?
Недобро скривились его губы.
– Я ничего не боюсь, товарищ младший лейтенант. И прошу вас… Я говорю вам «вы».
А раньше сам искал дружбы, особенно узнав, что с Даниловым я на «ты». Что стало с человеком?
– Пожалуйста, товарищ лейтенант. Но советую: не делайте глупостей, это не поднимет ваш авторитет.
Хотел сказать: «Ваню мы тебе съесть не дадим», но сдержался, почувствовал, – мне его не убедить. Это по силам только старшему по званию. Данилову. Колбенко. Тужникову. Не сомневался, что они поверят расчету, девчатам, мне, поэтому за Рослика не боялся. Обидно за парня: не начав воевать, так несчастливо ранен. А еще обиднее, что есть среди нас, офицеров, человек, у которого могли возникнуть гнусные подозрения. Случались несчастные случаи и раньше. Некоторыми занимался уполномоченный «Смерш». Отослали человек двух в штрафную роту. Но все это не затрагивало чести всей батареи, лучшей батареи, лучшего командира, дивизиона, наконец. А тут вдруг такой позор! Самострел!
С Хаимом Шиманским мы съели пять пудов каши из одного котелка. До войны в учебной батарее служили в одном расчете. Потом, когда я стал командиром орудия, он, первый номер, был моим заместителем; когда я пошел на взвод, принял орудие. Парень удивительный. Из Западной Белоруссии, из Дятлова. Образование у него еврейско-польское, несколько классов хедара, потом – последние классы польской семилетки.
Приехав в Мурманск, он говорил на таком языке, что русские его не понимали: не находя русских слов, употреблял белорусские, польские, украинские, еврейские, даже литовские. В учебную батарею Хаима зачислять не думали: какой из него командир! Во-первых, рост воробьиный, а потом и акцент. Но скоро Хаим показал себя прекрасным бойцом: мастер на все руки, необычайно сообразительный, проворный. Быстрее его никто не выбегал к орудию по учебной тревоге, при этом портянки он никогда не выносил в кармане или за пазухой, как мы, грешные. Потом, на учебной батарее, ребята ему пригрозили: будешь таким шустрым – намнем бока.
Хаим выбрал оптимальный темп, который и командиров удовлетворял, и курсантов не подводил.
Когда я подошел к орудию, Шиманский сидел на снарядном ящике, обхватив руками голову, раскачиваясь из стороны в сторону, и повторял:
– Ай-вай-вай! Что будет? Что будет?
– Что будет, Хаим? Он глянул на меня:
– Я у тебя спрашиваю: что будет? – но тут же вспомнил о субординации, подскочил, вытянулся.
– Как это случилось?
– Кабы кто толком мог сказать, как это случилось. Как он подсунул туда свои несчастные пальцы? Ай-вай!
– Кто виноват?
Он снова схватился за голову, но перешел вдруг на «вы».
– Вы спрашиваете, кто виноват? Так я вам скажу: Шиманский виноват – недоучил. Недосмотрел. – И по-дружески уже, приглушенно и доверительно: – Имею я право после этого носить орден? Как ты думаешь?
На гимнастерке его сиял новенький орден Отечественной войны.
– Не делай трагедии, Хаим.
– Легко тебе говорить.
– Нелегко. Где Данилов?
Командира батареи Сашу Данилова я нашел на берегу Онежского озера. Два года он в дивизионе, а я все еще не перестаю любоваться этим человеком, словно девушкой. Чертовски красивый цыган! Среднего роста, очень ладно скроенный – каждый мускул рук, плеч, ног вырисовывается под одеждой и буквально пружинит, а в то же время стан по-девичьи тонкий, стройный. Черные до антрацитового блеска курчавые волосы, точно завитые у лучшего парикмахера. А глаза… не черные, глаза – как спелые каштаны, росные. Можно их назвать карими? Нет, глаза его, пожалуй, меняли цвет. Они без конца горели и как бы сыпали искры: то весело-голубые, то задумчиво-серые, то гневно-огненные.
Данилова любил не я один. Данилова любили все. Девушки влюблены в него. Но он, как ни один из офицеров, не дает никому оснований переступить границы субординации и сам никогда ни в чем не переступает. Это тем более удивительно, что офицер он не строгий, не формалист.
Весельчак. Шутник. Гитарист. Певец. Цыганскими песнями заворожил не только девчат и нас, молодых романтиков, но даже седых строгих проверяющих – полковников, майоров. Потом говорили, что хитрый Кузаев, у которого выявили немало промашек, нарочно подсказал им послушать цыгана. Размягчил наш Саша им души. Потом, правда, его чуть не забрали от нас в какой-то фронтовой ансамбль, да он сам не согласился.
Из штаба корпуса Данилова прислали командиром батареи, что удивило и Кузаева: молоденький лейтенант, цыган, только что гусарские усы отрастил – и так вознесся вдруг. Но быстро убедились: в штабе не ошиблись. Двадцатидвухлетний командир владел всем: и теорией артиллерийского огня, и материальной частью, и сложными приборами, и умением командовать людьми.
Я некоторое время был у него командиром взвода, и мы быстро и крепко подружились. Кажется, один я знал его тайну, он сам по секрету доверительно сказал мне:
«Я страшный в гневе. Я дикий. Как отец мой. Он зарубил топором молодого цыгана, приревновав к жене своей, моей матери. Нас было уже трое, я и две сестры. Отца посадили. А мама, – он сглотнул слезы, – утопилась. Будто случайно. Пошла по тонкому льду… Нас забрали в детский дом. Мне шел восьмой год. Я трижды убегал. Но старейшина табора возвращал меня назад. Это противоречило цыганским законам. Чтобы цыганского ребенка вернули в русский детский дом! Никогда не было такого! Думаю, меня просто боялись, чтобы не наделал беды. Прошу тебя: ты следи за мной, если что. Я сам себя боюсь».
Однако за два года дикий гнев, пугавший его самого, не проявился ни разу. Бывало, Данилов злился. Но обычно – как все нормальные люди: покричит, выругается, да и то по-цыгански, вообще грубых слов он не употреблял и наказывал подчиненных, если те беспричинно ругались, особенно в присутствии девчат.
Правда, недавно Данилов напугал нас – меня, Колбенко. Даже Кузаев встревожился. Дошли слухи, что он выбросил из своей землянки старшего лейтенанта Зуброва, представителя «Смерш». Одна из прибористок стояла на посту и видела, а Лида по секрету рассказала мне – с явной гордостью за своего командира: вынес из землянки гостя своего и кинул на бруствер точно мешок с мукой. Что произошло между ними, неизвестно. У Зуброва хватило ума смолчать: никакой жалобы, никакого рапорта. И Данилов на мой вопрос ответил коротко и решительно: «Молчим!»
Данилов ходил между штабелями бревен, досок, брусков, шпал, вдыхал острый смолистый запах нагретой солнцем древесины и, не скрывая, любовался всем богатством, от которого и на меня дохнуло миром и покоем.
– Ты посмотри, какие досочки! – радостно, как-то по-мальчишески крикнул Данилов, заметив меня. – Как распилены! Как сложены! В хозяйственности и аккуратности финнам не откажешь! Нет, ты посмотри! Сколько у них леса! Война, а нигде не валяется ни одного бревнышка. Штабели. Штабели.
– Откуда у тебя хозяйственная жилка?
В Кандалакше его батарею ставили в пример за бытовую упорядоченность: лучшие землянки, лучшие НП [4]4
Наблюдательный пункт.
[Закрыть]и КП.
– От отца.
– От отца?
– Чему вы все удивляетесь? Думаете, если цыган, то не хозяин? Мой отец был лучший колесник. Его знали во всех таборах от Кишинева до Минска. А может, и дальше. Я называю города, что запомнил, через которые проезжал наш табор. Я в детском доме столярничал. Вот хожу смотрю, что нужно для батареи, когда осядем на этой медвежьей горе. Тут, брат, не зевай. Пока комендант лапу не наложил или не появятся гражданские хозяева. Ходи тогда – снимай шапку. А мы отучились перед штатскими шапку ломать.
– Ты знаешь историю с Росликом?
– Знаю.
– И что?
– «Что, что»! Жаль парня. А больше – что? Кузаев выдаст мне. Я – Унярхе. Он… Нет, и Шиманскому сам влеплю на всю катушку. Пусть поойкает.
– Унярха говорит, что это… самострел… самоувечье.
– Что? – Глаза у Данилова сразу изменили цвет. – Кому он сказал? Тебе?
– Мне.
Глаза его недобро заискрились.
– У-у! – И выругался по-цыгански. – Да он сам мне докладывал как о несчастном случае. Вот подлая душа! Ну, я с ним поговорю!
Данилов одернул гимнастерку, подтянул ремень, стукнул по кобуре пистолета и чуть ли не бегом направился в сторону батареи.
Я испугался, что вызвал тот приступ гнева, которого он сам боится.
– Саша! Только спокойно!
Он оглянулся и сказал почти рассудительно, успокаивающе:
– Не иди за мной! Я сам! Не бойся.
Я стоял и смотрел на его спину, где под потными пятнами гимнастерки от быстрой ходьбы красиво изгибались пружинистые мускулы.
Я долго смотрел ему вслед, и мне до непривычных спазм в горле, до сладких слез стало утешительно и радостно, что есть такие люди, как Данилов, и что он – мой друг.








