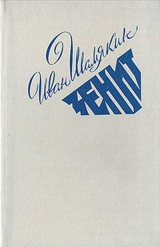
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Сердце бухало, готовое разорваться от счастья, как рвутся стволы от перегрева. Кажется, я тоже кричал:
– Вот вам! Вот вам!
А мне на ухо кричал старшина роты Павел Манкевич, земляк, с ним мы призывались вместе:
– Какой огонек, тезка! Какой огонек! – И хохотал так, что мне даже страшновато стало за него – не плохо ли у человека с головой?
Во время этого, показалось, очень долгого огненного шквала, сметшего на вражеском берегу все живое, я снова не понимал, зачем же прожекторы. Хватит света и без нас!
Команду запустить динамо-машины я пропустил, да и не услышал стрекотание мотора в пушечном гуле. В отблеске артиллерийских залпов, кажется затухающих, увидел, как Надя схватила трубку аппарата и замахала ею, протягивая сержанту с радостным криком:
– Светить!
– Да будет свет! – весело повторил я библейское выражение.
Особая команда, пожалуй, и не нужна была. Миг – и тысячи солнц вспыхнули над Одером. Осветили на том берегу каждый кустик, каждое деревце, хотя и немного их там осталось, развороченную черную землю, вывернутые бревна блиндажей и… маленькие фигурки в серых шинелях, перебегавшие с места на место, искавшие щели – спрятаться от «солнца» в миллион свечей.
В отблеске прожекторов было видно, как на нашем берегу поднялся человечий девятый вал, скатился вниз к Одеру. Река покрылась плотами, понтонами, лодками.
Только тогда, опомнившись, ответили далекие неподавленные немецкие дальнобойные батареи. Дошел наконец до них замысел советского командования.
Фонтан огня перед нашим прожектором. Звон. И он потух. Я находился в десяти шагах, между установкой и автомашиной. Горячая волна швырнула меня на землю. Но я подхватился и бросился к машине, решив, что прожектор погас из-за неполадок в электрической системе. Да тут же сообразил – его разбило. Кинулся назад. И вдруг почувствовал, как левую ногу пронзила острая боль, в сапоге захлюпала теплая жидкость. Все раскаты слились в монотонный глухой водопадный шум. Ранен. Контужен. Но не до своей беды. Что с людьми? Что с девушками?
Сержанта увидел лежащим на платформе головой вниз. Первый номер Фрося Круговых осталась на сиденье, но уронила голову на приемник азимута. Я схватил ее за плечи, и она тяжело осела на платформу. Убита. Неужели убита? Хотел припасть ухом к ее сердцу, но сообразил, что оглушен – не слышу даже пушечных залпов, взрывов бомб. Взобрался на невысокую прожекторную платформу. А когда соскочил, ногу пронзила такая сильная боль, что, видимо, на некоторое время потерял сознание. Во всяком случае, подняться на ноги больше не мог. Ползал по мокрой земле. Звал Надю. Где Надя? Почему Надю? Этого никогда потом не мог объяснить.
Потух ближайший прожектор, хотя дальние еще светили. Я ползал в полумраке. И я нашел ее, Надю. Нащупал руками. Потом, кажется, услышал ее стон. Позвал – не отозвалась. Но тело ее судорожно билось под моими руками. Рана… где рана? Быстрее перевязать! Рванул пуговицы ее шинели. Провел руками по груди, по животу… И ужаснулся… Снова в живот! Как Катю. Как Лиду. Почему их ранит в живот? Что за напасть! Убивают не одну… Убивают тех, кто мог бы появиться на свет.
– Надя! Надечка! Сестричка моя! Живи! Живи! Прошу тебя. Прошу.
Обливал девушку слезами, не очень умело перевязывая поверх окровавленной сорочки, чтобы зажать рану, остановить кровь.
Кажется, она что-то говорила, кого-то звала – по побелевшим губам видел, но ничего не слышал.
– Надечка! Победа же! Победа!
Поил ее водой из фляжки, вода выливалась назад окровавленная. Кровь… Кровь… Всюду кровь. Окровавленные бинты, гимнастерка, юбка. Кровь на лице. Казалось, кровь заливает и меня: из сапога поднимается все выше – к животу, к груди, к шее… вот-вот хлынет в рот; во рту уже горько и солоно. Я потерял сознание. Надолго? Ненадолго? Никто потом не мог мне это сказать. Пришел в себя оттого, что меня поднимают. Нет, скорее оттого, что услышал знакомый голос своего строгого начальника – Тужникова. Действительно, это был он. Но совсем иной, чем обычно.
– Павлик! Дорогой ты мой товарищ! Как же это ты? Почему не забрал тебя на КП? Ах, беда…
Светало. Низко в небе горело красное облако. А в зените – ни облачка. Зенит – синий, таким он бывает только на рассвете.
Двое санитаров положили меня на носилки. Но я закричал:
– Возьмите ее! Возьмите ее! Надю! Поняли – около меня не нашли.
Любовь Сергеевна – какое жуткое видение! – стала перед Надей на колени, взяла ее руку. Потом поднялась и накрыла ее белым маскхалатом. Почему белым? Не зима же. Повернулась ко мне, печально вздохнула, сняла пилотку. Почему мне пригрезилась Пахрицина? Чужой врач, старший лейтенант. Ее вид вернул меня из небытия. Но когда потом понесли, в небе поплыла кровавая река.
10
Во второй половине майского дня по госпиталю как вихрь пронеслась весть: гитлеровская Германия капитулировала. Кто-то из врачей, знавших язык, услышал передачу английского радио.
После овладения Берлином капитуляции фашистской армии ждали со дня на день. Тяжело раненные, прикованные к постелям, встречали утром сестер и врачей не приветствием, не просьбой – вопросом: «Ну, как там?» И все понимали, что их интересует.
Казалось, недельное ожидание и уверенность, что важное событие вот-вот свершится, могло бы притупить реакцию. Нет. Слово «капитуляция» влетело вихрем, весенним сквозняком через двери, окна, во все большие палаты и подняло на ноги всех, кто мог без посторонней помощи сползти с кровати. Лежачие настойчиво просили ходячих найти врача, который первый услышал, привести его любыми уговорами, а нет – так силой: пусть подтвердит, пусть расскажет – где, когда?
Всего два дня, как мне позволили ходить на одной ноге, на костылях, и только на своем этаже. На лестницу – ни в коем случае. Но тут я не посмотрел на запрещение и с неожиданной для себя прытью поскакал подбитым зайцем по широкой лестнице на первый этаж и дальше – во двор: узнал, что в хозяйственном корпусе дают трофейные приемники. Вымолил и я какой-то приемничек, попросил бойца-санитара занести на третий этаж. Столпились вокруг него. Ловили Москву.
Москва передавала торжественную музыку Глинки, Чайковского, Шостаковича. И никаких сообщений даже в то время, когда неизменно который год шло «От Советского Информбюро». Нарушение программы передач предвещало новость, ожидаемую с таким нетерпением, что некоторые раненые довели себя до нервной лихорадки. Просили у сестер валерьянку, а те угрожали отобрать приемник.
– Немецкие станции лови! Немецкие!
Немецкие станции молчали. Ловили всю Европу. На шведском или финском языке, который никто не понимал, звучало слово «капитуляция». Ясно, капитулировали. Но почему молчит Москва? Это тревожило, но успокаивали каждый себя и друг друга: готовится выступить сам Сталин, а он никогда не спешит, он обдумывает каждое слово, приказы его как песни, политработники легко выучивали их наизусть.
На свист приемников явно кто-то пожаловался – тяжелораненые или медперсонал. Палаты обошел заместитель начальника госпиталя по политчасти, по приказу которого приемники раздали. Пригрозил их отобрать, если будем ловить чужие станции.
Переключились на Москву, приглушили звук. Никогда, наверное, с таким вниманием не слушали офицеры-фронтовики классическую музыку.
Я стоял у широкого окна, смотрел, как за деревья парка садится солнце. Каштаны и липы уже в зелени молодой листвы. Она закрыла зенитки, вижу только одну, нацеленную в небо, свою родную – третьей батареи.
Оперировали мою ногу в полевом госпитале. Сюда привезли ночью. Узнав на следующий день, что нахожусь в Ландсберге, я очень обрадовался. Лейтенант Балуев, раненный в плечо, в тот же день сказал:
– Вон, младший, твои пушки стоят.
– В каком мы госпитале?
– В каком-то их техническом училище.
Так это же рядом с нашей третьей батареей! Знал я этот госпиталь, много раз проходил мимо по дороге с третьей на вторую батарею.
Попросил санитара сходить к нашим сказать, что я здесь.
На следующий же день навестили Тужников и Колбенко. Потом Кузаев с Антониной Федоровной. Потом снова она с Марией Алексеевной. Данилов пришел хмурый, похудевший. Он один не порадовал – испортил настроение, спросил зло:
– Твоя работа – перевод Лики на третью?
– Что ты, Саша! Слова никому не сказал.
– А кто?
– Ты думаешь, Кузаев не догадался о причине твоего….
– Заткнись. – Он оглянулся на моего соседа по кровати: стыдился слова, которое я мог произнести.
Я перешел на шепот:
– Антонина… знаешь какая сваха. О каждом знает. Всех девчат готова выдать замуж.
– Окружились бабами – сами бабами стали. – Кто?
– Ты – первый.
– А ты?
– Да и я, идиот. Нужно было и мне, как Масловскому. Завидую ему. И Жмур твоей. Она – цыганка, а не я – цыган. Слюнтяй детдомовский!
Сжал его руки:
– Не сорвись, Саша. Не сорвись.
– Теперь уж не сорвусь. Перегорело, – грустно пообещал он.
Женя Игнатьева приходила почти каждый день. Товарищи по палате шутили:
– Младший, чем ты так притягиваешь девчат? Поделись опытом.
Женю полюбили. Она навещала не одного меня – всех. Многих никто не мог посещать – их части штурмовали Берлин. Женино умение всем подарить улыбку, книгу из гомельской библиотеки, веточку сирени, найденный в парке сморчок трогало раненых. Она успевала каждому поправить постель, почитать, поговорить. Ее звали «сестричка». О ней говорили: «Вот – идеал милосердной сестры, а наши задубели уже». Госпитальные сестры ревновали к Жене, хотя не отваживались выставить ее из палаты – опасались нашего бунта. Да и помощи ее не могли не ценить.
В тот день никто не пришел ко мне. И я встревожился, особенно когда сразу не увидел пушек, так за сутки сгустилась листва. Нет, потом рассмотрел третью пушку – сержанта Рогового. Старую липу расщепило молнией или бомбой, и образовалась прогалина. Через нее я смотрел на пушку весь день.
Кроме той, необычной, непомерно великой радости, которую ожидал весь народ наш, вся Европа, была у меня в тот вечер собственная маленькая радость – я проверял свои силы: раз пять спустился вниз и поднялся на верхний этаж, штурмовал лестницу, как шутили мои соседи.
Но была и печаль, общая, всего этажа. Лежали там люди, видевшие тысячи смертей, некоторые сами умирали не однажды. На войне привыкают к смерти, в госпиталях – особенно. Правда, я попал в счастливую палату: за три недели умерло всего двое. В те дни весельчаки, острословы понуро молчали.
В госпиталях хоронят в гробах. Кто-то из наших сходил в мастерскую и вернулся угнетенный: сколько там делают гробов! Правда, траурная музыка звучала всего один раз – хоронили генерала. От раненых скрывали смерти. Старались скрыть и безнадежных, но на всех смертников отдельных палат не хватало. Милда Юркане лежала в отдельной палате. Однако о ней знал весь госпиталь. Оперировал разведчицу здесь, в Ландсберге, повторно главный хирург фронта, приезжал из Познани. Посещали ее генералы. Весь персонал госпиталя, от нянек-немок, от поваров до хирургов и все раненые, кто пролежал здесь хотя бы два-три дня, встречали утро вопросом: «Как Милда?» Набожные «деды» молились богу за нее. Но тяжелее было третьему этажу, она была рядом, и хотя к ней не пускали, мы, ходячие, заглядывали. Да нередко замечали и сестер, тех сестер, что видели-перевидели за войну все человеческие муки, выходивших из ее палаты в слезах.
Про Милду рассказывали легенды. Латышка, она досконально знала немецкий язык. И умела перебираться через самый плотный фронт с легкой короткодистанционной рацией. Передавала данные, корректировала огонь артиллерии. Запеленгованная немцами, несколько раз вызывала огонь на себя. Под Кенигсбергом ее нашли под развалинами дома контуженую, но живую. Очутилась она за вражескими позициями и в день прорыва на Одере. Ее захватили на Зееловских высотах. Озверевшие эсэсовцы не убили разведчицу – садистски отсекли груди, уши, пальцы рук. Но когда они убежали при приближении советских танков, у Милды хватило сил выставить через решетку балкона свои окровавленные руки. Их увидели танкисты.
Москва сообщила о капитуляции поздно ночью. Выступил Михаил Иванович Калинин. Здание госпиталя задрожало от «ура»! А город озарился салютом. Ракеты сыпали красный и зеленый серпантин. Небо расписали цветные трассеры. Раненые, кто мог ходить, высыпали во двор. Стучали двери. Гудели лестницы.
Прежде чем спуститься вниз, я заглянул в палату Милды. Голова ее забинтована, и она не могла слышать радостные крики. Но пробудившиеся глаза увидели огни за окном, и в ее искалеченной головке возникла догадка. Взглядом попросила подтверждения. Я закричал что есть силы:
– Победа! Милда! Победа! – и подбросил вверх свои костыли. – Живи только… Живи, сестричка!
Очень может быть, что она услышала «Живи!» – из глаз ее выкатились крупные слезы.
Во дворе врачи салютовали из пистолетов, бойцы охраны пускали ракеты. В свете их толпа… большая толпа, может тысяча человек, в белых, серых, синих халатах казалась необычным сказочным войском. Люди обнимались, целовались. И плакали. Женщины плакали – сестры, санитарки, врачи, кухарки. Да и не только они. Меня обнял старый усатый майор в кителе, но в тапочках, уткнулся лицом в плечо, затрясся от немого рыдания.
– Сынок, сынок… Мальчики мои Виталий и Костя не дошли… не дошли, сынок. Живите, дети, живите.
Салют из стрелкового оружия как бы увенчал залп зенитной батареи. Одной. По направлению и дальности я определил: Данилов. Ах, горячая цыганская голова! Достанется тебе, если без разрешения. Но разве в такую ночь можно не салютовать? Молодец, Саша! Молодец! Удивило, что Кузаев не дает команду всему дивизиону. Хотя нет, нельзя! Нельзя салютовать боевыми. Осколки! Все же люди на улице – наши. Огонь из стрелкового оружия тоже небезопасен. Пальнет кто-нибудь не вверх. Не дай бог в такой торжественный час кому-то умереть от своих пуль, осколка. Еще умирают от немецких. Умирают… В полночь слушали сообщение о боях в Чехословакии. Выходит, после подписания капитуляции…
Замполит госпиталя говорил речь. Но слушали его немногие. Нет, слушали, пожалуй, все, но каждый думал о своем, каждый переходил рубеж, от которого начиналась новая Жизнь. Лично я иначе и не представлял ее, как с большой буквы.
Потом врачи, сестры упрашивали раненых вернуться в палаты. Светало. Там, на востоке, на Родине, давно начался первый день мира.
Когда поднимался к себе, на втором этаже меня перехватили старшие офицеры, затянули к себе в палату. Госпиталь равняет в званиях. А Победа вообще слила все звездочки в одну – в маршальскую, не ниже. Да, в ту историческую минуту мы были Солдатами и все Маршалами, поскольку все были Победителями.
– За Победу, товарищи!
Звенели стаканы, кружки, бокалы. Где набрали столько в ночное время, что на каждого хватило?
Я опьянел. Нашла меня встревоженная сестра нашего отделения, вела на третий этаж с необидными упреками. А я старался поцеловать ее. Она отмахивалась и смеялась, хотя обычно была серьезная и строгая.
Проснулся я от музыки и солнца. Палата опустела. Только двоим из партии выздоравливающих не позволяли еще подниматься.
Капитан, сосед по кровати, пошутил:
– Тепленький ты, младшой, вернулся утром. Где так крепко вмазал? О товарищах своих небось не подумал. Наши тут от твоего духа слюнки глотали.
Стало стыдно и… тревожно. Почему вдруг тревожно. Победа же! И день – какой день!
Без костылей, хватаясь за кровати, доскакал до окна.
Солнце! Кажется, никогда такого ослепительного не видел. Оно заливало весь мир. Из окна далеко видна была зеленая пойма Варты с озерками от недавнего паводка. Река искрилась, радостно смеялась. Чужая река. Как же там родной Днепре в этот день? И смеется, и плачет, как все мы ночью. За рекой, в лагере итальянцев, интернированных немцами, играли в футбол.
Перебрался к «своему» окну. В просвете меж зеленых ветвей увидел пушку на батарее Савченко и… как-то сразу успокоился. Только нестерпимо потянуло к своим. Но как выпросить у старшей китель, брюки и сапог? Один сапог, второй на раненую ногу все равно не обуть. Не даст, злая кастелянша!
Отвратительным показался полосатый махровый купальный немецкий халат. Однако не выйдешь в одной исподней рубашке да в больничных шароварах.
– На танцы? – с завистью пошутил капитан, когда я поскакал на костылях к двери. – Станцуй и за меня.
– Врежу гопака. Не скучай.
В непривычно пустом коридоре остановился перед палатой Милды. Послушал тишину. И снова в сердце ударил холод тревоги. Долго не отваживался войти. Открыл дверь и… пошатнулся, уронил костыль, схватился за косяк.
Пустая кровать аккуратно застелена.
Горький комок слез болью распирал горло. Хотелось закричать, завыть. В такой день ее не стало!
Заболела нога так, что едва устоял. Облилась кровью. Нет, кровь из ноги заливала сердце, как там, над Одером, когда я поил раненую Надю. Надин образ остался в памяти. А Милда?.. Голова ее была так забинтована, что остались в памяти только глаза и слезы, увиденные мною ночью.
А внизу звучала музыка. Торжественный вальс.
Спускался я с боязнью – не упасть бы. Остановился на лестничной площадке. На ближайшей лужайке танцевали. Кружились пары.
Врачи в парадных кителях. И девушки в гражданских, по-майски ярких платьях; сестрам позволили переодеться. А вокруг стояли, сидели на лавочках раненые. И вдруг точно взрывная волна ударила меня. Что это? Видение? Бред? Я упал? Да нет, твердо стою на трех ногах. И разум мой светлый.
Ванда? Да, Ванда!
Она сидела на лавочке лицом ко мне в кителе, правый рукав которого плоско и мертво свисал.
От чего я задыхался? От счастья? От боли? Дорога от крыльца до танцплощадки, какие-то полсотни метров, растянулась на долгие версты. Я распихивал плечом тех, кто заслонял Ванду.
– Что, герой, хочешь станцевать? На руках? Давай, давай! Или твои костыли будут танцевать? Вот циркач!
Ванда увидела меня, поднялась, показалось мне, испуганная.
Я подковылял к ней, уронил костыли, упал на колени, уткнулся лицом в юбку. Ее рука легла на мою голову:
– Павлик, Павлик…
Сразу смолкла музыка. Нас окружили. Прежде всего – девушки: любят романтические истории.
– Ну, вот… Она без руки, он без ноги… Какая-то плаксивая всхлипнула рядом.
Общее внимание, по-видимому, смутило Ванду. Она объявила:
– Это – мой брат.
Интерес к нам сразу упал. Встретились раненые брат и сестра – совсем не романтическая история, трагическая. А трагедии в первый день мира никому не хотелось.
Сидели рядом на лавочке в глубине парка.
Не стало обычной Вандиной игривости и… как я ни старался приблизиться к ней, она отдалялась. Она жила последним боем. Рассказывала с лихорадочным блеском в глазах, с нервными движениями здоровой руки – дотрагивалась до моей забинтованной ноги и испуганно, извинительно отдергивала руку, сжимала пальцы в кулак. Но рука словно бы не слушалась ее, рука красноречиво дополняла внешне как будто и спокойный рассказ – передавала боль, пережитую девушкой, боль руки, закопанной под Берлином, и боль души, которую переживала Ванда сейчас и которая, наверное, останется на всю жизнь.
– …Прорвали оборону… Все пошли на Берлин. А нам задача – обойти его с севера. Танки Рыбалко… Первого Украинского обходили с юга. Остап Васильевич так и сказал… Был такой темп, Павел… такой порыв, что некоторые приказы передавали открытым текстом, я ехала в командирском «виллисе» с рацией. И тут новый приказ… Из Померании в Берлин прорывалась танковая дивизия СС. Надежда фюрера. Бригада развернулась на север. Пошли на сближение. Комбриг пересел в тяжелый танк. И меня взял. Там стояла командирская рация. Летчики передавали координаты дивизии. Они шли колоннами по двум параллельным дорогам. И мы пошли по этим дорогам. Разведрота столкнулась с немцами в каком-то городке… невыгодном для боя, как сказал комбриг. Мы отступили, выманили их на поле. Возможно, у них и не было на этой дороге больше машин, чем у нас. Но они рвались как бешеные. Они шли на таран… Как смертники… Как комикадзе… О Павел, это нужно было видеть! – Ванда снова тронула мягкую повязку на моей ноге и снова, будто уколовшись, отдернула руку. – Рассказать об этом невозможно! Танки загорались один за другим… Их… И наши. Наши тоже. Мы были в центре боя. Наша пушка сносила башни фашистских танков. Они, видимо, засекли командирскую машину. Я услышала их приказ – сбить машину комбрига. Их «тигр» таранил нас. Порвал гусеницу, сцепился с нашей машиной. Нас развернуло боком. И тогда они начали расстреливать и нас, и свой танк. «Тигр» загорелся первым. Фрицы начали вылезать из люка, но соседний Т-34 скосил их из пулемета. Снаряд пробил нам боковую броню. Убило водителя. Сивошапку ранило. И меня… Но он… Остап Васильевич вытянул меня из самоходки… смертельно раненный. Свалился на землю под танком и больше слова не сказал. Я пыталась перевязать его. Еще помню, около нас развернулся танк, поднимая пыль. Из башни высунулся Витя Масловский, бросил мне автомат и крикнул: «Живыми не сдавайтесь!» Наверно, критический момент был. За танковой дивизией, говорили потом уже в госпитале, шла дивизия мотопехоты… Остановили их наши «илы»… Полковник еще в танке приказал мне: «Проси открытым текстом авиацию!» Помню, как надо мною прошли первые самолеты… Так низко, что хотелось дотронуться до них рукой… Той, видимо, какой не было уже… мне раздробило кисть… А оттяпали вот как… по плечо… – Она повернула в мою сторону правое плечо с подушкой повязки под широким мужским кителем и как бы оправдывалась, что столько отняли: – Гангрена начиналась.
Я взял ее левую руку и прижал ее к своей щеке. Мне хотелось плакать, но я боялся слез, понимал: они больно ранят ее сердце.
– Не нужно, Павлик, – как бы догадываясь, что может случиться, попросила она.
Говорить… что-то говорить! О ней, о нас. Но не о ранении. Тогда не будут душить слезы и разговор станет спокойнее.
– Что тебя вынудило, Ванда?..
– А тебя что вынудило проситься ехать с ротой? Тебя же не посылали. Разве не так?
Отбилась знакомой логикой, против которой я и раньше не находил аргументов.
– А что с Виктором?
– Не знаю. Остап Васильевич умер в том же госпитале, где мне отняли руку, – грустно сообщила Ванда.
– Почему не передала нашим, что ты здесь?
– Боялась. Первым пришел бы ты… Так ведь?
– Мы поженимся, Ванда! Какое-то мгновение она молчала.
– Нет, Павлик. Какая я теперь жена! Хомут тебе на шею. Не хочу! Не хочу! – сказала с болью, с отчаянием, горько улыбнулась. – Как писали в старых романах: а счастье было так близко…
На нас наскочила медсестра. Разозленно набросилась на Ванду:
– Жмур! Мне за тебя доктор шею намылил. Вышла на полчаса, а гуляешь полдня. Сейчас же в кровать! Уже кавалера себе нашла! Вот же Евин род! – Будто сама не относилась к этому роду человеческому.
Ванда покорно и, показалось мне, охотно пошла за сестрой. Правда, спросила:
– Помочь тебе?
– Нет, я сам. Я на батарею пойду. – Показалось, что в глазах ее появилась новая грусть, и я успокоил: – На третью.
Незначительную новость, что Лика переведена на третью, не упомянул в беседе.
Старшая сестра была в тот день удивительно покладистая. Чуть ли не обрадовалась, что я могу пойти на батарею.
– Я тебя экипирую как жениха.
Дала китель, новенький, чужой, с лейтенантскими погонами. Точно знала, что мне накануне присвоили это звание. Призадумалась, как быть с брюками – на повязку не лезла штанина. Придумала: дала матросский клеш и матросский ботинок.
– Наряд… как раз для комендантского патруля.
– А ты не гуляй по Крещатику. Задворками иди. Задворки – немецкие огороды, дорога протоптанная.
И я поскакал на костылях по знакомым тропкам.
Батарейцы занимались неожиданным делом – за позицией, у сетки огородика, за кустами звонко распустившегося крыжовника, мастерили длинный стол. Часть его была составлена из полированных столов, видимо позаимствованных в ближайшем доме. Вторую половину батарейные столяры сбивали из досок. И скамьи сбивали. Строгали фуганками.
Работа эта показалась такой гражданской, мирной, что я даже захлебнулся от счастья еще на подходе. И люди, батарейцы, кроме разве сержантов-мужчин, ходили совсем не по-армейски. Особенно девчата. В первый же мирный день демобилизовали себя. Бегали из кухни к столу, перекликались и смеялись, словно перед деревенской свадьбой. «Деды», наоборот, ходили с важностью глав семей и с явной независимостью перед младшими командирами.
Встретили меня радостно, шумно. Девчата. Но обнять позволил себя только Савченко.
– Поздравляю тебя, герой. Знаешь, как Тужников тебя расписал. Молодец! Молодец, что пришел. В такой день! Как рана? А мы, видишь, устраиваем торжественный обед. На всю батарею. Ты как раз успел. И знаешь что выпьем за Победу? Французское шампанское. Мой шустрый старшина нашел в каком-то подвале целых семьдесят бутылок. Дюжину я послал Кузаеву, начальство надо ублажать. Мне еще служить, как медному котелку.
Командира третьей считали человеком гонорливым. Во всяком случае, нас, штабных офицеров, принимал он без внимания: пришел – занимайся своим делом и не мешай мне заниматься своим. Некоторые обижались, даже Колбенко высмеивал «удельного князя» с мужицкой пыхой.
Может, потому мне так приятна была Савченкова доброта – принимал меня действительно как дорогого гостя. Хотелось сказать ему про Ванду – его же подчиненная, но боялся, что он со своим настроением успеет пошутить так, что после моего сообщения о ее руке ему станет неудобно.
Девчата принесли полотнища белой ткани – застелить столы.
Савченко отрезал от каждой скатерти по лоскутку и каждый отдельно, щелкая зажигалкой, поджег.
Удивил меня.
– Зачем?
– Тут, брат, три дня назад была история. Не у нас. Вон на том химическом заводе. Там девчата наши, вывезенные сюда, ждут отсылки домой… приводят в порядок трофеи… Завод же военный. Так набрали они на складах этой белизны, нашили платьев. Невесты! А пришли к ним на танцы курцы наши… Чиркнули спичкой, и платья – как порох. Две девушки обгорели. Хорошо, ребята не растерялись, сорвали с них одежду. Шелк для снарядных пороховых мешков. От искры вспыхивает. Так я теперь проверяю все трофеи… любую одежду, даже шитую. Вася мой мог притянуть что хочешь.
Я слушал комбата, смотрел, как девчата несут из кухни вкусные кушанья на красивых фарфоровых блюдах, а сам искал глазами Лику. Нигде ее не было видно. Встревожился. Выбрав минутку, когда хозяин отвернулся, пошел по позиции, до дальномерного окопа. Меня перехватила связистка Поля Копыток – девчата догадливые:
– Вы ищите Иванистову? Она там, в огородике.
Странно, все готовят стол, а она одна в огороде. Почему? Постарался незаметно от Савченко, от девчат прошмыгнуть через продранную сетку в огородик. И там, за кустами смородины, нашел Лику. Она сидела на низенькой лавочке и… плакала.
Ее слезы больно ударили в сердце; подумал про ее отца: неужели погиб? Перед самой Победой…
Лика почувствовала взгляд, подхватилась. Увидела меня – удивилась и, кажется, обрадовалась.
– Вы? Павел! Ой, простите, товарищ лейтенант! Как ваша нога?
– Вы плачете? В такой день! Что случилось? Кто вас обидел?
По-детски, кулачком, вытерла глаза, испуганно ответила:
– Нет, нет, никто.
– От радости плачут на людях. А вы спрятались за кусты. У вас – беда? Какая? Скажите.
Лика на мгновение задумалась. Ступила ко мне, пристально вглядываясь вспухшими от слез глазами.
– Скажите, Павел, как вы думаете… Теперь, когда войны нет, можно будет поехать… в Финляндию? Позволят?
Как обухом ударила. Оскорбила. Любых слов ожидал, любого признания, обиды, но только не этого. И в такой день она думает, как бы поехать в Финляндию! Разозлился я, грубо спросил:
– Что вам далась та Финляндия?! Сколько они убили наших!
Лицо ее скривилось, как от боли.
– Боже мой! Какие вы недогадливые. Сынок у меня там. Сынок! Два годика ему.
– И муж? – все еще сурово спросил я.
– И муж.
– Офицер?
– Солдат. Был солдатом… Как я испугалась, когда вы убили того…. Подумала: мой мог искать меня…
Отхлынула моя злость. Передо мной стояла мать. Почти год она жила среди нас, а думала о своем ребенке. Вспомнил Зуброва. Все он знал. А о том, что женщина имеет ребенка, не мог узнать. И это при том, что в пулеметной роте служила Эва Пюханен, вместе с Ликой учившаяся в Хельсинки на учительских курсах. Какая верность! И какое умение молчать. Неженское. Или, наоборот, женское?
Я засмеялся почти весело. Над Зубровым. Над Даниловым. И над собой. Над своими, пусть и туманными, снами.
Лику испугал мой смех. Она ожидала ответа: позволят или не позволят?
Подумал про закон о запрещении браков с иностранцами, но успокоил:
– Конечно же вам позволят.
Пришла Ирина, жена Савченко.
– Вот где вы, голубки. А вас ищут. Пойдем выпьем за Победу. Было бы мне можно, напилась бы я…
Ирина полностью демобилизовала себя. Надела широкое красивое платье. Но и под тканью, свисающей свободно, было видно, как она покруглела.
Я смотрел на ее живот, как на великое чудо природы. Ирина была не из стыдливых, хотя и татарского происхождения. И на язык острая. А тут смуглое лицо ее запунцовело.
– Что ты смотришь так на меня? Беременной бабы не видел?
Смутился я. Сказал игриво:
– Позволь тебя поцеловать.
Ирина погрозила пальцем:
– Ну, ну! Знаешь, какой ревнивый мой Савченко!
А мне не губы ее с золотым пушком хотелось поцеловать. Хотелось стать на колени, припасть ухом к ее животу и услышать… Новую жизнь. Человека услышать. Бессмертного.








