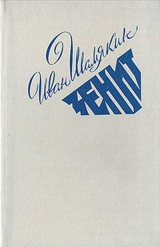
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 33 страниц)
– Без фантазии ты человек, Павел.
Ванда поднялась. Крупицы гравия впились в колени, она не обтрясла их – заняты руки: в ладонях держала мокрый песок. В правой руке показала его мне.
– Моя земля!
– Объявляешь, как королева. Нашлась собственница! Сошла из теплушки мессия!..
– Павел! Я думала о тебе лучше. Есть платок? Дай. Я завяжу в него горстку земли, к которой притронулась впервые, и буду носить с собой… у сердца. Как талисман.
Я понимал Ванду. И меня растрогало ее целование земли и эта горстка гравия, которую она держала как хрупкое сокровище. Я сказал: «Прекрати спектакль!» Но мне не казалось это игрой, рассчитанной на публику, хотя знал, что играть Ванда умеет и любит; иногда трудно разобраться, где она серьезная, а где паясничает.
Из теплушек не выглянул ни один человек. И на путях пусто. Только на одном, у разбитых вагонов, стоявших в конце станции в тупике, ходил боец в тулупе: на крыше под камуфляжным чехлом – знакомый по очертаниям зенитный пулемет.
Вряд ли перед Тужниковым Ванда устраивала бы представление. Нет. Это зов сердца. Ее лихорадит от волнения. Конечно, не тепло, а мы в одних гимнастерках. Но говорит она, чуть ли не захлебываясь:
– Ты посмотри, что там!
– А что? Здание станции.
– А на здании что?
– Где? Над дверью – флаг.
– О боже! И флаг! Я и не увидела флага! Посмотри, какой он! Красно-белый.
– Польский, да?
– Польский! Польский, Павел! Но название! Посмотри, что написали на стене!
На торцовой глухой стене красного здания аршинными неровными белыми буквами написано название станции. Вероятно, немцы переименовали ее – сверху, над крышей, торчал ржавый каркас вывески.
Прочитав каждую букву отдельно, я произнес что-то нескладное, несуразное.
Ванда засмеялась.
– Кжыжовец! Кжыжовец! Как звучит! Как звучит! Я выглянула из теплушки… прочитала… И едва сознание не потеряла, Павел! Ты не знаешь. Я от самого Полоцка не сплю. Я боялась проспать встречу с землей моих предков. Как я рада, что встретила так. В такое утро! И никто мне не помешал…
– Я не помешал?
– Нет, нет. Я довольна, что ты увидел мою встречу, Павлик. Ты должен знать… – Ванда сделала паузу, словно задумалась – что я должен знать? – Мою верность… земле этой… земле той, где я родилась и выросла… И… и… тебе…
– Ванда, не говори красиво.
– Ты сухарь, Павлик. Ты сухарь. Схимник. Как твой замполит. Дай платочек. У тебя нет платочка? Недотепа ты мой! Я сделаю тебе сотню платочков.
Сыпала слова как горох, смеялась и дрожала вся от возбуждения и холода. Я оглянулся на вагон. Тужников стоял все так же у окна, не сводя с нас глаз. Что было бы мне, подставь я Ванде платочек под ее горсть гравия?! Счастье, что замполиту не стукнуло перейти к открывающемуся окну – перевели его в летнее состояние закаленные в Заполярье любители свежего воздуха. Услышав наш разговор, какие политические выводы он сделал бы? Я взял Ванду за локоть:
– Пошли.
– Куда?
– Туда, – показал я на станцию.
Тогда она тоже глянула на наш вагон, увидела нахмуренного Тужникова, снова засмеялась и чуть ли не вприпрыжку двинулась вдоль длинного состава.
– Ты умница, Павлик.
– То сухарь, то умница?
– Мне захотелось показать ему язык.
– Кому?
– Комиссару.
– Осчастливила бы ты меня.
– Я подарю тебе счастье, любимый мой! Знал бы ты, какое счастье! Не обращай внимания на язык мой. В сердце мое загляни. У меня золотое сердце, Павел.
– Самое ненадежное.
– А тебе какое нужно – железное? Чтоб ржавело? Дурак!
Вот так всю дорогу – то «любимый», то «дурак».
В дивизионе, благодаря Вандиному языку, считали нас женихом и невестой и с большим интересом наблюдали наши необычные отношения. Между прочим, последнюю неделю мы почти не разговаривали – Ванда злилась на меня.
…Стояли на каком-то разъезде. Послушали по радиоприемнику «От Советского Информбюро». Наши войска вышли к Одеру, захватили плацдарм на западном берегу. До Берлина восемьдесят километров. Всего восемьдесят!
Мария Алексеевна расплакалась от радости, слушая взволнованно-торжественный голос Левитана.
Офицеры – все стратеги! – спорили о сроках штурма фашистского логова, о планах ближайших операций, некоторые с такой уверенностью и апломбом, будто были по меньшей мере адъютантами Жукова. А я пошел по теплушкам рассказывать бойцам последние новости. Начал с дальних и уже довольно поздно, чуть ли не после отбоя – хотя какой отбой в дороге? – заглянул в теплушку, где командовала Ванда. Меня всюду встречали хорошо – в дороге все полюбили политинформации, даже те, кто обычно увиливал от них. Но особенное пристрастие у меня было к этой теплушке. Мужчин размещали побатарейно. Девчат же Муравьев, составлявший экспозицию размещения в эшелоне, перемешал небездумно, точно знал, что впереди долгая дорога. В этом вагоне ехали прибористки первой батареи, обслуга СОН, телефонистки штаба. Самые образованные девушки.
«Антилегентки», – с некоторой ревностью обзывали их малограмотные «деды». С этими девчатами было интересно. И весело. С одной Вандой не заскучаешь. А там еще была хохотушка Таня Балашова и серьезные эрудитки Лика Иванистова и Женя Игнатьева. Теплушка за три дня так спелась – в прямом смысле, что на четвертый девчата дали концерт на большой станции, где их слушали не только свои, но и бойцы других эшелонов; раненые из санитарного поезда на костылях ковыляли к перрону, из городских землянок шли гражданские – женщины, дети. Скупой на доброе слово Тужников при мне посоветовал командиру объявить младшему лейтенанту Жмур благодарность в приказе по дивизиону.
Днем паровоз давал свистки: собирал людей, чтобы никто не отстал – за этим очень строго следили. А посреди ночи зачем людей будить, решил, видимо, дежуривший на паровозе офицер. И дрова явно хорошие были, пар нагнали. Состав тронулся плавно, сразу набрал скорость.
Обитатели теплушки весело зашумели:
«Девочки! Будем тянуть жребий – с кем комсорга уложим спать».
«Даст тебе Ванда жребий! С собой уложит».
«Балашова! Разговорчики! Снова будешь дневалить у печки».
«Товарищ младший лейтенант! Ложитесь между мной и Розой. Во нагреем – до конца зимы не остынете».
Хохот. Бесстыдницы. Только отпусти дисциплинарные вожжи – они тебя сразу захомутают. А «вожжи» – как их набросишь в такой ситуации? Даже Ванда и та растерялась: неловко командирскую власть употребить. Попробовала – не вышло. Таня очутилась около меня и на Вандину угрозу ответила с непозволительной фамильярностью:
«С Павликом готова дневалить хоть все ночи. Позволь!»
Ванда понимала: цыкни – и вызовешь огонь на себя. А я вообще на своей должности утратил командирскую строгость, за что неоднократно получал нагоняи от Тужникова. На мужчин еще мог повысить голос, ну а этих солдат умел только увещевать. Дураком, вроде Унярхи, выставил бы себя, скомандовав «Смирно!» в вагоне, посреди ночи. Сам же позволил им на беседе сидеть с расстегнутыми воротничками, без ремней. Некоторые, разувшись, забрались на верхние нары.
Ванда сменила тактику:
«Ладно… почесали языки, и хватит. Пора спать».
Девчата притихли: интересно все же, где она уложит меня?
«Кто у нас дневалит? Клава? Можешь спать. Мы с комсоргом посидим у печки».
«Хитрая!»
«На то она и полька!»
«Девчата! Вы меня выведете из терпения. – И строго приказала: – Отбой!»
Подошла к «летучей мыши», опустила фитиль, так что огонек едва выбивался. Теплушка утонула во мраке. Но затихла не скоро. Возбужденные радостной информацией и своими потаенными думами, не у всех веселыми, не утомленные физически – некоторые и днем спали, – трудно засыпали зенитчицы. Шептались, вздыхали, ворочались.
Стучали колеса на частых стыках порванных рельсов. Раскачивался, скрипел, как старый инвалид, вагон. На ходу быстро остывал. Ванда подбросила в «буржуйку» дров. Сквозь щели печки пробивалось пламя, отблесками мелькало на потолке, на стенах.
Мы сидели на чурках вдалеке друг от друга, по разные стороны раскалившейся, пышущей жаром печки. Молчали. Начни мы шептаться – сколько ушей навострится, о сне совсем забудут.
Я надеялся, что на следующей станции состав остановится. Не остановился.
Прошло неизвестно сколько времени. Начало клонить в сон. Я клевал носом и, посрамленный, вздрагивая, просыпался. Самый широкий отблеск через щель дверцы падал на Ванду, и я хорошо видел девушку. Она улыбалась мне бледными губами и огненно-искристыми от сполохов пламени глазами. Один раз сказала:
«Не спи».
В другой раз – почти иронически:
«Отодвинься от печки».
Бывает же такая напасть: когда не нужно, он одолевает, всемогущий сон. Наверное, я снова заснул, потому что не видел, когда Ванда села рядом. Услышал, что она обняла меня. Сон сразу отлетел. А она сказала:
«Спи, я буду держать тебя».
Какое там «спи»! Ничего себе рыцарь, заснувший в объятиях девушки! Хотел подняться, но Ванда не отпускала. Сообразила, что теперь мне не до сна.
«Поцелуй меня».
«Девчата…»
«Спят. Три часа ночи».
Повернул голову и деликатно прижался губами к ее щеке. Ванда тихо засмеялась:
«Разве так целуют? Ангелочек ты мой!»
Обхватила голову и впилась губами в мои губы. Целовала взасос. Задыхалась сама. Задыхался я.
Одна все же не спала и… тяжко вздохнула – от зависти или от девичьей тоски по любви?
Ванда отпустила мою голову и сказала почти вслух, деловито:
«Ложись спать, а то нос подпечешь. На мое место. Кажется, наконец поехали как люди».
Пусть та, вздыхающая, подумает, что поцелуй наш ей приснился.
Не добавляя в фонаре огня, Ванда за руку подвела меня к нарам:
– Вот здесь.
Место ее было на нижних нарах, крайнее, у стены. Еще в первый день дороги я обратил внимание, что, не в пример другим командирам, выбрала Ванда не самое теплое место – стены теплушек при сильных морозах промерзали настолько, что на них выступал иней. Растрогав заботой, предупредил ее, чтобы не простудилась. Однако по налаживанию жилья, быта девчата практичнее, чем даже запасники третьей категории – отцы семейств. Дня через два в Вандином вагоне стенки под нарами были утеплены соломенными матами. Где взяли – держали в секрете. Конечно, не украли – выпросили у бойцов чужого эшелона. Одна Таня Балашова может работать за трех цыганок – сам Данилов так пошутил на ее счет. Никто из нас не мог догадаться о назначении соломенных плетенок. Для утепления, ясно. Но чего, каких сооружений? А потом Ванда достала старое одеяло – тут уж Кумков расщедрился – и еще лучше утеплила свою постель. Смеялась: «Я как принцесса на горошине».
Снял валенки и тихонько, чтобы не разбудить соседки, забрался на нары. Ванда заботливо накрыла меня кожухом – в печурке потухло, и в вагоне похолодало.
Действительно, мягко, уютно – лучше, чем в купе на жесткой полке. Но что это? Сквозь густой настой теплушечных запахов – овчины, соломы, валенок, чулок, портянок, дыма, чада, чугунной окалины и всего прочего, чем может пахнуть там, где живут, едят, спят десятки людей, пробивался необычный аромат – тот, услышанный мною в театре, когда сидел рядом с Ликой, – чистый, прозрачный и вправду лесной – сосны, чебреца, земляники и… меда. Правда, меда. Вот наваждение! Когда-то она пошутила, что пахнет медом, и я ощущал этот запах даже здесь, в вагоне. В театре думал, что пахнет надушенный платочек. А тут что? Выходит, и там не платочек пахнул, а сама она. Так догадался я, что рядом со мной Лика. И показалось, что лечу в синюю пропасть, в прозрачное карельское озеро. Радостно от полета – даже голова закружилась – и страшно: что ожидает в пахучей сини? Словом, взволновался я от этого соседства на нарах необычайно. Когда целовался с Вандой, не замирало так сердце и не колотилось бешено. А тут – сорвалось, точно неразумный щенок с поводка, мчит под гору и… вот-вот кувырнется с обрыва в неведомый омут.
Подумал, что такой стук моего сердца и Ванда, пожалуй, может услышать, но не испугался – засмеялся про себя. От радости засмеялся. Но затаил дыхание, услышав, как дышит она – Лика.
Матка боска, как говорит Ванда! Ну и чары же у этой девушки!
После трагического финала любви Пахрициной я настроился против Иванистовой: она виновата, пусть и косвенно. Согласился с Колбенко, что от такой опасно соблазнительной особы лучше избавиться – не случилась бы еще какая беда. За самоубийство Любови Сергеевны политотдел и особый отдел корпуса трясли нас целый месяц, из лучших по политработе зачислили в последние, что для Тужникова было почти трагедией, он едва удержался на своей должности. Но – странно – после того не обозлился, наоборот, подобрел, однако утратил решительность, ничего не брал на свою ответственность.
Не я – скорее всего, Данилов или, может, кто-то другой из офицеров, наверное, застрелил бы «князя», если бы мудрый Кузаев под охраной караульных не отправил его на гарнизонную гауптвахту. И на похоронах не позволил присутствовать.
Не мог не сказать я Данилову, что начальство намерено отослать Лику в другую часть. Без того смуглый цыган еще больше почернел лицом. Начал просить… просто молить, даже неловко за него стало, чтобы повлиял я на Колбенко, на Кузаева – не отсылать ее. Константина Афанасьевича я уговорил – согласился оставить девушку, хотя и пригрозил: «Ох, влипнешь, Павел. Ох, влипнешь!»
Угроза его мне подсказала хитрый ход: пусть считают влюбленным меня, тем самым отведу подозрение от друга моего Данилова. Но с командиром на щекотливую тему говорить не отважился – боялся его грубоватого сарказма, поговорил с его женой, с женщинами о сердечных делах говорить легче.
Антонина Федоровна удивилась:
«А Ванда?»
«Сердцу не прикажешь».
«Это правда: сердцу не прикажешь. Но скажу вам честно, Павел, мне жаль вас: такая красавица – не из тех жен, что приносят счастье».
Удивило пророчество опытной женщины.
«Почему? Она все умеет».
«Вам что, работница нужна?»
«Не выдавайте меня, пожалуйста».
«Ваша тайна останется между нами».
Расчет был точен: Кузаев сохранил тайну, доверенную женой, а идею избавиться от Иванистовой на второй же день, как говорят, сняли с повестки дня.
Мои чувства к Лике были сложные, противоречивые: все же считал ее виноватой в смерти Пахрициной, при встречах появлялась даже какая-то глухая неприязнь к ней. Два с половиной месяца я избегал и минуту остаться с ней наедине, просто боялся, наверное. Даже здесь, в эшелоне, при беседах в их теплушке старался не смотреть в ее сторону, ничем не выделять ее из всей вагонной команды.
И вот снова тот дивный запах! Таким хмелем ударил в голову, что от всех других чувств не осталось и следа – только одно радостное волнение, как от опиума, и волнующее ожидание чего-то очень необычного.
И оно произошло. Как-то невзначай… честное слово, неосознанно… моя рука нашла ее руку. Едва дотрагиваясь, я погладил ее мягкую ладонь. И сердце мое на миг остановилось, но тут же снова бросилось вскачь: Лика шевельнулась и… легонько сжала мои пальцы. Может, во сне… Может. Но все токи ее тела через руку влились в меня. Большим счастьем я до того никогда не упивался. И ничего не нужно было – только этот опьяняющий запах леса и меда, заглушающий теплушечий смрад, и чудодейственный ток ее крови, который, казалось мне, я чувствовал всем своим существом. Наивный фантазер! Странно, что и мыслей, представлений, мечтаний особенных не было. Наступила какая-то умиротворенность. Только почему-то подумалось, что такое состояние будет в первую минуту мира.
Не выпуская ее руку, я уснул.
Разбудила меня Ванда, грубовато потянув за ногу:
«Иди в свой вагон. Я хочу спать».
Не сразу стряхнул я чарующий сон, прогнал хмель. Где я? В какой сказке? Тишина. Не гремели колеса. Молчало сердце. На стенах и потолке зыркали сполохи. Ах, печка!.. От нее дышало жаром. И фонарь горит ярче.
«Не может проснуться ребеночек», – хмыкнула Ванда.
Наконец сообразил, где я, что со мной. Но быстрее в свой вагон, пока состав стоит!
Сунул босые ноги в валенки, портянки – в карманы брюк. Не надевая кожух, открыл тяжелые двери, прыгнул в мягкий пух. Шел снег. Вьюжный. Холодом обдало голову. Выскочил без шапки. Нужно забрать, а то будет повод для зубоскалов: комсорг забыл у девчат шапку. Постучал.
«Чего тебе?» – высунулась Ванда.
Долго искала мою шапку, хотя висела она на гвозде у двери – всегда вешал там. Не подала – выбросила на снег.
«Голову не забыл? – И, наклонившись низко, так что голова ее очутилась на уровне моей, тихо сказала: – Поросенок ты, Павел. Со мной целуешься, а ручку гладишь другой».
Заметила-таки, кошка, и в потемках! Но ее упрек только развеселил. Я чуть не рассмеялся. Все еще опьяненный, с наслаждением прогулялся вдоль состава. Остыл. Только в своем вагоне немного встревожился: не начала бы Ванда мстить невинной Лике. В дороге они подружились. Неразлучная пара. Мне нравилась их дружба.
Нет, на долгих стоянках по-прежнему младший лейтенант и ефрейтор все время гуляли вместе. А со мной Ванда не разговаривала. Даже оскорбила. Днем я хотел зайти в их вагон. Ванда задвинула перед моим носом дверь, едва руку не отдавила.
«К нам нельзя. Мы ищем вшей».
В вагоне захохотали. Явная ложь ее, по-солдатски грубая, неприятно поразила и обидела. «Подожди же! Ты еще поскачешь!» И несколько дней обходил их вагон, удивляя других девчат.
Примирила, сняла мелкие обиды трогательная встреча Ванды с землей. Смешно дуться друг на друга из-за того, что погладил не твою руку или из-за нелепой выдумки перед величием того, что происходит в мире и в наших душах.
Из здания станции вышел железнодорожник – дежурный – в красной фуражке, в фирменной шинели; форма мне знакома: в сороковом году с группой комсомольцев педтехникума ездил в Западную Белоруссию.
Ванда ошеломленно остановилась:
– Ты посмотри! Посмотри! Какой он!
– Человек как человек.
– Нет! Таким я и представляла первого встреченного мною поляка. Он похож на короля Казимежа.
Наиболее приметное, что и вправду делало его похожим на стародавних шляхтичей, у дежурного было разве что одно – усы, рыжие, пышные, на концах распушенные метелочками, они закрывали щеки и чуть ли не достигали ушей.
– Я поцелую его! Подержи землю.
– Слушай! Может, хватит твоих фокусов? Майор смотрит.
– Пусть смотрит. На землю!
Высыпав в мою ладонь гравий, Ванда подбежала к железнодорожнику, но в пяти шагах остановилась. Я догнал ее.
Человек с прошлого года встретил тысячи советских эшелонов, видел и генералов, и бойцов-девушек, и его ничего уже не удивляло, ничего не интересовало, кроме служебных обязанностей. Но не обратить внимания на Ванду нельзя было – так она смотрела. Спросил по-русски:
– Товарищам офицерам что-то нужно?
– Я хочу пана поцеловать, – сказала Ванда без тени шутливости, даже без улыбки.
А я почти обрадовался, что все понимаю по-польски.
– Пани хоружая полька?
– Так.
Железнодорожник залихватски подкрутил усы.
– О, то какой поляк не почувствует себя счастливым от поцелуя такой жечной паненки? Я Марысе своей не побоюсь сказать, всему селу похвастаюсь. Чэсь! Ты еще мужчина!
Ванда приблизилась к нему торжественным шагом, осторожно обняла и… поцеловала усы – левый, правый, потом лоб под блестящим козырьком фуражки – точно перекрестила поцелуями.
Служака застонал от удовольствия.
– О матка боска! С каких краев… пшепрашем, паненка… пани?
– Из Архангельска. Я восемьдесят лет не была на этой земле.
Железнодорожник не удивился, только снял с лица игривость, от серьезности сразу постарел, даже плечи опустились и усы обвисли.
– О, как я разумею товарища! Проклятые боши вывезли меня на работу в Неметчину… и когда я, измученный, вернулся через три года, я шел на коленях отсюда до своего села… вон два тополя. Я целовал и землю, и каждое деревце. А как целовал мою Марысю! Моих деточек! Я неделю плакал от счастья. А что творилось, я вам скажу, когда прошлым летом пришли Советы и с ними эшелоны с Войском Польским. Люди шли за двадцать… за тридцать километров… спали здесь, на перроне, только бы увидеть польского солдата. О, еще Польска не згинела!..
– Где мы находимся? – спросила Ванда.
– В тридцати километрах от Менска, – понял я и удивился.
– Какого Минска?
– Не бойся. Не твоего, – возбужденно засмеялась Ванда. – Моего. Мозовецкого.
Это мне не понравилось. Хотелось бросить землю, но не отважился – решил не оскорблять Ванду.
В холодном и пустом зале ожидания я дал ей свой грязноватый платочек. Ванда разостлала его на скамейке с вензелем на спинке – буквами «КР». Я высыпал гравий. Она завязала в узелок, сунула за пазуху, упрекнула меня:
– Сколько рассыпал, недотепа.
– Тебе нужен пуд? Что такое КР?
– Колея панствова. Железная дорога государственная. – Ванда счастливо засмеялась.
– По-моему, ты больна национализмом.
– Больна.
– Не очень-то носись со своей болезнью, а то Тужников быстро вылечит: вызовет на партбюро. Скажи спасибо, если целование земли простит.
Ванда помрачнела, затихла. Когда возвращались назад к своим вагонам, неожиданно и как-то беззащитно, что очень удивило меня, попросила:
– Защищай меня, Павлик. Стереги. Я – сумасшедшая…








