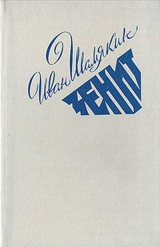
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 33 страниц)
4
Необычное событие: к Муравьеву приезжает семья. Позволил командир корпуса.
Странно, это взволновало… если не весь дивизион – батареи далеко, то штабные службы все. Особенно девушек.
Я понимал их – сам разволновался как-то непривычно из-за неожиданного и нового события. Были у нас семейные, но без детей. Еще в Мурманске бывший заместитель командира дивизиона по артобеспечению Суходолов вызвал жену аж из Ташкента – «города хлебного» и теплого. Призвали ее в армию, чтобы зачислить на довольствие, учили на машинистку – не научили, сидела связисткой при штабе. Не выдержала женщина нашей жизни – заболела. Некоторые считали симуляцией, я так не думал: видел ее вначале и через полгода службы, пусть себе и у мужа под крылом – исхудала, поблекла, бомбежек сначала не боялась, а после попадания бомбы в артсклад дивизиона – дрожала, под стол лезла. Не выдержали нервы. Комиссовали ее. Два командира – пулеметной роты и огневого взвода второй батареи – женились на своих подчиненных, официально объявили девушек женами, в загсе оформили в Кандалакше. Добрый Кузаев, даже из безмужней беременности не делавший проблемы, не без влияния, конечно, непримиримого Тужникова, обоих командиров быстренько сплавил в новый полк – чтобы не подавали дурной пример. «А так полдивизиона переженится», – не скрывал своего отношения к «женатикам» замполит.
И вдруг – дети, две девочки, одиннадцати и семи годков. Как только Тужников согласился? Или у него не спросили?
Это – из наших с Колбенко рассуждений. Но всего я не высказал даже ему. А в общем, казалось бы, самое будничное событие действительно взволновало. Странно. Что я, детей не видел? В Мурманске после пожара их мало оставалось, кажется, всего одна школа работала. А тут, в Петрозаводске, хожу через город на батареи и радуюсь, что с каждым днем, с каждой неделей на улицах все больше встречается детей. Так почему меня так волнуют дети начальника штаба? Не дети. Сам факт их появления в боевой части. Двойственное чувство родилось. Радость: они же как первые ласточки весны – предвестники мирной жизни, когда в гарнизонах командиры жили с женами, детьми, старыми родителями. И тревогу: однако же продолжается война, самый победоносный этап ее. Красная Армия вступила на земли Германии, Румынии, освобождает Польшу; у Ванды Жмур нет сейчас иной темы, кроме освобождения многострадального народа. «Моего народа», – говорит она. Когда я попытался доказать, что давно уже в ней не осталось ничего польского, – чуть ли не с кулаками, сумасшедшая шляхтянка, полезла. И Ванда, и Женя (даже Женя!), и Глаша, и Виктор Масловский, и Семен Тамила, и Данилов, и все сержанты, все молодые офицеры, кроме разве что какого-нибудь тюленя Унярхи или «дедов», – все не теряли надежды, что дивизион перебросят на такой фронт, такой участок, где найдется «работа» – жаркая, как в Мурманске… ну если не по танкам, то по самолетам наверняка. Поразмыслив, я, конечно, уразумел, а Колбенко словами высказал: нездоровые у наших мечты – о налетах, о бомбежках доверенных нам объектов, части, нас самих – дай только пострелять, удаль показать, умение свое – как же: разведчика сбили. Научились! Ясно, научились. Но налет врага – неизбежные жертвы. Неразумно забывать о них в ослеплении «спортивного азарта», как говорит парторг.
И, однако, хочется… ой как хочется! – в то время, когда будем «добивать зверя в его берлоге», находиться в первых рядах, а не сидеть в тылу… в глубоком тылу.
А разрешение командира корпуса офицеру привезти детей невольно наводит на мысль, что дивизион намерены держать здесь. Конечно, столицу республики, железнодорожный узел, озерный порт прикрывать нужно: до Финляндии рукой подать. Но все же тыл здесь уже! Тыл! После налета на станцию, если не считать меткого огня одной батареи по разведчику, месяц молчат наши пушки. У командира орудия сержанта Денисенко затвор заржавел. Тужников, как выявил, закатил и ему, и комбату второй батареи на полную катушку. ЧП! Мне нужно созывать бюро, чтобы добавить Денисенко по комсомольской линии. На выговоры не скупимся.
Замполит требует, чтобы «боевые паузы» были заняты политработой – не упал бы боевой дух. Носится с батареи на батарею, на пулеметные, прожекторные установки – всех знает, во все вникает. Колбенко тоже не сидит в штабе, любит батарею Савченко, но я-то знаю, что он чаще рассказывает офицерам веселые эпизоды своей довоенной работы, чем читает доклады. А у меня от политинформаций, бесед немеет язык. Хорошо, есть о чем рассказывать: наступление наших войск, наступление союзников во Франции. Освобожден Париж! А про Париж я много читал, много помню. Даже эрудитка Иванистова слушает с интересом.
…На полевую почту телеграмму дать нельзя. Кузаев, узнал я позже, договорился с военным комендантом города, что жена Муравьева пошлет телеграмму на комендатуру.
По какой-то надобности я очутился на узле связи, когда телефонистка записывала телефонограмму из комендатуры: «Муравьеву. Выезжаем Москвы десятого восемь вечера. Втречай. Маша» – и высказала удивление, протягивая бумажку мне:
– Вы что-нибудь понимаете, товарищ младший лейтенант?
Я не знал о разрешении и вызове. Но слышал, как частенько горевал добрый учитель Иван Иванович: «Ах, Маша, Маша! Как она там, бедняжка?» И о девчатах своих рассказывал. И вдруг: выезжаем. С детьми? Ошеломило меня прочитанное. Показалось мистификацией. Почему из комендатуры?
И я пошел сначала к Кузаеву. Передал телефонограмму, конечно, с хитростью: от командира можно узнать больше, чем от самого Муравьева.
– Не понимаю.
– Чего ты не понимаешь? К человеку едет жена.
– С детьми? – Удивление мое было искренним, и Кузаев заметил его.
– Чему удивляешься? Голодает, брат, семья. Двоих детей дивизион как-нибудь прокормит. Неси деду телеграмму. Пусть порадуется.
С той минуты и соединились во мне радость – за доброту человеческую – и тревога, что отвоевались мы, не светят нам решительные бои, «стрелять» нам больше по условным самолетам да совершенствовать политработу.
Муравьеву было всего сорок, но то ли потому, что призвали его на втором году войны, как запасников последней категории, то ли из-за его явно гражданского вида, типично учительского, не только Кузаев и Колбенко (Тужников и Шаховский такого не позволяли – один верен служебной этике, другой аристократизму), но молодые офицеры и даже рядовые называли его дедом. Он знал об этом и только усмехался. Получал, наверное, в школе разные прозвища.
Муравьев не столько обрадовался, сколько испугался, когда я торжественно и весело (чуть не пошутил: «Танцуйте, товарищ старший лейтенант!») вручил ему телефонограмму.
– Ах, Маша, Маша! Так поспешно, так поспешно. Ничего же не готово. – Бумажка дрожала в его руках.
– А что нужно, Иван Иванович? – вырвалось у меня гражданское обращение. – Я помогу.
Он – почти испуганно:
– Нет, нет. Я сам, я сам. Ничего не нужно, голубчик.
– Да вы хотя бы знаете, когда поезд придет?
– Да, да, поезд. Когда он придет? Выехали вчера…
– Позвольте. Я попробую узнать. Пойду на станцию…
– Спасибо вам, дорогой мой, спасибо. – Он возбужденно ходил по заставленной планшетами комнате, поднес телефонограмму к близоруким глазам, точно пряча их от меня, и сказал так, что и у меня едва не брызнули слезы: – Анечка же едет! Анечка! Маленькая моя…
В прифронтовой зоне движение всех поездов держалось в секрете. Да и было ли оно, расписание пассажирских поездов? Было, конечно. Но сомневаюсь, что хотя бы один поезд пришел точно.
Я пробился к начальнику станции. «Четверток» наш стоял у него на чердаке диспетчерской. Не однажды установку смотрел сам Кузаев. Мы понимали: тянет командира на станцию. Естественно, он познакомился со своим коллегой: довоенного начальника вернули из армии. Разве железная дорога не армия?
Имея шифровки, начальник догадался, о каком поезде идет речь. Но когда он прибудет, один бог знает.
– Когда из Ленинграда выйдет, тогда скажу. Приблизительно.
Вернулся я из первого похода на станцию, а штабные службы уже гудели: к Муравьеву едет семья! Странная взволнованность! И многие, так же как и я, предлагали начштаба свои услуги: убрать, помыть, несли в подарок, как имениннику, гравюры финские, трофейную посуду, кто-то даже куклу принес. Женя ходила на первую батарею – в теплицу за свежими гвоздиками; на клумбах перед штабом августовские цветы отцвели, потеряли вид. Все эти заботы и заинтересованность многих людей очень смущали Ивана Ивановича, и без того растерянного от неожиданного счастья. Он не привык к вниманию, до того был самый незаметный офицер, даже от ординарца отказался, хотя имел право на него.
«Не могу я, чтобы кто-то прислуживал… Я все умею сам».
Шахновский тогда снисходительно назвал его народником, что не понравилось Колбенко: дескать, аристократическое высокомерие по отношению к простолюдину.
Парторг – знаток человеческой психологии – немного иронично наблюдал всеобщую суету. Над моими заботами посмеивался.
– Хороший ты человек, Павел, но характер у тебя бабский. Или ты тут обабился со своим девичьим войском? С кем поведешься, от того и наберешься.
Я не обижался. Бабский так бабский. Радовался своим переживаниям и тревожился – за себя и за всех: очень уж это новое в настроении, очень уж мирное. Я даже спал тревожно, просыпался за ночь раз двадцать; так спали в Мурманске, когда затихала метель и мы ждали, что через час-два они прилетят. Еще так спят, когда боятся проспать дальний поезд.
Утром я сходил на станцию и принес примерное время прибытия поезда: три-четыре часа дня.
Муравьев поехал встречать своих на «виллисе», когда вернется – никто не знал. Однако же – вот удивительно! – стоило «виллису» остановиться перед штабом, свободные от дежурства рядовые, сержанты и даже офицеры штаба и тыловых служб очутидись на улице. И я. Словно интуиция подсказала быть здесь, выйти из помещения как раз в этот момент.
Иван Иванович выскочил из машины первый и, подставив руки, подхватил на них маленькую девочку, такую худенькую, что, казалось, светилась насквозь, только лицо желтенькое и большие-большие недетские глаза, которыми она проницательно осматривала новый мир – нас, военных. Попыталась улыбнуться, но улыбка получилась жалкая. Байковое старенькое, но не латанное еще платьишко было явно не с ее плеча, не по росту, видимо, старшей сестры.
У меня сжалось в груди: неужели девочке семь лет?
В тот день похолодало. И худые женские руки из машины протянули плащ.
Иван Иванович под взглядом десятков людей любовно закутал в старый залатанный плащ свою Анечку.
Вышла из машины мать, маленькая и такая же худая женщина в стареньком платье. Зацепилась за подножку, свалился туфель, тоже, видимо, не с ее ноги, и она ужасно смутилась. Иван Иванович наклонился и надел жене туфлю. Ее это еще больше смутило.
Любовь Сергеевна Пахрицина, стоявшая рядом со мной, как-то странно ахнула – точно всхлипнула. Из-за машины вышла старшая девочка – Валя. Ростом с мать, с длинной косой, она не казалась такой исхудавшей, может быть, потому, что одета была в шерстяную кофту, снова-таки не по размеру – великоватую. Валя несла небольшой узел в клетчатом платке.
Муравьев взял из машины потертый чемодан. Легко взял, легко понес – как пустой. И семья пошла мимо нас в финский домик, где у начштаба была комната.
– И весь нажиток? – спросил Кумков шепотом.
– Съели нажиток, – ответил Колбенко.
– Как съели? – не понял Кумков.
– Зажрался ты, Кум. Не знаешь, как живет тыл. На продукты мать выменяла все шмотки.
– Когда дети голодные, все отдашь, – вздохнул старый Савелов, ординарец командира.
– С приездом семьи, товарищ старший лейтенант! – гаркнул начальник паркового взвода Шкаруба.
Неожиданное поздравление испугало малышку, она наступила на полу плаща и споткнулась. Отец опустил чемодан, подхватил ребенка на руки.
– Что ты, Анечка?
А Мария Алексеевна остановилась и вдруг… поклонилась нам.
– Спасибо вам, люди.
Это смутило Муравьева.
– Что ты, Маша! Возьми чемодан.
Но чемодан подхватил Савелов. Мне стало неловко, что из нас, младших, никто не догадался сделать это. И вообще – зачем вышли? Нашли зрелище!
Семья скрылась в доме. А мы продолжали стоять. Не молча, конечно. Говорили, но о других дивизионных делах. Однако я чувствовал, люди не расходятся потому, что ожидают услышать что-то особенное именно о происшедшем событии. Приезд семьи взволновал больше, чем сбитый разведчик или комиссование по беременности телефонистки штаба Майи Шабашовой, которую два года ставили в пример за безукоризненное поведение.
Что хотят услышать люди о приезде семьи?
Но тут из здания штаба вышел капитан Шаховский и упрекнул:
– Вы что, детей не видели?
Сказал, пожалуй, мне и Пахрициной. Но все поспешили поскорее исчезнуть. А Любовь Сергеевна вспыхнула, на щеках ее выступили багровые пятна, и она с укоризной посмотрела на свою любовь. В чем упрекала? Зачем разогнал людей? Или за что-то другое?
Мне вдруг стало жаль доктора. Строгая она. Девчата ее боятся. А меня, после разговора на барже, тянул к ней какой-то неосознанный интерес. И чувство непонятной жалости – возникало оно не впервые. Почему? Из-за побитого оспой лица? Но это же не помешало ей стать хорошим врачом, капитаном и полюбить такого красавца, умницу, эстета, потомка княжеского рода. Но любит ли так же он ее? Вот вопрос, не дававший покоя. И никто на него определенно ответить не мог – ни рассудительный Колбенко, ни проницательно-наблюдательная Женя Игнатьева…
Демократ, эрудит, Шаховский мог с каждым, с рядовым и с генералом, поговорить на любую тему – об организации армии Александра Македонского или Ганнибала и о способах засолки рыжиков. Но и умел очень ловко увести разговор в сторону, если он начинал касаться его особы. Сам о себе говорил, похваляясь происхождением, но другим в себя заглядывать не позволял.
– Вот так, брат, живут наши семьи там, в тылу. Голодают, мерзнут, но куют танки, самолеты… Все для фронта! Мы не представляем, какой это для них святой лозунг. «Воюй, Костя, о нас не думай, мы живем хорошо», – писала моя Татьяна. Она мудрая, моя жена, в эвакуации, на Урале, в школу не пошла, на завод пошла. Я их год искал, радио помогло. В первом же письме она и написала: «Мы живем хорошо». Кормила троих детей одна, жили в бараке, четыре семьи в одной комнате, проговорилась Лариса, третьеклассница, она начала писать мне каждый день. Вон сколько ее писем вожу – полмешка. Самое дорогое имущество. Теперь я верю, что они живут хорошо. Володька в четырнадцать лет стал рядом с матерью у станка. Отдельную комнату получили. Аттестат мой… А Муравьев жаловался: в том районном городке, где жила его семья, и за деньги никакие продукты нельзя купить, а на карточки – девять килограммов овсяной муки на учительницу и по четыре на иждивенцев. А ты, Павло, удивляешься их худобе…
– Не потому я удивляюсь, Константин Афанасьевич. Я, может, больше удивляюсь, что ни одного дня мы не голодали. В сорок втором в Мурманске с полмесяца хлеба не было. Но была треска и пшенная каша. На завтрак – суп с треской, на обед – снова суп с треской и каша с треской и на ужин – каша с треской, соленой-соленой. По три котла отвара хвойного выпивали, как кони. – Неизвестно почему воспоминание про треску рассмешило меня.
Колбенко подтянул ремень, смачно утерся и, расхаживая по комнате, вспомнил другое:
– А помнишь, как в Кандалакше мы ходили с тобой на станцию выменивать нашу булку на московский хлеб с мякиной?
Было такое. Наверное, чтобы не делать встречных перевозок, в Заполярье не завезли ржаной муки, а оставили американскую пшеничную, отбеленную на удивление. Сначала мы обрадовались: до войны мало кто такую булку ел! На семьсот граммов нормы – поленица. Но очень быстро взвыли: не шел этот хлеб под борщ, под ту же соленую треску, разве что под чай только. Железнодорожники сначала посчитали нас чудаками.
– Константин Афанасьевич, давайте выпросим у Клименко наперед наши ДП и отнесем Муравьевым. Чтобы у детей праздник был. Иван Иванович с его характером этого не сделает, если Кузаев не додумается.
Колбенко хлопнул меня по плечу:
– Хороший ты парень, Павел. И не лопух. Отшлифовал я тебя.
– Да и неплохо отшлифовали.
– Не подхалимничай. К Клименко пойду я, ты со своей деликатностью у этого скупердяя не выпросишь. А ты пошли дневальную к Муравьеву с запиской, чтобы знали.
Парторг присел к столу, размашисто написал:
«Иван Иванович, хочешь ты или не хочешь, а мы придем в гости. Не пугай Марию Алексеевну. Ничего не нужно, кроме кипятка, чай принесем».
Получив наше послание, Мария Алексеевна, да и внешне флегматичный Иван Иванович страшно разволновались – сами потом рассказывали. Какие гости? С чем встречать? Чем угощать?
Бывший и будущий директор школы, третий человек в дивизионе, пошел только на одно нарушение воинского порядка: попросил в столовой два обеда, всего два – на четверых. Повар потом рассказывал, как сконфуженно начальник штаба просил их. Повару Колбенко «дал в кости» за то, что не хватило ума отнести что-то детям.
Обеды семья съела сразу, до нашей записки, – изголодались в дороге. Дети, конечно, с интересом ждали гостей, хотя волнение родителей передалось и им.
Когда мы с Колбенко подходили к дому, сплющенный и потому еще более пожелтевший носик Анечки прилип к стеклу. А крик ее даже вырвался на улицу:
– Идут!
В комнате начальника штаба мало что изменилось: кроме его кровати поставлены два топчана для детей да стол застлан бумажной финской скатертью; она казалась женщине и детям большой ценностью – разрисованная, яркая. (Мария Алексеевна ахнула, когда за чаем Анечка залила ее, а Кузаев засмеялся и сказал, что даст ей две дюжины такого добра.)
Хозяева стояли бледные, когда мы деликатно, по граждански постучав, вошли в их комнату, а у детей еще больше стали глаза.
Колбенко вошел как сват – уверенный, веселый, он даже обрызгал себя одеколоном, предлагая и мне, но я отказался, посчитал неприличным расфуфыриваться перед такой необычной миссией.
Я шел за ним с вещевым мешком, наполненный нашим полумесячным дополнительным пайком, по тому времени и в той ситуации – с немалым сокровищем.
– С приездом, Мария Алексеевна. Будем знакомиться. Я – Константин Афанасьевич, звание мое вам без нужды, да оно – на погонах, а должность узнаете.
Колбенко подошел и поцеловал женщине ее загрубевшую руку, отчего она очень смутилась. Деревенская учительница. Кто и когда целовал ей руку?! Нет, потом призналась: целовали – бывшие ученики, фронтовики-инвалиды, вернувшиеся домой.
– С приездом, дети. – Парторг легко подбросил Анечку, осторожно опустил, как бы недоуменно спросил: – Это и Лариса моя такая?
Такая легкая – понял я.
Колбенко взял у меня мешок и начал выкладывать из него на стол наши подарки: две банки бекона, две плитки шоколада, сгущенное молоко, пачки печенья, чая.
Муравьев беспомощно запротестовал:
– Константин Афанасьевич!..
А Анечка спросила с детской радостью и удивлением:
– Это нам?
– Анечка! – ужаснулась мать.
– Вам, дети, вам.
– И мы будем это есть? – все еще не верила своему счастью малышка.
– Конечно же, дитя мое.
Наш на удивление спокойный (никогда не выявлял эмоций – ни радости, ни печали, ни злости) начальник штаба закрыл лицо руками. Казалось, он заплакал. Это смутило даже Колбенко.
– Иван Иванович! Ты же у нас мужественный человек.
– Ваня! – ласково попросила жена.
А младшая обняла отца за шею и бросила с упреком старшей сестре:
– А что? Я же говорила, наш папочка – герой. Слышала, что дядечка сказал?
И тогда все засмеялись – и я, и Валя, и Мария Алексеевна, и сам Муравьев. Исчезла натянутость.
– Как доехали? Нигде не бомбили?
– Нет. Слава богу.
– Выдохлись фрицы, – сказал я.
– Не проявляйте излишний оптимизм, мой юный друг, – возразил Муравьев. – Они еще могут огрызнуться.
– Не пугай детей, Иван Иванович.
– Что вы, наши дети ничего не боятся.
– И боли не боишься, Аня?
– Нет! – бодро ответила девочка.
А у меня сжалось сердце: привиделось, как Константин Афанасьевич выносил Лиду.
Колбенко распаковал шоколад и печенье.
– Ешьте, дети.
– Ой! Порядок же нужен!
– Маша! Ты занимай гостей. Хотя какие они гости? Хозяева! А я – на кухню. Там есть финская посуда. Чайник поставлю. Чай! Посмотри, Маша, какой чай. Неужели и теперь из Индии возят?
Аня ела печенье на полный рот, а Валя откусывала по маленькому кусочку и не ела – точно дегустировала, хотя, видел я, есть ей хочется, как и сестре.
Разговаривая, наблюдая за детьми – я больше следил за Колбенко, как он смотрел на детей, с какой отцовской радостью и с какой болью, грустью, – мы не заметили, как подошли к дому Кузаев и Тужников. Услышали стук в дверь.
– Пожалуйста, – уже совсем смело позволила учительница.
Я немного смутился, увидев командира и замполита. И Мария Алексеевна сразу догадалась, что пришли начальники мужа, хозяева, люди, помогавшие ей с детьми приехать, и в растерянности испуганно позвала:
– Ваня! – Кузаев пошутил:
– Сейчас мы вашего Ваню на губу посадим.
– Моего папу? – возмутилась Анечка. – За что? Он – герой.
Кузаев подхватил девочку, закружил по комнате.
– Правильно, дитя! Отца в обиду не давай. – И показал Тужникову на нас: – А твоих не обскачешь.
– А комиссары везде должны быть впереди, – неожиданно для меня весело ответил замполит и начал из портфеля выкладывать на стол тот же ДП, да еще и бутылку водки выставил. Водка почему-то очень удивила Валю.
– Ух ты! – сказала она.
Все засмеялись. А я подумал о трех семьях, которым помогает Тужников. Если бы принимали посылки, он конечно же отсылал бы дополнительный паек своей семье и осиротевшим семьям братьев. И, может, впервые, к замполиту я почувствовал те же чувства, что и к Колбенко, – сыновьи.
Кузаев предложил совсем растерянному Муравьеву позвать девушку-бойца из кухни помочь накрыть на стол.
Мария Алексеевна по-настоящему испугалась:
– Что вы! Что вы! Мы сами. Мои девочки все умеют. Все умеют.








