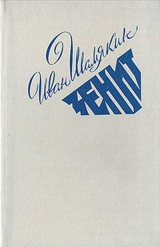
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
– Данилов сам ходил к Кумкову, – сказал я.
– Ну, Кум! Доберусь я до тебя!
Я порадовался заботе замполита о людях и его гневу на начальника обозно-вещевого обеспечения. Нехорошо. Но я не мог простить ему каши для Анечки.
…Таня Балашова схватила крупозное воспаление легких. Болела тяжело. С высокой температурой. Я посещал ее в медсанчасти. Она долго была вялая и равнодушная. Когда дело пошло на поправку, я принес ей свой, полученный в тот день ДП. Таня словно бы испугалась:
– Что вы, товарищ младший лейтенант!
А потом заплакала, смутив меня. Все воспринимали Таню как беззаботную, острую на язык резвушку, мирились с ее озорством, поскольку шутки ее никогда не были злыми. У девчат слезы близко, у некоторых от безобидного замечания глаза исторгают водопады. Видел ли кто-нибудь, чтобы плакала Таня? Вряд ли. При мне – никогда.
– Танечка, что с тобой?
И неожиданный почти детский ответ:
– А меня не любила мачеха. Била. И отец бил, а потом, пьяный, плакал…
Еще одна глубоко затаенная драма. Как же мало я знаю их, своих комсомолок! Выходит, Таня, веселая и болтливая, даже подружкам не рассказала про мачеху. Вот когда давняя обида выплеснулась слезами. Разве можно здесь найти слова утешения?
– Ты вернешься с войны зрелым человеком, и все изменится, Таня… Все изменится, поверь…
– И тут никто меня не полюбил, – прошептала она, размазывая исхудавшей ручкой слезы по щекам.
Необычная жалоба! Впервые услышал такую! А на нее что ответить? Но если жалоба на сиротскую судьбу отозвалась болью и сочувствием в сердце моем, то эта вызвала внутреннюю улыбку своей детской искренностью, хотя я хорошо понимал желание девушки быть любимой.
– Полюбит, Таня. Полюбит.
– И никто не поцеловал.
Ну и ну! Вот так признание! Услышал бы Тужников!
В палате лежала девушка из прожекторной роты – Поля Прищепова, тоже с воспалением легких. Казалось, спала. Нет, не спала. Отозвалась грубовато:
– Ну, на это охотники найдутся, только подставляй им свои губки.
Таня засмеялась. Она хитро и умело жалобы свои превращала в веселые шутки. Начала рассказывать, что и она не промах была. Однажды в поле закрыла мачеху, любившую поспать, в вагончике МТС; отец целую ночь искал жену, а мачеха потом на всю округу кляла трактористов, приписав им озорство.
Таня развеселилась. Побледневшее за время болезни лицо ее раскраснелось, и пухленькие губы стали пунцовыми. Мне захотелось их поцеловать.
Она сидела на кровати в исподней мужской сорочке, слишком большой для нее, по грудь завернувшись в одеяло. Я бы, наверное, не осмелился на такой поступок, но заметил, что Прищепова отвернулась к стене.
– Ну, девчата, я пошел. Не скучайте. Попрошу для вас у жены командира «Трех мушкетеров». Такое вы никогда не читали.
В губы не отважился поцеловать. В щеку. Но Таня с детской непосредственностью обвила своими горячими руками мою шею, прижалась щекой к моей щеке и, как бы захлебнувшись от счастья, долго не отпускала, пока под Прищеповой не скрипнула кровать.
Коварная девушка! От зависти, что ли, донесла о нашем «поцелуе» Пахрициной. Поступок ее меня не возмутил: знал таких доносчиц. Удивила и возмутила Любовь Сергеевна. Зачем ей было рассказывать о «чрезвычайном происшествии» Тужникову? Так некрасиво. По-бабски. Мстит за разговор? Кажется, даже замполиту, готовому ухватиться за любую зацепку, чтобы прочитать мораль о нравственном облике политработника (из его поучений вытекало, что должен он быть полным аскетом), не понравился поступок доктора. Ни нотации, ни разноса не было – брезгливое замечание:
– В медчасти хотя бы не лижись.
Будто, я только и занимался поцелуями. Вообще в последнее время Тужников изменился ко мне. Раньше школил как ученика и все предупреждал насчет девушек. Боялся, что ли, грехопадения своего непосредственного подчиненного? А теперь если и пробирал за что-нибудь, то совсем иначе – как зрелого человека, как других офицеров. Уж не поход ли в театр причина перемены? Или, может, повлияли доброжелательные отношения ко мне Антонины Федоровны и Марии Алексеевны? Любили командирские жены поговорить со мной. Муравьева часто повторяла: «Романтик вы, Павел. – И вздыхала: – Давно ли, кажется, и я была такой же. Как состарила нас война!»
Подобная похвала не нравилась: выходит, меня война не затронула и я мало повзрослел. Единственная, может быть, правда – не огрубел душой. Даже кажется, что четыре года назад, когда я очутился в суровых условиях Севера и «Тимошенковой дисциплины», чувства мои были примитивнее. А теперь я словно тонкий музыкальный инструмент. На войне люди грубеют, а я, значит, становился романтиком. Стыдно признаваться даже самому себе. Что меня шлифовало? Мало видел крови? Командование необычным войском – девичьим? Или сама политработа, вынуждавшая вырабатывать качества, которые стремишься передавать тем, кого воспитываешь?
С волнением искал я в газетах сообщения о гуманизме бойцов и офицеров нашей армии в Румынии, Венгрии, Словакии и там, на их земле – в Восточной Пруссии… А как гуманно мы поступили с Финляндией! Раз сложили оружие – живите как вам хочется. Замполит послушал мой доклад на эту тему перед пропагандистами батарей и долго, когда людей уже отпустили, молчал, хотя понимал, что я ожидаю его оценки.
Потом сказал:
– Добрые мы.
– Слишком добрые. Евангельское всепрощение, – едва ли не первый раз не похвалил меня Колбенко.
Где-то задетый определением Марии Алексеевны и тяжелыми раздумьями двух зрелых комиссаров над моими возвышенными словами о человеколюбии, я, однако, порадовался, что сохранил добрые чувства. С войны вернется романтик? Возможно ли? Не позорно будет жить таким? А что позорного в том, что меня до слез растрогало такое человеческое желание Танечки Балашовой – быть любимой, желанной? Что плохого в моей радости от Глашиного письма, недавно показанного мне Виктором Масловским? «Скоро у тебя будет сын». Сам Виктор счастливо засмеялся:
– Почему она так уверена, что родится сын?
– Девчата убеждены, что после войны рождаться будет больше мальчиков. Природа должна восполнить потери. И Глаша так говорила.
– Когда?
– Да там, в машине. Хотела допечь меня за перевод. «Наварю, говорит, я вам каши. Через месяц поеду рожать Масловскому сына».
– Так и сказала?
– Так и сказала.
– Вот язык! Договаривались же хранить тайну.
Сказала она не совсем так, но мне приятно расхвалить мужу Глашину смелость. Я возносил Глашу до небес: как бросилась на помощь Старовойтову, как волновалась за него, когда уже саму ранило.
Разговоры о его жене, доверительные и пока что секретные – «Пока не появится сын», – снова сблизили нас, довоенных друзей. И это тоже радовало меня.
– Нет, быть романтиком совсем неплохо, – заключил я вслух свои рассуждения в один из дождливых длинных вечеров, когда мы лежали с Колбенко на теплых кушетках в теплой комнате и слушали по радио музыку Бетховена.
– Ну и будь на здоровье, – позволил Константин Афанасьевич, не вникнув на этот раз в истоки моего неожиданного вывода, хотя обычно любил докапываться до происхождения моих мыслей.
Жили мы той глубокой осенью действительно мирно. Правый фланг Карельского фронта, недавно еще самого длинного – от Балтийского до Баренцева моря, выбив немцев из Заполярья, громил их на норвежской земле. А на советско-финляндской границе – тишина. Станция Петрозаводская забита составами, в которые грузились пехотные, артиллерийские, танковые части, отбывая туда, где полыхала еще война. Не могли не знать немцы об интенсивной переброске подкреплений с фронта, остановившего военные действия, на фронт, копивший силы для штурма фашистской цитадели. У частей ПВО – повышенная готовность. Но – ни одного налета. Выдохся Гитлер. Захирела хваленая авиация Геринга, два года назад достигавшая Баку и Новой Земли, бомбившая Лондон и Ковентри. Не до того ей теперь, чтобы идти через Балтику на Петрозаводск. Не хватает «юнкерсов» для ударов по фронтовым целям.
Жили мы прямо с комфортом. Шаховский отремонтировал взорванную финнами подстанцию, обновил линию до поселка и дал нам свет. Разве не роскошь после вонючих керосинок? Единственно, возникла проблема электролампочек. То ли бережливые финны, отступая, то ли жители до нашего вступления вывинтили в лесопоселке все лампочки. Как ни гонял хозяйственный Кузаев начальника ОВС [9]9
Обозно-вещевое снабжение.
[Закрыть], даже в Ленинград посылал, – ни один армейский склад такое имущество не выдал. Острейший дефицит.
Лампочки доставали кто как умел. Выпрашивали у жителей и просто… воровали. Сам я из-за этой копеечной стекляшки с проволочкой единственный раз в жизни стал вором: умудрился выкрутить лампочку в коридоре горкома комсомола. Потом переживал свое падение, а Колбенко хохотал:
– Правильный ты объект выбрал. Зачем им светлый коридор? Молодые бюрократы!
Лампочка была хорошая – не на всю ли сотню ватт? Она заливала светом довольно уютную комнатку, неплохо нами обставленную: Константин Афанасьевич собрал мебель, даже книжный шкаф откуда-то приволок, я наклеил на стены картинки из наших журналов – военные сцены, исторические и современные, а из финских – репродукции старых мастеров. Между прочим, «Суд Париса» Рубенса я поместил над портретом Суворова, и мне крепко досталось от Тужникова; Колбенко он не тронул, а меня за то, что повесил над великим полководцем «голых баб», ехидно склонял на нескольких совещаниях политработников; те смеялись, зубоскалы: «Живых больше щупай».
Тужников наведался к нам и приметил лампочку, у него была тусклая; намекал на обмен. Да Колбенко хитро осек его поползновения:
– Затягивает и тебя, Геннадий Свиридович, мирная стихия. А ты нас упрекаешь.
Передернуло Тужникова – поймали его. Замполит жил аскетично. Злился, что примера с него не берут. Придирчиво осмотрел наш уют… и уколол-таки:
– Вам только перин не хватает.
– А не помешало бы, – ответил Колбенко. Тужников ушел, и мы посмеялись, довольные, что легко спасли мой «трофей». Прошлись по замполиту: очень ему хочется вернуть фронт в Петрозаводск, чтобы не снижался боевой дух. Но шутки шутками, а стыд, словно шашель, точил и мое сердце – за наши удобства, в то время когда там, южнее, в центре Европы, гремит еще война, гибнут наши люди.
– Константин Афанасьевич, а вас не грызет, что мы так живем?
– Как?
– Да вот так: свет, радио, книги… Целый длинный вечер свободны. Пушкина читаем.
– Не занимайся самоедством, Павел. За то мы и воюем, чтобы Пушкина читать. Послушай, какая торжественная музыка.
– Кто это? Глинка?
– Нет. Бах.
– Снова немец?
– Великий немец.
– Столько великих – и столько убийц.
– Парадокс истории.
– Будет эта война последней?
– Нет, не будет.
– Как? Снова воевать? Детям нашим?
– А ты что думал? Пока существует капитализм…
– Но стали же мы союзниками Англии, Америки. Бастионы империализма, как нас учили, – а против фашизма пошли на союз с нами. Выходит, и с капиталистами можно договориться…
– Тут, брат, особая ситуация. Аппетиты Гитлера, его замах на Англию испугали даже злейшего врага социализма Черчилля. Ты мало читал, как он призывал к крестовому походу на Советы. И организовал интервенцию.
– Читал.
– Американцам тоже невыгодно, чтобы Гитлер сожрал всю Европу. Рузвельт реалист. Фордам и морганам легче иметь дело со многими странами… с большой Францией и маленьким Люксембургом, чем с одним диктатором, аппетиты которого разгорались. Через Кавказ Гитлер рвался в Индию. А до Африки дотянул свои кровавые лапы. В такой ситуации вступишь в союз и без хотения.
Иногда мне казалось, что парторг не особенно глубоко вникает в политику, газеты читает не так внимательно, как я. Скептически хмыкает, замечая, что я некоторые статьи конспектирую, Ильи Эренбурга, например. Но чаще Колбенко удивлял знанием истории, работ Маркса, Ленина (на Сталина ссылался редко, что меня смущало) и знанием того, что называется бегущей политикой. О каждой большой операции Красной Армии мог без подготовки прочесть лекцию. Через несколько дней после высадки союзников во Франции, когда сообщения в газетах и по радио были еще скупы, Константин Афанасьевич в столовой выдал такие сведения о месте высадки – Бретани, так сыпанул названиями городов французских, словно украинских, что даже эрудит Шаховский ни в чем его не поправил. Кузаев и Тужников слушали серьезно. А Зубров ехидно пошутил:
«Колбенко, вы при чьем штабе были – Эйзенхауэра или Монтгомери?»
Но на предложение Тужникова подготовить лекцию о втором фронте Колбенко ответил:
«Спроси в политотделе, нужно ли нам прославлять фронт, открытый союзниками с опозданием на три года?»
– Бойцы, особенно девушки и «деды», часто спрашивают: будет ли война последней?
– И ты отвечаешь, что установится мир и наступит вселенское примирение? И мы с тобой будем целоваться с Черчиллем, как на пасху?
– Так я не отвечаю. Но стоит ли лишать веры в мир? Жить не захочется…
– Это правда: счастлив, кто верит.
У меня вырвался чуть ли не крик отчаянья:
– А что отвечать, Константин Афанасьевич!
– Ты правильно отвечаешь, Павел. Сердцем и я верю, жажду… У меня же дети. Разум вот у меня противный. Скептик я. Не романтик, как ты. Выбили из меня романтику, как пыль из мучного мешка.
Спросить, кто выбил, я не осмелился.
Бетховен, Бах, Чайковский… Никогда классическая музыка так не волновала. Я просто не понимал ее раньше. Начал понимать? Очень возможно, что человек, постепенно или внезапно, светлеет разумом или приобретает такие душевные качества, с которыми приходит осмысление главных ценностей жизни. Или, может, для понимания некоторых из них, той же музыки, нужны определенные условия, определенный настрой? Осенний поздний вечер, дождь барабанит в стекла. Сосны шумят за окном. А в комнате тишина. Книги в шкафу. Музыка из репродукторов. Мысли о близком мире, о новой жизни. Мысли еще тревожные. И все же главное, пожалуй, в них – уверенность, что «со мной ничего не случится». Три года не было ее, уверенности. Нет, просто давно не думал ни про смерть – к войне привыкаешь, ни тем более про такую вот тишину – с музыкой. Тишина с музыкой. Странное ощущение! Может, действительно прав Тужников: расслабились мы, уверенные, что не завоет сирена боевой тревоги, не упадут бомбы, не поранят землю, не убьют людей, не порвут небо разрывы снарядов.
Такая волшебная музыка вынуждает к молчанию, хотя вообще-то хочется поговорить, порассуждать.
«Тянет тебя на философию, Павел», – еще как-то раньше пошутил Колбенко. В последние дни я многих склонял «пофилософствовать» – как бы собирал ответы на вопрос: что люди думают о будущем?
Порадовал Кузаев. Его мысль: война всех научила и коллективный разум человечества возвысился до новой, высшей, ступени, это не может не влиять на поиск разумных взаимоотношений народов, стран, людей.
Шаховский сказал категорично:
«Мир мало изменится, но мы с вами, мой юный друг, убивать подобных себе больше не будем».
«Ты рано демобилизуешься», – упрекнул Тужников.
А Данилов помрачнел: «Боюсь я ее, новой жизни. Она представляется мне цыганским счастьем. А ты знаешь, какое оно, цыганское счастье? Всегда – за горой, за лесом. И в тумане».
9
Постучали в дверь. Что за поздний гость?
– Кто там?
– Сержант Игнатьева.
Колбенко, раздетый до исподнего, грел у грубки больные ноги. Нырнул под одеяло.
– Заходи, заходи, Женя.
Обрадовал меня ее приход. Женя любит музыку и понимает ее. Вот с кем можно «пофилософствовать».
– Товарищ старший лейтенант…
– Не козыряй. Я без штанов.
– Вас, товарищ младший лейтенант, просит позвонить старший сержант Масловский.
– Что припекло посреди ночи? – буркнул Колбенко.
– Не могу знать.
Я обул сапоги, накинул плащ-палатку: до штабного здания двадцать шагов, но сечет дождь. Вышли в темноту.
– Где дневальный, что вы за посыльную?
– Мне не спится, и я сидела в телефонной.
– О чем вы думаете, когда не спится?
– А вы почему не спали?
– Приводили к ладу искалеченный мир.
– Привели?
– Вы думаете, это просто?
– О, если бы я так думала – мне спалось бы.
Еще одна изболевшая душа!
Виктор ждал у телефона. Сам взял трубку.
– Слушай, я прошу: приди сейчас на батарею.
– Что случилось?
– Не телефонный разговор.
– Уверяю тебя: финны не подслушивают. Зачем им теперь наши секреты!
– Мне не до шуток.
– Ты меня пугаешь.
– Не бойся. Тревоги не поднимай.
– Пароль?
Сообщать пароль по телефону запрещалось.
– Я встречу тебя.
Пока я ходил на командный пункт, Колбенко уснул, и я почти порадовался: не будет отец волноваться за мой ночной поход на батарею.
Намотал портянки, обулся, надел шинель. Много воспалений легких. Когда воевали вблизи Северного полюса, не помню, чтобы кто-нибудь лежал с такой банальной штатской болезнью. Никакая холера не брала, никто не портился – как в холодильнике. Пахрицина объясняет болезнь наличием вируса, возможно подброшенного финнами. Версия у большинства офицеров вызвала улыбку. Кузаев запретил давать такое разъяснение рядовому составу. А у Тужникова своя теория: психологически расслабился народ, потому и болеют.
Днем я наведывался на батарею. Данилов ходил с температурой. На мои уговоры обратиться к врачу комбат разозлился: «Я лучше профессора умею лечить себя. Цыганскими средствами». Может, из-за его болезни вызывает меня Масловский? Но почему меня? Нашел лекаря!
Виктор встретил на полдороге: посигналил фонариком. Сошлись. Почему-то по его плащ-палатке слишком шумно барабанил дождь – как по жести.
– Что у тебя горит в такой дождь?
– Они хотели стреляться. – Кто?
– Князь и цыган.
– Ты что, ошалел?
– Я? Они ошалели.
– Из-за чего?
– Из-за бабы, естественно.
– Из-за Лики?
– Я от такого искушения давно бы избавился. Лика ваша – многолика. Тебе не хочется подстрелить кого-нибудь из-за нее?
– Не городи ерунды! И не изображай себя святым. Передо мной. Рассказывай, что произошло.
– Думаешь, я много знаю. Меня подняла дневальная Роза Бейлина. Я спал. Бабы – как шпионки, их хлебом не корми, а дай послушать, о чем говорят командиры. Твоя любимица Балашова все секреты выведывает. Когда в бараках жили, она буквально мучилась – там под дверью не станешь. А в землянке – стань у трубы, с искрами слова летят…
– Слушай! Ты сам похож на бабу. Что ты начинаешь с горшков? Что услышала твоя Роза?
– Думаешь, можно было понять, что она услышала? Она вытянула меня сонного из землянки на дождь. За шиворот тащила. Хорошо, я спал в штанах…
– Ты что, издеваешься надо мной?
– Какое, к черту, издевательство! Девчонку трясло. «Ой-ой, командира спасайте! Они стреляются!» Я сразу догадался, кто это они. Натянул сапоги и в нижней рубашке – в комбатову землянку. Они стояли друг перед другом, держась за кобуры. Петухи, да и только. Но не красные, а белые… побледневшие. Ты же знаешь, Данилов в гневе всегда белеет, меня его бледность не однажды пугала. Смуглое лицо делается пепельным. Я потребовал у них пистолеты. Ох, такого его бешенства никто еще не видел! Он не закричал – прошептал, но как прошептал! Ты услышал бы! Закомандовал мне: «Кру-гом!» Да меня не испугаешь. Я пригрозил, что подниму батарею по тревоге и вызову командира дивизиона. Стал между ними. И Шаховский молча покинул землянку. А цыган выхватил пистолет и хотел броситься за ним. Но я заслонил двери. Он тыкал мне дулом в зубы. Губу рассек, идиот… Мог застрелить, как думаешь?
Виктор злился. Но в рассказе его пробивался смешок. Мне же было не до смеха. Я очень встревожился. Были за годы войны, особенно после появления девушек, самые невероятные истории. Иногда и трагические. Но не на таком уровне. Два офицера, капитан и старший лейтенант, командиры немалых рангов по масштабам дивизиона… Ситуация для трибунала. Узнает Зубров…
Я прикидывал про себя, как скрыть эту пусть себе и романтическую, но дикую историю. Такие умные люди – и такие дураки! А если не удастся утаить, если выплывет, то как превратить в невинную шутку, над которой можно было бы посмеяться? Тревожила меня и судьба третьего человека – Лики. Не стала бы она без вины виноватой. Кузаев, если дойдет до него история в натуральном виде, наверняка в первую очередь избавится от нее. А это мне показалось несправедливым. Наказать нужно виноватых! Кто виноват, если двое полюбили одну? История стара как мир. И всегда новая, всегда необычная.
– Роза не сменилась с поста? – Нет.
– Предупреди, чтобы никому ни слова. Кто дежурный офицер?
– Унярха. Спит как хорь.
– Пошли к цыгану.
– Не пойду. Пошел он к черту! Хватит с меня его пистолета. Губа болит. Вот отцовский сынок, зараза! В трибунал захотел.
– Не каркай. Думай, парторг, о чести батареи.
Когда я тихонько вошел в землянку, Данилов сидел за столиком спиной к двери, держа в ладонях свою красивую кудрявую голову – точно боялся, что ее вот-вот снесут. Услышал. Подхватился. Очень удивился, увидев меня. Но тут же глаза его вспыхнули бешенством.
– Ты? Это он, парторг?! Завтра же духу его не будет на батарее!
– Не кричи, – прикрыл я дверь плотнее. Неизвестно, кого из вас не будет! Его или тебя.
– Сукин сын! – Он метался по тесному блиндажу от стены к стене, готовый, кажется, разбить голову. – Я скрывал его связь с Василенковой, а он поднял дивизион… – И длинное ругательство на цыганском языке.
– Никого он не поднимал. Скажи спасибо, что Виктор позвонил мне. Не бросайся, как Марк в пекле. Рассказывай, что случилось. Только не темни. А потом думать будем. Вместе.
Но не сразу удалось укротить этого мятежного человека. В разном состоянии я видел своего Олеко, которого полюбил, как только он прибыл на батарею и мы, командиры взводов, жили в одной землянке, – веселого певца, горячего в бою, умного в разговорах о войне и жизни, доброго к людям, опасного в гневе… Но таким разъяренным не видал. Что его так взбеленило? Даже и тогда, когда, немного успокоившись, Данилов рассказал, что произошло между ним и Шаховским, до меня не сразу дошло, что же его раскалило до такого состояния.
А рассказал он вот что.
Поздний визит заместителя командира дивизиона удивил Данилова. С какой целью? Что можно проверять в глухую дождливую ночь? Наземную охрану?
«Вы прибыли незамеченным, товарищ капитан?» – встревожился комбат.
«Да нет, охрана у вас бдительная, – засмеялся Шаховский, как показалось Данилову, немного возбужденно. Отозвался с похвалой: – Остановил и внешний постовой, и дневальный на позиции».
Удивило Данилова еще больше. Дружеских отношений между ними не было. Чисто служебные. Хотя Шаховский никого не заставлял вытягиваться перед собой, даже рядовых. Он умел со всеми быть одинаково простым. Однако люди проницательные, как Колбенко, Мария Алексеевна Муравьева, тот же Данилов, и даже я, наученный ими, улавливали какой-то снисходительный скептицизм в его отношении ко всем окружающим, даже к Кузаеву, словно смотрел он на людей с высоты, с какой видны все их слабости, все промашки. Мария Алексеевна, скупо, с тактичной деликатностью отозвавшись при мне о Шаховском, повела плечами, точно озябла, запахнула платок и заключила как будто в шутку: «Аристократ-демократ», и я почувствовал в ее тоне совсем не похвалу его демократичности. Возможно, именно после разговора с Муравьевой я подумал: «А с кем капитан дружит так, как я с Колбенко, Даниловым, Масловским, Женей Игнатьевой? С Пахрициной?»
Психолог Шаховский почувствовал настороженность командира батареи.
«Бросьте, Данилов, не вытягивайтесь, пусть себе и внутренне. Посидим как друзья, поговорим. Лучше узнаем друг друга. Вы меня давно интересуете. Чай любите? Я захватил индийский. Из английских военных запасов. Мне его подарил еще в Мурманске интендант армии. Узнал, что я ленинградец… Мы, питерцы, люди особые, с особой психологией. Я думаю, жители ни одного города в мире не объединены так, как мы. Теперь, после того что пережил город, ленинградцы породнились еще больше».
Сидели, пили чай, беседовали. Нет, это не был диалог двух равных. Говорил главным образом Шаховский, человек обычно не очень разговорчивый. Рассказывал о себе. Не свою дворянскую родословную, к ней Данилов отнесся бы насмешливо-скептически: подумаешь, пришел похвастать своим происхождением перед цыганским сыном!
Рассказывал о своей учебе в институте, в аспирантуре, о защите диссертации. И о самой электротехнике. Любовно. Популярно. С прогнозами, которые могли показаться фантастикой любому другому. Но не Данилову. Совсем недавно, еще три года назад, сирота-детдомовец, лучший ученик по математике, он сам мечтал о высшем образовании. О военно-технической академии мечтал. Немногие знали про его мечту. Но до Шаховского, наверное, дошло. Да и сам мог догадаться по тому интересу, какой комбат проявлял к артиллерийской технике. Когда, случалось, Шаховский налаживал электрическую схему ПУАЗО, Данилов забывал про все свои многочисленные обязанности, не отступал от инженера, вникал в каждую деталь с пытливостью старательного ученика. За неполный год учебы в военном училище все постигнуть было невозможно. А теперь Данилов, как немногие из молодых командиров, умел сам отремонтировать значительные повреждения в приборе, баллистическом вычислителе, в орудийных синхронных «приемниках» азимута, трубки, угла возвышения. Механику пушки знали слесари среднего разряда, а мастеров по электрической аппаратуре, портящейся чаще, было немного. Другие дивизионы, случалось, по неделе ожидали инженера из ремонтных мастерских корпуса. А неведение огня целой батареей – серьезное ЧП. Объяснительные донесения писались даже в штаб армии. Вот почему Кузаев так ценил Шаховского и скрывал технические возможности своего заместителя от высшего начальства – чтобы не забрали. Любой другой стремился бы в штаб корпуса: повышение, новое звание. Шаховский не рвался туда. Одни офицеры за это хвалили его, другие пожимали плечами: у аристократов своя логика, черт их поймет.
Расслабился Данилов от индийского чая, от внимания кандидата наук, от его доверительно дружеского рассказа о себе и своей удивительной науке. Может, в одном только месте насторожился – когда тот признался, что не сложилось у него семейное счастье: женился он на дочери известного художника и скоро понял свою ошибку. Развелись. Рассказал капитан об этом между прочим. Данилову хотелось знать подробности его интимной жизни, но из деликатности не отважился расспрашивать, в таком деле каждый сам определяет, насколько можно открыться.
Цыганский мальчик, добравшись до книг, бывало, краснел от вычитанного в них; за «раздевание» людей некоторыми писателями в таборе секли бы кнутом, считал он.
Наконец Шаховский начал посматривать на часы. Однако уходить не спешил. Данилов заметил его возбуждение: поднимался с табурета, кружил по землянке. Просторная она была в сравнении с теми, в каких жили в Заполярье, но все же землянка есть землянка, пространство ее замыкалось тремя-четырьмя шагами. А такое кружение в узкой клетке и мысли бунтует. Делаются они непоследовательными, рваными, путаными. И Шаховский стал прыгать с темы на тему – от высокой политики до манеры чаепития у англичан, до критики инструкции медсанупра о женской гигиене. Почему вдруг такая тема? – удивился Данилов. Не было же зацепки, да и критика неуместная, как раз того, что он, командир батареи, которому приходится заниматься всем этим практически, считал разумным. Видимо, у рожденного в шатре и рожденного во дворце были разные представления о гигиене.
Расслабленность у Данилова исчезла, он насторожился, появилось подозрение, что аристократ пришел с глубоко запрятанным намерением словить на чем-нибудь его, простака, обмануть. Но на чем? Догадка не проходила. И комбат сжался как пружина, затаился, как рысь, готовый и к обороне, и к нападению.
Шаховский остановился перед хозяином землянки, впервые смущенно улыбнулся.
«Я с необычной миссией к тебе, Данилов. – И глубоко вдохнул горячий воздух. – Я хочу сделать девушке предложение. И сделать его в твоем присутствии… Не прятаться же мне… Чтобы все было прилично, гласно…»
Отлегло у Данилова. Отлегло до того, что хотелось рассмеяться. С одной стороны. А с другой стороны… какая буря родилась в его душе! Что он должен сделать? От его… да, от его решения зависит судьба… нет, не их, ее и капитана, – его собственная. Никогда не думал, что ему, офицеру, придется решать и такую задачу. И на решение ее дается одно мгновение. Как в бою, на передовой: неправильное движение – и смерть. Неправильный ответ – и… приговор… Чему? Своей любви? Своему человеческому достоинству? Офицерской чести?
Где же те слова, что не прозвучали бы приговором и любви, и достоинству, и чести?
Данилов затягивал ответ. Спросил, хотя сомнения у него не было, кто девушка:
«Иванистовой?» – и испугался, почувствовал, как пересохло во рту, в горле, внутри.
«Да. Она мне понравилась еще в военкомате».
Ответ помог Данилову принять решение; у него вспыхнула злость: «Ах ты, гусь! Так ты не дальномерщицу подбирал, а девушку на свой вкус… возлюбленную себе!»
Данилов поднялся за столом, но сказал не по-военному – неожиданно фамильярно и почти весело:
«Знай, капитан, я тоже люблю Лику и собираюсь жениться на ней».
У Шаховского округлились глаза: такого он не ожидал, ведь никто и словом не обмолвился, что у командира первой батареи любовь, хотя тему эту офицеры охотно смаковали, находили ей место почти в любом разговоре.
«Что же делать, мой боевой товарищ?» – Шаховский хотел сказать так же весело, но голос его упал. Это настроило Данилова наступательно.
«Давайте разрубим узел, как рубили его ваши предки».
Возможно, то была шутка. Возможно… Сам Данилов так и не смог мне убедительно объяснить: шутил он или сказал серьезно, со зловещим намерением; соглашался со мной, что не могла такая дикая идея возникнуть у советского офицера, но ту же и сомневался:
«Ты меня не знаешь… Я сам себя не знаю…»
Шаховский скривился в презрительной ухмылке:
«Никто из моих предков не стрелялся с цыганом!»
Это была сумасшедшая бомба, брошенная бездумно. Она вдребезги разнесла спокойствие и рассудительность командира батареи. Взвился смерч оскорбления, самого болезненного, самого тяжкого.
Данилов схватил со стены портупею с пистолетом в кобуре, накинул на плечи; дрожащими руками подпоясываясь, закричал во весь голос, забыв, что могут услышать на позиции:
«Так тебе цыган – не человек! Вонючий феодал! Теперь ты будешь стреляться! Я тебя заставлю, недобитый эксплуататор! Я тебе докажу, кто из нас человек!»
Естественно, эпитеты оскорбили потомка дворянского рода.
Шаховский побледнел, тоже схватился за кобуру. Но все же рассудительность не оставила зрелого и более опытного человека.
«Не сходите с ума, Данилов».
И протянул руку, чтобы снять с гвоздя у двери шинель.
Но успокоить Данилова такими словами было невозможно. Он кричал:








