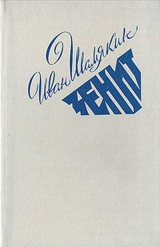
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 33 страниц)
Напишу я Тужникову доклад! Сегодня же!
После зверской бомбардировки станции и первого поезда – ни одного налета. Чуть ли не две недели. «Не война – курорт», – шутят офицеры. А Тужников чрезвычайно озабочен, как бы бездеятельность не расслабила людей. Не Кузаев, не Шаховский, не командиры батарей, а он, комиссар, требует тренировок. А старые вояки, не только рядовые, сержанты, но и офицеры, не любят «холодного огня». «По самолету над третьим! Цель поймана! Заряжай! Есть совмещение! 132, 135, 138!» Ревун. Клацанье затвором. «Ого-онь!» Боевой спуск – полная тишина. И – все сначала.
И нам, политработникам, замполит в эти тихие дни не дает поспать. Доклады. Беседы. Нагнали оскомину и себе, и слушателям. Но стоило мне заикнуться об этом – что было! Что было! Мне вообще достается больше других – за трудолюбие, умение и за… язык мой, который нередко бывал злейшим врагом моим. Кузаев и тот поиронизировал: «Кого любят, того и голубят, Шиянок».
В дождливый день собрали командиров взводов, офицеров тыловых служб. Устроили экзамен. Ребята позорно плавали не только по истории революции, Красной Армии, но даже по текущей политике, должностей Сталина не могли назвать. Я краснел за коллег. Малограмотные девчата-коми, с которыми занимался я, такие простые вещи назубок знают. Разозлились и Тужников, и Кузаев.
Командир с обычной своей грубоватостью обратился ко мне:
– Ты видишь этих дураков, комсорг?
Что я мог ответить – вижу, мол? Они потом заклюют меня. Большинство – старше по званию.
– Товарищ майор, я считал и считаю их умными людьми.
– Подхалим ты, Шиянок. Но если считаешь их разумными, то вот тебе две недели сроку, и чтобы знали они политику лучше тебя. Ясно?
– Так точно, товарищ майор!
С командиром не спорят. Но легко принять приказ. А как выполнить? Три батареи, пулеметная рота, прожекторная рота, службы, до некоторых позиций пять верст. А собрать людей в одно место никто права мне не дал, да в летные дни и невозможно. Хорошо, приказ отдал Кузаев: командир, случается, забывает (или делает вид, что забыл) свои приказы, отданные под горячую руку. Приказал бы замполит – ровно через четырнадцать дней проверил бы, этот ни одного своего слова не оставляет без проверки.
…Женя как-то сказала, что ее пугает воинственный азарт, который она наблюдает даже у девчат: нет боевой стрельбы – и батарейцы скучают, у них, по ее словам, «чешутся руки». «А при любом же налете вражеской авиации падают бомбы, гибнут люди, уничтожается народное добро». Я не согласился с ней, мне казалось, что жажда боя – естественное психологическое состояние на войне. Еще в Мурманске я сам, когда непогода затягивалась на много дней, с нетерпением ожидал просветления. Боя! В Кандалакше, где налеты были реже, увеличилось количество рапортов с просьбой послать во фронтовую артиллерию. Тужников такое явление считал «политической недоработкой». Мы с Колбенко – проявлением патриотизма и героизма.
Но Женины слова насчет девчат здесь, в тихом Петрозаводске, неожиданно пошатнули мое убеждение. Неужели и девушкам хочется боя? Посещая батареи, пулеметные установки, я незаметно опрашивал их. Ответы были разные. Особенно обрадовала, но и обеспокоила Глаша Василенкова: «Не хочу. Хочу тишины! Каждое утро хожу в теплицу – на цветы полюбоваться, огурцы прополоть».
Лагерная теплица, как и лесосклад, лесопилка, имела уже хозяина, городского, гражданского.
Как отнестись к Глашиному ответу? Можно ли считать его проявлением демобилизационного настроения? Командир серьезной установки – Ванда Жмур, образованная девушка, опытный солдат, других тем в разговоре не знает, кроме как о замужестве. При Колбенко не постеснялась сказать, что цель ее – «женить нашего комсорга».
Колбенко посмеялся. А ляпни она такое при замполите? Какой вывод сделал бы тот о моральном состоянии личного состава? И о моей работе? А не написать ли обо всех моих наблюдениях, раздумьях, сомнениях в докладной?
Константин Афанасьевич посмеялся над моим намерением: «Давай, давай, подсунь под себя мину. Она и мне задницу посечет. Лопух ты, Павел!»
Тревога! Во время обеда. Офицеры штаба, кроме дежурных, были в столовой. Через минуту очутились на своих местах.
Я – на командный пункт дивизиона. Командир оттуда лишних зевак гнал, а мне позволял: я – летописец, мне нужно знать историю боя.
Выявили врага. На востоке, над Онежским озером, на высоте тысяч пяти мелькнул среди туч серебряный мотылек – шел одинокий разведчик. Разочаровались. Некоторые даже вслух пожалели об аппетитном борще – подхватывались из-за столов так, что поопрокидывали миски.
Кузаев, всегда серьезный на КП, цыкнул на юмористов, смаковавших несъеденный обед.
– Муравьев! Позвони Сухнатову. Видят они его? Пусть поднимет своих соколов. Мы не достанем, сейчас он повернет… Да и «окна» в облаках редкие…
Дивизион сбил более шестидесяти фашистских самолетов, награжден орденом Красного Знамени. Но я не помнил, чтобы наши батареи сбили хотя бы одного разведчика. Такие шпионы, как правило, были добычей истребителей. Если звено «мигов» его догоняло, а небо безоблачно, фашист редко выкручивался. Во всяком случае, на третьем году войны, когда скорость наших истребителей превысила скорость «юнкерсов» и «мессершмиттов». Не то что в начале войны, когда в поединок с фашистскими асами вступали тупорылые «И-16».
С третьей батареи, стоявшей на берегу озера, передали марку: «Мессершмитт-110». Быстроходная машина. Маневренная. С крупнокалиберными пулеметами. Такой пират и от истребителей сумеет отбиться. Кузаев нервничал:
– Что там Сухнатов? Борщ еще не доел?
И тут доклад Савченко, из телефонной трубки – как из репродуктора:
– Самолет в зоне досягаемости. Позвольте открыть огонь!
– Открыть огонь!
Все четыре разрыва, словно белые, красивые в ясном небе, букеты, блеснули перед самым носом разведчика. Потом докатился гром залпа. И уже тогда, когда «мессершмитт» резко спикировал вниз, долетели до КП слабые разрывы снарядов.
Самолет повернул на север и скрылся за облаками.
– Вторая! Вторая!
– Нет совмещения.
– Ах, такую вашу!..
– Савченко! Что замолчал? Где огонь? СОН твоя где? Спит твоя Жмур!
– Переходим на СОН! Огонь! – послышался в телефонной трубке хриплый голос командира третьей.
«Мессер» снова очутился в «окне», и белые букеты вспыхнули под самым самолетом – опасные разрывы, как рассказывали нам пилоты, – веер осколков летит вверх.
– Молодцы! – Возбужденный Кузаев бросил на планшет фуражку.
«Мессер» снова развернулся – на запад. Снова спрятался за облака. Но залпы батареи ухали с предельной частотой. Ритмично, слаженно. И вдруг радостный крик разведчика, наблюдавшего в бинокль:
– Горит! Товарищ майор! Горит! Пламенем!
Кузаев выхватил бинокль у Шаховского.
– Дай полюбоваться!
Но и невооруженным глазом видно стало, как «мессер» выбросил шлейф дыма в облака, пошел на снижение.
С громом, набирая высоту, пронеслось над нами звено «томагавков».
Под длинной полосой дыма в небе закачались две черные точки.
– В небе парашютисты! – доложил разведчик: – Двое!
– Муравьев! Покажи Сухнатову и его «кобрам» фигу.
Возбужденно смеялись офицеры, разведчики, связисты. Кузаев потер руки, сорвал с моей головы фуражку, подбросил в воздух.
– Молодцы! Какие молодцы! Вот нежданно-негаданно! Командира СОН – к награде. И Савченко!
Майор Тужников (только вчера получил майора) скривился: месяц назад, в Кандалакше еще, Ивану Савченко на партбюро записали выговор за то, что жил со своей подчиненной связисткой Ириной Мусаевой, красивой полутатаркой. Савченко не отрицал свою вину, только твердил, что любит девушку. «Он любит! Вы женатый человек. У вас жена», – почему-то излишне нервно возмущался Тужников. «Нет у меня жены», – мрачно отвечал командир батареи. «А где она? Где?»
Савченко не стал объяснять где. Вообще вел себя смело, независимо. Кузаев, когда Савченко вышел, не удержался – похвалил его: «Хороший у меня командир! А любовь, брат, штука такая. Каждый может споткнуться».
Выговор Савченко принял спокойно. А вот перевод Ирины на продовольственный склад, гнилую картошку перебирать, не мог простить ни Тужникову, ни Кузаеву. Как-то, когда я наведался на батарею, угостил меня спиртом, выпил сам и возмущался, упрекая заодно и меня: мол, сидел на бюро, слова не вымолвил.
Чудак! Попробовал бы я, младший по званию, защищать его в таком деликатном деле! Было бы и мне!
… – Шиянок! Поехали со мной. Поздравим третью. Шаховский! Остаешься за меня.
Я заметил удивление на лице замполита, и мне стало неловко. Но с неожиданными решениями командира давно свыклись. И с его отношением ко мне свыклись тоже: часто давал проборку, но – отмечала Женя – любовно, по-отцовски. В конце концов, почему бы командиру не взять с собой комсорга – поздравить комсомольцев с удачей?
– Подверни на первую, – сказал майор шоферу командирского «виллиса».
Я догадался, почему на первую: в блоках бывшего лагеря размещались наши склады. Кузаев задумчиво курил.
– Стоп! К позиции не подъезжай. А то поднимут тревогу. Иди забери Мусаеву. Сделаем Савченко подарок. – И всмотрелся в меня, немного озадаченного. – Что ты глаза вылупил? Напишет замполит докладную в политотдел? – Вздохнул, растер сапогом окурок. – Ну да хрен с ним. Пусть пишет.
Ирина, москвичка, образованная девушка, никогда не была застенчивой и боязливой, не то что вологодские девчата, – разговорчивая, певунья. Но мое «Пойдем со мной» ее испугало. Она отвешивала пшено бойцу пулеметного расчета. Начальника склада не было, она не знала, что делать, кому передать ключи.
«Пойдем, пойдем быстрей, командир дивизиона ждет!» Это ее совсем испугало, даже побелели угольно-черные глаза. Но, увидев у машины веселого Кузаева, успокоилась. Лихо козырнула:
– Товарищ майор! По вашему приказу…
– Садись. Поедешь с нами.
В машине повернулся с переднего сиденья к нам с Ириной:
– Ну что? Все еще любишь своего старого дурака? Девушка ответила дерзко:
– Он не дурак! И не старый, товарищ майор! Кузаев засмеялся:
– Слышал, комсорг, что такое любовь? А ты ведешь профилактику против нее.
СОН стоит от позиции батареи вдалеке, чтобы сотрясение земли и воздуха от выстрелов не возбуждало, не разлаживало тонкую аппаратуру. Хитрая полька явно ожидала нашего приезда – кто-то, ясное дело, сообщил на батарею, – не успела машина остановиться, как расчет СОН был выстроен: десяток красавиц и один усатый гренадер – преподаватель математики из запасников третьей категории.
Ванда, блестя коленками, сделала три парадных шага навстречу командиру, вскинула руку ко все же модно сдвинутой пилотке.
– Товарищ майор! Расчет СОН занимается наладкой аппаратуры после ведения боевого огня по фашистскому стервятнику.
– Ну, спасибо тебе, дочка, спасибо, а я, грешный, после СОН-1 не очень верил в вашу технику. Лишним приложением считал. Спасибо. – Потряс Ванде реку, всматриваясь в ее порозовевшее от удовольствия лицо. И вдруг сказал: – Дай я тебя поцелую, умница. – Деликатно чмокнул в одну щеку, в другую и отступил в сторону, словно уступая дорогу мне. – Целуй ее, комсорг.
Я, конечно, не намерен был целовать и получил леща:
– Разве от этого безусого ягненка дождешься поцелуя?
Кузаев хлопнул себя ладонями по коленям и захохотал:
– Шиянок! Что это о тебе такого низкого мнения? Позоришь мужское племя. Смотри, пошлю начальником столовой – кашу варить.
Я за спиной Кузаева показал Ванде кулак, а она мне – кончик языка: съел?
3
«Лидочка, дитятко ты мое родное! Кровиночка ты моя!» Горько-соленый комок застрял в горле. Сжало в груди. Застучало в висках. А глаза застлали не слезы, их, мокрых, не было, – а кровавый туман, сухой, колючий, до рези, до боли. И сквозь него вставали все самые страшные видения… Полутонная бомба попала в котлован третьего орудия на второй день войны: семерых парней, с которыми прослужил в учебной батарее восемь месяцев, спал на одних нарах, ел за одним столом, ходил в одном строю, порвало на куски, ни одного не узнали, не могли определить, где чья рука, нога, не могли собрать тела, пока не приехал доктор и санитары из санчасти; мне стало плохо, я потерял сознание, и командир батареи потерял… Немецкие асы сбили «харикейн» («английский гроб», как мы называли тяжелые неповоротливые истребители), самолет упал недалеко от батареи, было это в сорок втором, когда мы считали себя уже «зенитными асами». Тело летчика разорвало так, что мне и старшине Шкаруку, мы первые прибежали к месту падения, снова-таки стало дурно: потом мы почему-то стеснялись смотреть друг другу в глаза… Абсолютно бескровное лицо Кати Василенковой и жуткое представление того, что сообщила комиссия: финны распороли ей живот и набили гильзами от патронов, которые расстрелял, обороняясь, расчет НП… И Лидии живот, живой еще комок порванных внутренних органов… Кровь, залившая хлеб. Кровь финна? А этот чего привиделся? Нам нечасто приходилось видеть кровь врагов. Всё – своих, близких… Но нужен мне призрак чужой крови!
«Кровиночка ты моя…»
Плывут буквы в кровавом тумане.
«Какую же радость ты принесла, дочечка моя родная. Только когда наши вступили три недели назад, мы так радовались. Все дни стояла я на шляху, в наших всматривалась, в каждую солдаточку нашу – так тебя ожидала… Ета ж три годика… три годочка, день и ночь я молилась за тебя. И бог услышал…»
– Не услышал твой бог, мама! Нет твоей кровиночки! – Кажется, я произнес это вслух. И тогда брызнули слезы. Я не стыдился их.
Поискал в карманах платок. Не нашел. Женя протянула свой.
– Простите.
– Что вы, Павел, не обращайте на меня внимания. Хотите, я выйду? Посидите в одиночестве.
– Нет, не нужно. Останьтесь. С вами легче. Я мог бы пойти читать в лес… Вы читали?
– Нет, я не могла до вас. Я боялась. Это – ей письмо… Лидии Трофимовне… Только вы, Павел, имеете право.
Вспомнил, как нелегко Женя вручала мне письмо. Передала через Семена Тамилу, чтобы я пришел. Тот неуместно пошутил:
– Иди, тебя главный писарь вызывает. Не могут без тебя девки. Исповедуются как попу.
А я догадался, зачем зовет Женя, знал, что пришла почта. Не сразу пошел. Но упрекнул себя за малодушие. Разве это первая семейная трагедия? Их миллионы. Прочти же быстрее, кто ей пишет. Кто будет оплакивать ее.
Женя смотрит на меня испуганно. Я ни о чем не спрашиваю, ничего не прошу. Я жду, сдерживая тяжелое дыхание и слушая звон крови в ушах.
– Это – от матери, – уверенно сказала Женя, вынимая из-под папки треугольник и подавая мне.
Потому я решил, что она читала. Ее особое, я сказал бы, святое отношение к этому письму растрогало.
– Прочтите сначала вы, Женя.
– Вслух?
– Вслух? Нет. Я подумал, если я буду знать, что кто-то близкий прочитал и… Нет. Все это от слабости, от того, что воевали мы во втором эшелоне. Разве пехотинец в окопе на передовой плакал бы над письмом родителей друга, вчера похороненного?..
– Не думайте, что люди так черствеют. Я пережила все. Однако письма этого боюсь.
– Я сам прочитаю. Слушайте: «Лидочка, доченька моя, я все три года верила, что ты живая, в снах говорила с тобой. Тетка твоя Михалина, царство ей небесное, два года ходила в церковь в Чигири, свечечки ставила за здравие сынков своих и за твое. А потом мне сказали, что помолилась она за упокой твой. Поссорилась я с ней, Лидочка, прости мне господи. Может и грех ето. А может, бог и ее наказал. Застрелили ее полицаи, когда она в Кличев к дочери шла. Вот же гады, старую кобету мишенью сделали, с пожарной вышки в Городце стреляли – кто попадет. Деточка, ты слышала про такое – чтобы стреляли в человека для забавы?
Мы с Тонечкой пишем тебе письмо, а тут прибежала Анка Титкова, подружечка твоя. Кричит: «Тетя Липа, письмо от Лиды! Мне письмо!» Она думала, что она первая получила, что нам не написала ты! Дурочка! Ей первой стала бы ты писать? Не матери? Подлизывается ета Анка! Курва она – с полицаями крутила. Не верь ей, Лидочка. Теперь она без мыла будет лезть… Да что я тебе пишу про всяких… А про своих не написала… Брат твой родной Толик, младше же тебя на два года, а партизанским командиром был. Ой, как нас трясли за него, как мучили! Отца твоего Трофима Филимоновича месяц в бобруйской тюрьме держали, потом в могилевской, в Минск повезли. Да в Минске наши его освободили, пришел он из Минска неделю назад. Лидочка, как горькое яблоко человека избили. Черный весь. Кашляет. Да ты не горюй, доченька моя. Отца я выхожу. Коровку у нас забрали, парсючка забрали. Да свет не без добрых людей. Сегодня ажно две гладышки молока принесли. Семьям партизан все несут. А Толик с войском пошел. Мы же счастливые – нас не сожгли, только когда партизанская блокада была, полсела сгорело. А вот Придрутье все сожгли фашисты проклятые, матерей, деток маленьких в церковь загнали, всех сожгли. Лидочка! Какие звери! Ты, может, на фронте такого не видела! Тонька говорит: не надо тебе этого писать, а я говорю – нужно. Не стыдись ты ни за кого из нас. Все у нас были достойные. Тонечка ребенок, двенадцать годков, а партизанам хлеб носила. А я пекла его. Один в нашем роду выродком оказался – твой брат двоюродный Николай, в полиции служил. Теперь мать его Авдоха ползает на коленях по всему селу: людочки, спасите Миколайку, сидит он в Могилеве, бандит, хапнули его наши, видно партизаны еще, не помогли ему германцы.
Авдоха говорит – сам сдался. А может, и сам. Куда ему было деваться? Вчера Авдоха к нам приползла и голосила: родные мои, своя кровь, никого ж Миколка не убил. Оно-то, може, и правда, что никого не убил в своем селе. А что там на стороне было – один бог знает. Тоня не хочет писать «бог», а я говорю ей: пиши, детка, и батько с печи говорит: пиши, дочка, все, что мать говорит. Не убивал он в своем селе, и я, дурная баба, согласилась пойти подтвердить это. Ох, Лидочка, как накинулись на меня и отец, и Тоня. Ты, говорят, у Толика спроси и у Лиды. Напиши ты мне, дочушка, как мне быть: как ты скажешь, так я и сделаю. От Толи не дождешься – пошел с войском на Берлин бить супостата в его берлоге. А ты вот, деточка, близко, мы так поняли – близко от Ленинграда, ты же пишешь: недалеко самый великий, самый легендарный город. Так Тонечка говорит: ето так близко, всего тысяча верст. Деточка моя, коли б не больной отец и коли б адресок ты прислала, пошла бы к тебе пешком, свет не без добрых людей, подвезли бы солдатики, хлеба краюшку дали бы, когда свой весь съем. Тонька, глупая, смеется, что я хочу пойти к тебе, а я не пошла бы – на крыльях полетела. Писать не хочет, говорит, испугает ето тебя, а батько с печи говорит ей: пиши все, что мать говорит, все пиши. Отец знает, как тебе дорого каждое наше словечко и как мы тут между собой, Лидочка, то ето ж от радости все, от радости, что письмо твое пришло, что живенькая ты, здоровенькая…»
Как мать говорила, так и писала школьница, три года не учившаяся. Кроме смысла было и какое-то магическое воздействие круглых детских букв и слов, родных, белорусских, написанных бог знает в какой транскрипции, три класса окончила Тоня до войны, я запомнил – рассказывала Лида. И эти слова… нет, не успокаивали – странно высушивали глаза и… душу.
На минуту я оторвался от письма, спросил у Жени, все ли она понимает – по-белорусски же.
– Разве можно это не понять?
Не стоило спрашивать: лицо ее, бледное и так, еще заметней побледнело. Мне надо бы встревожиться. Но не такой ли белый и я сам?
«…То ето ж от радости все, от радости, что письмо твое пришло, что живенькая ты, здоровенькая…»
И – хлоп. Женя уронила голову на машинку.
– Женя! Вам плохо!
Но, вспомнив, как она боялась, чтобы ее не комиссовали, прежде всего бросился к двери, повернул ключ. Пусть какой-нибудь дурак думает что хочет, лишь бы не дать ей попасть в санчасть.
Поднял ее голову, сорвал косынку, набрал из котелка в рот воды, брызнул в лицо. Боже, какая стриженая головка! Просто детская! Боязно дотронуться, взять в руки, потереть щеки. Но я сделал это. И Женя раскрыла глаза. Дал ей напиться.
– Испугали вы меня.
– Я хоронила Лиду и держалась… а тут…
Действительно, на похоронах она утешала меня. Уложить бы ее. Но в комнате только один стул, табуретки да ящики со штабным имуществом. Куда ее, такую длинную, положишь? Подсунул табурет, обнял ее и, так поддерживая, поил водой.
– Что вас так?..
– Мама. Увидела маму там, в Ленинграде… как она умирала… Вы сами напишете им?
– Сам.
– Тяжело вам будет. Но напишите так, чтобы не убило ее… Они слабенькие, сердца у наших матерей…
Постучали. Я открыл. Муравьев. Мудрый человек! Не только ничего не сказал на запертую комнату, но и удивления не выказал. По-граждански попросил Женю напечатать приказ о патрулировании в городе. Дивизион должен охранять не только небо, но и городские улицы. Немного в городе осталось частей. Тыл.
Войска наши вышли к государственной границе. Еще несколько дней назад я проводил беседу на эту тему, видел радостно блестевшие глаза бойцов. На финнов были злые не только за эту войну, но и за кампанию тридцать девятого – сорокового. Финнов не мешало бы сурово наказать. Но повесить нужно тех, кто начал войны, одну и другую, а не того, взятого нами в плен мальчика, что явно дезертировал и хотел в карельском лесу дождаться мира.
Женя таки действительно аккуратно перекопировала их солдатские книжки – и живого, и мертвого. И я выполнил совет Колбенко – отнес их Иванистовой.
Лика глянула в бумажку, где я крупно, буква в букву, перенес все, что выписала из книжек Женя, и неожиданно для меня спокойно, равнодушно, оскорбительно для мертвого – так мне показалось – смяла бумагу.
Я, дурак, мучился догадками, соображениями, волновался, доверительно говорил с Колбенко, с Женей – а она вот так просто… смяла, хотя, правда, не выбросила, держала в сжатом кулаке. Но кулачок… будто грозил кому-то.
И я нарочно сказал мстительно, жестко:
– Скоро наши будут штурмовать Хельсинки.
Тут она побледнела, шагнула ко мне, губы ее задрожали, когда она спросила:
– Почему вы такие злые?
Я взорвался:
– Кто «мы»? И кто «вы»? Иванистова! Не отделяйте себя… это плохо может окончиться… для вас. Вы дочь советского офицера! Мы злые? А те, мучившие Катю, – добренькие?
Она понурилась, разгладила на другой ладони смятую бумажку, миролюбиво сказала:
– Простите. Я не то сказала. Я все еще штатская. Спасибо вам за фамилии. Моего одноклассника тут нет. Да и что мне до него? Вы правы: если он там – он враг.
А через несколько минут я имел разговор с Даниловым. Цыган, взвинченный, с побелевшими зрачками, накинулся на меня так, словно я был виноват во всех бедах.
– Слушай! Что твой «Смерш» имеет к Иванистовой? Нашел шпионку! Дурак! Ему нечего делать? Ему скучно от ничегонеделанья? Так пусть попросится на фронт или туда, где осталась сволочь недобитая…
Зубров – неглупый человек. Но говорить с людьми не умеет. Бывший прокурор, он не только допрос – обычную беседу ведет по-прокурорски. Но никто ему об этом не отваживается сказать. Я представил, как он мог говорить с Ликой, и понял, что она подумала обо мне, почему смяла бумажку. Но не мог же Колбенко передать ему мое возмущение ее просьбой – дать фамилии финнов. Чего же он прицепился к ней? В чем причина? Училась в Хельсинки?
– Появится еще раз – буду говорить с ним я. А я – цыган! Я – цыган! Я из камня высекаю огонь! Конечно, будет плохо мне… Но предупреди Кузаева, Тужникова, парторга… Чтобы знали наперед.
Но думал я не о Зуброве. Ошеломило другое – моя догадка. Смотрел на возбужденного Данилова, в его глаза, сыпавшие искры, и все больше убеждался в правильности своего предположения. Широкая физиономия моя расплылась от улыбки.
– Саша! Ты влюбился, – вырвалось у меня.
И тут же пожалел о сказанном.
Данилов не побелел – он почернел до состояния того Отелло, которого я видел до войны в исполнении Папазяна. Схватился за кобуру.
– Пошел к чертовой матери! Безмозглый болван! А то я отведу тебя на КП с конвоиром… За оскорбление старшего по званию.
– Дурак ты, Саша, дурак. Радуйся, а не злись, – сказал я, выходя из барака, где устроился командир батареи.
В бессонные ночи я писал письмо Лидиной матери. И отцу. И сестре. Я плакал от обращения «дорогая мама». И тут же зачеркивал его. Какая мама? Чья? Имею ли я право называть ее мамой? Возможно, я шептал слова или, может, повторял, когда проваливался в сон. Однажды ночью Константин Афанасьевич, повернувшись – и ему не спалось, – сказал:
– Спи. Напишу я.
– Нет, я сам. Пожалуйста, я сам.
– Сам так сам. Но не тяни, не жги сердце. Будь солдатом. Война есть война. А если бы ты был командиром пехотной роты? Вообрази его участь. Ежедневно приходится писать… в наступлении…
Кто-то из них – он, парторг или Женя – сказал о письме Тужникову. Замполит прочитал письмо при мне, все понял, ни одно слово не попросил объяснить. Какое-то время сидел в задумчивости. На лице майора отразилась глубокая боль. Он сказал неожиданно очень по-человечески:
– Что поделаешь, мой боевой товарищ. У меня погибли два брата. И у обоих дети. Я высылаю им аттестаты…
Едва заглушил крик боли и… стыда. Как же мы не знали, что у заместителя по политчасти погибли братья? Называется, боевые товарищи. Впервые услышал. Знает ли хотя бы командир? Мы считали Тужникова педантом, формалистом, поверхностным крикуном, умеющим создать помпу, показать себя. Его недолюбливали и командиры за частые проверки, за накачки, за придирки к тому, в чем он не разбирался, – например, в наладке СОН, первые установки часто разлаживались, и Тужников распекал командиров, чего никогда не делал классный специалист, ученый электрик Шаховский, капитан ни на кого не повысил голос, лишь иногда мог поиронизировать.
Тужников посоветовал, именно посоветовал, а не приказал, как обычно, использовать письмо Лидиных родителей в политической работе. Я не ответил: «Слушаюсь, товарищ майор!» – чувствовал, не смогу читать письмо ни комсомольцам, ни «дедам» – бойцам, имевшим таких, как Лида, Глаша, Женя, детей. Во всяком случае, в ближайшее время не смогу – пока не заживет рана.
С упреком себе, ему, всему дивизиону я сказал Колбенко о погибших братьях Тужникова. Парторг упрек не принял и не удивился сообщению, что тяжело поразило меня. Но через минуту ошеломил бранью:
– Подлец! – Кто?
– Начфин. Хатнюк. Свинья! Пустил сплетню, что комиссар делит аттестат на трех жен – и все Тужниковы, в разных городах. Вот за такое нужно бить морду. Я не поверил. А кто-то другой мог поверить.
Странно устроены люди. Непонятно. Для меня – непонятно. В тот же день Тужников и Колбенко поцапались. Из-за Савченко. Командиру батареи на партбюро записали выговор, но, поскольку никто не подчеркнул «с занесением в учетную карточку», парторг и я, его писарь, схитрили при оформлении протокола: не записали это существенное дополнение. Я предупредил Константина Афанасьевича, что замполит такое не забудет. И он не забыл. Он спросил, почему не оформляется выписка на Савченко для политотдела корпуса.
– Так без занесения же!
– Кто сказал?
– Никто не сказал, что с занесением.
– Колбенко! Не политиканствуй! Доскачешься! Припомнят тебе!
– А ты мне не угрожай. Что ты мне все время грозишь? За что ты хочешь съесть Савченко? Девушку пригрел? Подумаешь, преступление! Слава богу, поумнели. Его Кузаев к награде представляет.
– Командир – человек эмоций. А мы – политики.
Тужников каждое дело доводил, как говорят, до логического конца, свою правду доказывал так, чтобы и щелки не оставалось для иного толкования. Он вызвал меня и устроил допрос в присутствии Колбенко:
– Я вносил предложение по Савченко – с занесением?
– Не помню, товарищ майор.
– Не помнишь? Отбило тебе память?
– Я аккуратно заношу в протокол все ваши предложения.
– Знаю, как ты записываешь! Летописец Нестор! Я тебя не первый раз ловлю на подобных записях. Ты записываешь, что диктует тебе Колбенко. Смотри, допишешься!
– А что Колбенко? Проводит антипартийную линию?
– Не знаю, что вы проводите.
– Ну, это уж недозволенный прием. Вы меня компрометируете…
– Перед кем? Перед ним? – показал Тужников на меня. – Он давно твоей тенью стал. Слишком вы спелись. Великие политики! Сегодня же созовите членов партбюро.
– Зачем?
– Проголосуем еще раз: с занесением или без занесения.
– Ну, если уж пересматривать, что я выступлю против выговора вообще.
– И я, – поддержал я парторга, радостно удивившись неожиданной своей смелости. Пожалуй, никогда я так не возражал своему начальнику. Но тут – не боевая команда, а партийное дело, в партбюро у нас равные голоса.
– Вам хочется сорвать комбату орден. Завидуете! – доконал Колбенко замполита.
Ошеломленный Тужников долго молча смотрел на нас. Я догадывался, в каком направлении шли его рассуждения: командир дивизиона, вероятнее всего, поддержит нас, очень уж сердечно он поздравлял Савченко со сбитым самолетом, Ирину ему подарил, плюс Данилов, и на прошлом бюро воздержавшийся, за что потом имел от замполита хорошую проборку. При таком повороте можно остаться в меньшинстве, чего Тужников не допустит, голосование может подорвать его авторитет, о котором он печется, пожалуй, с излишним тщанием.
Какое решение найдет этот противоречивый человек? У меня даже пульс участился. И вместе с тем стало жаль майора – вспомнил о братьях, о их детях, об аттестате, который он делит на три части. Очень захотелось, чтобы Геннадий Свиридович (может, впервые я обратился в мыслях к нему так – по-граждански) принял разумное решение. И к моей радости, он оказался на высоте.
– Можете идти!
– Бюро созывать?
– Я сказал: можете идти.
Колбенко козырнул молча. Я стукнул каблуками.
– Есть идти, товарищ майор!
Колбенко в коридоре упрекнул меня:
– Что ты подскакиваешь, как молодой козел?
– От радости.
– За кого?
– За нас с вами. За Савченко. И за… Тужникова.
– Софист, – бросил мне Константин Афанасьевич, но, характерно вытерев губы, подбородок, хорошо засмеялся.








