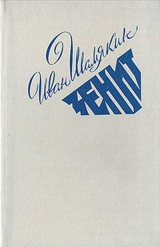
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
Однако больше, чем ее одобрение, вдохновляло внимание студентов, их глаза, полные искреннего интереса.
Потом я сам удивился, что, не занимаясь специально освободительным движением, я таки много знаю про Индию. Помогла, наверное, поездка туда, хотя и давняя уже – лет восемь назад. Я прочитал курс лекций в Мадрасском университете. На английском языке. Полгода перед тем углублял свои знания английского.
Я рассказал о Ганди, которого народ называл Махат Май – Великая Душа.
Я рассказал, как, запертый англичанами в тюрьме, Джавахарлал Неру чуть ли не ежедневно посылал дочери Индире письма, в которых излагал свой взгляд на всемирную историю. Его письма стали фундаментальным трудом не только по истории, но и программой борьбы индийского народа.
Потом дома проверил и удивился, что так помнил Неру: отдельные места цитировал чуть ли не дословно – не только объяснение истории, но и отцовское обращение к дочери. Например, такое (конечно, делая запись, я заглянул в русское издание Неру):
«Итак, ты была больна, дорогая, и, насколько я знаю, возможно, еще не встаешь. Проходит много времени, прежде чем новости проникают в тюрьму. Я почти ничем не могу помочь тебе, и ты должна будешь сама поухаживать за собой. Но я буду много думать о тебе. Удивительно, как всех нас разбросала судьба – ты далеко в Пуне, мама, больная, в Аллахабаде, остальные по разным тюрьмам».
Но еще лучше я помнил, тут действительно уж почти дословно, что писал Hepy Индире об Октябрьской революции, о Ленине:
«Ленину были нехарактерны колебания или неопределенность. Он обладал проницательным умом, зорко следившим за настроением масс, ясной головой, способной применять хорошо продуманные принципы к меняющейся ситуации, несгибаемой волей, благодаря которой твердо придерживался намеченного курса, невзирая на непосредственно достигнутые результаты»… «С приходом Ленина все изменилось. Он сразу оценил положение и с гениальностью настоящего вождя выработал марксистскую программу».
Такими вот рассказами о Ленине, о русской революции учил Отец народа и свою пятнадцатилетнюю дочь, и свою великую нацию борьбе, мужеству и умению побеждать. А потом я рассказал о драматичной судьбе самой Индиры Ганди. Сколько реакция плела заговоров против нее, против партии, которую возглавляла она после смерти отца! Врагам не удалось победить ее в политической борьбе, ведь за ней шел многомиллионный народ, – они подослали продажных убийц, посмевших стрелять в женщину, в мать.
Говорил я взволнованно, не по-профессорски, в какие-то моменты меня почти лихорадило, и я то холодел, то обливался потом.
Мое волнение не могло не передаться студентам – видел по их лицам, глазам. Да и Зося… Она смотрела на меня… То – с восторгом, то – со страхом. Что ее пугало? Мое сердце. Наверное, именно из-за ее глаз я окончил неожиданно, без громких слов. Утомленно сел к столу – как бы опомнившись, что прочитал не то, что надлежало. Но вдруг оттуда, сверху, с высоких скамеек, скатились аплодисменты и, приближаясь, нарастали снежным валом. Они почти испугали. Случалось, мне аплодировали на лекциях, но вот так – никогда.
Я поднялся, с благодарностью поклонился и пошел к двери под аплодисменты, ставшие ритмичными. Зося догнала меня в коридоре. Пошла рядом молча.
– Я поздравляю тебя. Меня всегда поражали твои знания… Но чтобы так… с ходу…
– Пожалуйста, Зося. Она помолчала.
– Но не кивнут ли нам за такой экспромт?
– Чего ты боишься?
– Я ничего не боюсь, Павел. Я устала. И готова хоть завтра на пенсию. Я за тебя боюсь.
– А что мне угрожает? За рассказ про Индиру Ганди.
– Ты идеалист, Павел. Ты слишком веришь людям. И не знаешь, что твой друг Петровский ведет активную работу по срыву твоего переизбрания…
Я остановился.
– Петровский? Зося! Смешно.
– Тебе смешно, а мне горько, что ты все еще так веришь ему.
– Зося! Ты не в своем амплуа, ведь никогда не сталкивала людей лбами. Что же, он сам хочет в это низенькое и шаткое креслице?
– Нет. Они хотят выставить на конкурс Титовец.
– Марию Романовну? Насмешила. Она неплохой профессор. Но организатор… какой из нее организатор? Ты же знаешь… Типичная книжная дама.
– Организатор из нее никакой. Но есть очень активный организатор – ее племянник. Великий комбинатор. Руководить будет Барашка.
– Не знал, что ты такой мастер сюжетов. Лучший наш романист не придумал бы.
– Придумать это невозможно. Нужно видеть. А я умею видеть.
– Но зачем Петровскому?
– Неужели ты не раскусил, что он – из игроков, умеющих выбрать коня, на какого ставить. Переориентировка на молодежь. На Марью среднего возраста. И на совсем молодого Барашку, который так шагает в науку, что аж штаны трещат.
– А что от этого будет иметь Михаил?
– Закидывает на будущее. Чтобы еще лет двадцать читать написанные четверть века назад лекции.
– Зося, ты становишься злой.
– Я таки становлюсь злой. Хоть одно ты заметил. И знаешь, на кого я больше всего злилась в последнее время? На тебя.
– Спасибо.
– Кушай на здоровье. Но оглянись хотя бы в нашем кафедральном хлеву. Ты прости. Я не злая. Я старая, бдительная, но и сентиментальная баба. За лекцию я простила тебе твою куриную слепоту. У меня сжималось сердце. Сосала валидол.
– Когда ты достала тюбик, я испугался и сбился. Но ты положила его назад…
– По твоей заминке я поняла, что ты увидел. Чтобы не пугать студентов, у меня всегда лежит запасная таблетка в кармане кофточки. Ее можно взять незаметно.
Мы подошли к двери нашей кафедры. Я нашел ее руку и с благодарностью пожал.
– Не настраивай себя на уход. Мне будет тяжело без тебя.
– Но раскисай, Павел. Ты хочешь, чтобы я вошла сюда с глазами полными слез? Как бы это порадовало лысого осла и кудрявого барана.
– Не заводись, пожалуйста.
– Не буду. Я не злая, Павел. Я добрая. Как и ты. Но за нашу доброту вон та прима, независимая за спиной мужа, поднявшись на его плечах над нами всеми, грешными, называет нас с тобой олухами царя небесного.
Вдали по коридору шла Раиса Сергеевна, жена высокого государственного работника, посредственная преподавательница, но добрейшая женщина, ее любили на кафедре. Не поверил я ее аттестации нас с Зосей. Но явно же что-то говорила, у них с Зосей, можно сказать, дружеские отношения, наведываются в гости друг к другу. Меня почти развеселила характеристика Раисы Софьей Петровной. Ответственная жена умеет ничем не подчеркивать своего положения, умеет помолчать, посидеть в уголке. Однако и в уголке сидит она выше всех – как на троне. Это ощущение нередко злило, особенно когда хотелось высказаться про недостатки в руководстве экономикой, идеологией, но присутствие ее сдерживало. Странно, потом, на совещаниях, с трибуны я высказывал многое из того, что хотел сказать на кафедре, и… не отваживался из-за нее. Может, поэтому захотелось, чтобы Раиса услышала Зосино определение ее персоны и ее положения. Выходит, и я бываю злорадным. Нехорошо, дорогой товарищ. Умей быть объективным! Зосе я сказал с улыбкой – первой после сообщения о трагедии в Индии:
– Давно знаю твой язык, но таким острым, как сегодня, не помню.
– Плохая у тебя память.
На минуту задержались перед дверью. И вышло бог знает что: Раиса своим чрезвычайно деликатным приветствием явно благодарила нас за ожидание ее в коридоре, чтобы вместе войти на кафедру. Из уважения, мол, поджидали. Я разозлился на Зосю: неужели не понимала?
Во время перерыва – общий разговор. Про подлое убийство. И про наши дела – большие и малые. Приближался праздник Октября. Участие в факультетском вечере, в демонстрации. Подведение итогов соцсоревнования, пока предварительно. О соревновании преподавателей высказываются скептически даже в прессе. Но результат его, на нашей кафедре в частности, не волнует разве что одну Раису Сергеевну, или просто она умеет не выказывать свои чувства. Старый Петровский и молодой Барашка ожесточенно сражаются за каждый балл.
Началась лекция, все разошлись. Я остался один в большой комнате. Попытался работать над отчетом. Но охватила странная тоска. Подобное состояние в последнее время не редкость. Появились и новые нюансы. Почему-то только сейчас больно задели слова Софьи Петровны про интриги Михаила. Вспомнились детали, подтверждающие ее правоту. Но зачем ему? В конце концов я махнул рукой на Петровского. Мелочь! Знаю я Михаила! Качается как маятник. Потом придет просить прощения. Однако грусть не проходила. Она и правда неожиданная: глубокое ощущение одиночества, какой-то космической пустоты, будто один-одинешенек я очутился на Луне или на Марсе.
Вспомнился недавний трогательный случай. Валя повела в поликлинику Михалинку. А меня одного оставила с Витой. Она спокойная, ласковая, послушная, хвостик своей шумной сестры. С ней нет забот, так считали все. Я работал – писал статью.
Малышку посадил на диван, дал ей лучшие зарубежные фломастеры, которые могла выпросить только хитрушка Мика, да и той я не давал все сразу, по одному. Виточке они доставались редко, она подлизываться не умела. Если и давали ей такие редкие игрушки, то все равно через минуту ими завладевала Михалина. А тут я расщедрился для собственного спокойствия: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. И бумагу дал. У малышки даже глаза загорелись от радости. Прошло десять – двадцать минут. Я углубился в исторические размышления. Девочка сопела носиком за моей спиной. Под детское сопенье хорошо думалось.
И вдруг – плач, громкий, этот тихенький ребенок так плакал только от боли.
Что случилось? Испуганный, схватил малышку на руки.
– Что с тобой, Вита? Виточка, ты укололась? Чем? Где болит?
Недосмотрел дед-недотепа. Вита заливалась слезами. Я целовал ей головку, щечки.
Постепенно плач перешел в тяжкие, как у взрослого в великом горе, всхлипы.
– Никого нет.
– Что? Что?
– Никого нет.
Ошеломила. Ребенок привык к большой семье, к обществу своей шумной сестры. И вдруг тишина. Испугалась одиночества.
– Виточка, славненькая моя! Как же никого нет? Мы же с тобой есть. Дедушка твой есть. И ты есть. Ты есть! И бабушка с Михалинкой сейчас придут.
Едва успокоил. Начал доставать с книжных полок те привлекательные для детей сувениры, которые давались им только в исключительных случаях под наблюдением взрослых: очень уж ловко и быстро они умели ломать, разбирать хрупкие кораблики и куколки, привезенные мною из зарубежных поездок.
Конечно, стало не до работы, я оглядывался на малышку каждую минуту. Но как только углубился в рукопись, чтобы дописать предложение, докончить мысль, как снова услышал всхлипы.
Никакие игрушки не помогли.
– Ну что ты, Витулечка моя?
– Никого нет.
Ей-богу, самому стало холодно от детского страха. Не сразу сообразил, что нужно сделать. Переходя из комнаты в комнату с ней на руках, чтобы успокоить, поднес к окну, выходившему на шумную улицу, показал:
– Смотри, сколько людей! Смотри, сколько машин! И собачку тетя ведет. А ты говоришь – никого нет. Глупышка моя маленькая!
И девочка успокоилась. Даже засмеялась, поняв, наверное, что страх ее напрасный.
…Почему я поднялся из-за стола, почему очутился у большой карты мира, висевшей на глухой стене под портретами известных историков? Долго ли стоял там? На кого смотрел? На историков? Нет, на карту!
На знакомые очертания материков, таких близких друг к другу. На самой планете в наше время – как на карте: только успеешь провести глазами от Лондона до Минска (не можешь не задержаться на дубовом листке своей республики), дальше – к Москве, Владивостоку, Токио, Сан-Франциско, Нью-Йорку… и этих минут достаточно, чтобы…
Опомнился от старой боли в похолодевшем сердце – как тогда, когда услышал глупую шутку президента: «Бомбардировка начнется через пять минут».
Никого нет…
Выберется дитя человеческое из шахты, из бункера, из космического корабля, оглянется и – никого нет.
Бр-р-р.
А мне и правда холодно. Ах, открыта фрамуга! Барашке все душно, он постоянно открывает окна, не спрашивая разрешения. С Петровским они как-то из-за этого схлестнулись. Но закрывать фрамугу не хотелось. Или не хватило сил? Что так утомило?
Сел на диван в дальнем углу, под расписание, где любила сидеть Раиса Сергеевна.
Как Валя примет мой рассказ о том моменте в сегодняшнем дне, когда мне, как маленькой Виктории, захотелось заплакать от одиночества? Посмеется? Над Виткиным страхом посмеялась. Валя не любит, когда мы с Мариной или Петровским начинаем рассуждать о катастрофе, угрожающей человечеству, если оно не поумнеет. Об этом лучше не думать, считает моя жена, чтобы не утратить смысла жизни.
Я понимаю ее – мать.
9
В Данилова я был просто влюблен. Мне, молодому романтику, знавшему со студенческих лет на память «Цыган», он казался Алеко. Современным. Действительно, судьба у него не менее драматична, чем у пушкинского героя. Только время иное. Если бы не война, он, наверное, поступил бы в институт, ведь на «отлично» окончил школу. Но после последнего экзамена все выпускники, даже девушки, пошли в военкомат. Данилова послали в военное училище. Через полгода он вышел оттуда лейтенантом, поскольку учился лучше других. И вот, на два года моложе меня, он уже старший лейтенант и командир батареи.
Я гордился дружбой с Даниловым. Я был благодарен ему, ведь мы подружились еще тогда, когда он был лейтенантом, а я – старшим сержантом, его подчиненным. Разве не показатель ума молодого командира?
И все же я жил с боязнью. За него. Чувствовал нутром, что цыган способен на такой же сумасшедший поступок, как и далекий предок его Алеко, как и отец его. Убедился в этом дважды. Кто-то ему написал, что отец, отбыв срок, призван в армию. Он доверительно поделился со мной новостью, больше ни с кем, как я потом узнал. Но какими страшными стали его глаза, когда он сказал: «Я верю, он будет хорошо воевать. Но я все равно не прощу ему смерти матери. Не прощу!» И второй раз. Батарея прикрывала в Африканде аэродром дальних бомбардировщиков. Я поехал к нему. Он не таил своей радости и гордости. И вдруг – в короткий полярный день, очень морозный, когда все застывало, – массированный налет «Хейнкелей-111», желтокрылых чудовищ. Правда, фашисты просчитались: большинство наших ДБ в это время бомбили немецкие корабли в норвежских фиордах. Однако аэродром – большое хозяйство. «Хейнкели» обрушили бомбы на бензохранилище, все пылало, горело, трещало. Содом и Гоморра! А у нас заело кабели синхронной передачи от прибора к орудию – мороз! Пушки вели огонь прямой наводкой. ПУАЗО бездействовал. Данилов выхватил пистолет из кобуры и бросился к Виктору Масловскому, командиру прибора, моему и его другу:
– Застрелю, сукин сын! Куда смотрел?!
Я выбил у Данилова пистолет, довольно грубо бросил его в приборный котлован. Обезоруженный, он грыз лед бруствера, стонал и плакал, из черных глаз его лились, казалось мне, красные кровавые слезы. Девчата-прибористки были испуганы и ошеломлены гневом своего любимого командира.
Вот тогда впервые мне стало страшно за друга моего Сашу Данилова.
Виктор после того случая намеревался подать рапорт с просьбой перевести на другую батарею. Я едва уговорил его не делать этого: только он с его рассудительностью, хладнокровием мог воздействовать на цыгана или, во всяком случае, следить за ним, чтобы тот не натворил глупостей. Я сказал Виктору, что Саша напоминает мне Алеко. Прагматик и рационалист, земляк мой рассмеялся: «Нашел Алеко! Обрусевший цыган, рвущийся в генералы!» Между прочим, почти так же, значительно позже, сказал Колбенко, услышав от меня слова опасения за Данилова: «Не бойся. Этот цыган станет генералом, и мы с тобой будем стоять перед ним навытяжку».
Мне не понравилось, как Данилов рассказывал о новенькой: необычайно горели его глаза. Больно задело, что рассказывал он так, словно не было Лиды, лучшего в дивизионе первого номера дальномера. Не вспомнил Лиду. В эту минуту я ненавидел комбата.
– Знаешь, это находка!
Мы ходили по асфальтовой дорожке бывшего лагеря военнопленных; в довершение всего я не переставал возмущаться циничностью фашистов: мучили людей и создавали видимость заботы о них – для делегаций Красного Креста.
– Она уже сегодня давала правильные замеры. Барражировали наши самолеты. И мы перепроверяли. Я, Масловский. Математику знает лучше нас с тобой. Хорошо их учили, будущих карельских учителей. С финской основательностью. – Данилов засмеялся.
«Чему радуется?» – совсем неприязненно подумал я.
– У князя нюх. Этот аристократ осмотрел призывников в военкомате, их там с полсотни было, девчат… Мужчин призывного возраста в городе нет, может, и были, но их подобрали наступающие части, люди всем нужны… Лика говорит, капитан первую ее выбрал…
Лика? Уже Лика?
Даже жарко стало.
Данилов не был формалистом, но, как, пожалуй, никто из командиров, держался воинской субординации и очень редко позволял себе фамильярничать с подчиненными, разве что с такими, как Масловский, с девушками вообще никогда. Савченко, старый командир, из довоенных, мог, например, позвать так: «Анечка, иди сюда, голубка!» За это Тужников не раз саркастически высмеивал его на совещаниях, партсобраниях.
По дороге на батарею я посмотрел в штабе анкету новобранки, но не мог вспомнить ее полное имя. Странно: совсем русская фамилия и совершенно чужое имя. Карельское? Финское?
Данилов оглянулся и, понизив голос, сказал доверительно:
– Скажу тебе – у меня даже подозрение появилось… на мгновение, когда она начала давать такие точные замеры: а не служила ли она в финской артиллерии?
Взмокла гимнастерка на спине, а в горле – точно хватил ледяной воды. Не успел разобраться, почему подозрение Данилова меня так взволновало? Почему мне хотелось, чтобы оно оказалось правдой? В таком случае ее непременно выставили бы из дивизиона. Даже умная, рассудительная Женя, показывая мне документы, высказала осторожное удивление: только Шаховский мог отважиться выбрать таких – учившихся в Хельсинки. Я думал о том же по дороге на батарею и, при всей противоречивости чувств, одобрял Шаховского. Кстати, и Колбенко похвалил его смелость, когда рассказывал о девушке. Так неужели мне хочется выгнать человека, даже не увидев его?
А Данилов снова капнул на душу – как соляной кислотой:
– Только Зуброву не говори о моем диком предположении. У него профессиональная подозрительность. Я задал ей несколько вопросов. Далека она от военного дела. Да и эта… как ее, что в прожекторную роту послали?..
– Эва Пъюханен.
Странно, целиком финское имя и фамилию я запомнил сразу, глянув в список, – девушки, мало мне интересной, а той, что заинтересовала, не запомнил. Запутало шутливое колбенковское «Кукареки», что ли?
– …Она же училась на одних курсах. Какая там артиллерия! Глупость! Я сделаю из нее первоклассную дальномерщицу!
На мгновение появилось мстительное: сказать все же Зуброву. Пусть проверит. Как-никак, а эта финка – не Мальцев, отец Героя Советского Союза. Но тут же разозлился на себя за такое недоброе желание.
Мы говорили с Даниловым о других батарейных делах. Советовались, кого выбрать комсоргом батареи. Для меня разговор тяжелый – выбирать вместо Лиды. Но еще сильнее расстраивало то, что, с глубокой печалью вспоминая Лиду, я не мог одолеть неуместного, просто-таки детского любопытства, желания быстрее увидеть ее, новенькую, с необычной биографией, девушку, занявшую Лидино место на дальномере. Придя на батарею, я увидел ее мельком. Издали. Незнакомка, всех других я узнавал за версту, появилась в окне ближайшего к позициям барака. Впервые за войну батарея не строила землянок – разместила людей по-казарменному.
Она появилась в проеме окна, с которого сняли решетку, босая. Меня поразило неожиданное совпадение: такой видел Лиду за несколько минут до взрыва в том злосчастном доме. Вероятно, эта тоже мыла пол или окна. Я не рассмотрел ее лица. Но перед глазами стояли ее ноги, белые, красивые. И мне казалось: это тоже оскорбляет память о Лиде.
У меня участился пульс, когда мы возвращались на позицию.
Данилов пошел в штабное помещение барака.
Иванистова была у дальномера. Одна. Я остановился на бруствере, а она стояла в котловане, фланелевым лоскутком протирала линзы оптических труб. Увидел ее вблизи – и сердце вошло в обычный ритм. Ничего особенного. Девушка как девушка. Невысокого роста. В кирзовых сапогах. В широковатой в плечах, хотя и укороченной уже ее руками, непритертой гимнастерке. А пилотка, наоборот, явно мала. Нет, просто волосы ее, удивительные по цвету – как отбеленный лен, были сзади сплетены в пучок, и пилотка не по-армейски, как-то кокетливо, театрально сдвинута набок и на лоб. Это, пожалуй, единственно необычное, что заметил я с первого взгляда, – пучок волос, отливавший каким-то чуть ли не фиолетовым светом. И я вдруг почему-то порадовался, что отменили нелепый приказ – обрезать девушкам косы. Теперь, пожалуйста, носи кто хочет, только собирай в аккуратную «куклу», чтобы волосы не висели на плечах. Дело другое, что наши девчата, и старослужащие, и последующих призывов, сами подстригались: невозможно ухаживать за длинными волосами, негде их мыть в полярную зиму. Был строгий приказ о гигиенических пунктах. Но на батареях гигиенические землянки чаще существовали для проверяющих из корпуса, нежели имели практическое значение.
По-военному приветствовать она не отважилась – не умела еще или боялась что-то сделать не так. Но и от гражданских реверансов, так умиливших Колбенко, ее за два дня отучили уже, может, даже высмеяли – буржуазные штучки, да еще финские! Но воспитание не позволяло не поздороваться с новым человеком. Она опустила руки, очень как-то по-светски, как на балу, элегантно наклонила голову. А колени колыхнулись в привычном реверансе. О, эти колени над серой грубой кирзой сапог – кругленькие, беленькие! Они принудили мое сердце снова биться. Но у меня была броня – я подумал почти неприязненно: «Гладенькая. Ухоженная. Не голодала там. Не то что наши – мослы торчат».
Вспомнилось. На одном совещании комсомольских работников подполковник из политотдела корпуса заявлял: «Забудьте о девичьих коленях. Для вас они не существуют». И хотя Колбенко, когда я рассказал ему, со смехом обозвал подполковника дубом, я, идеалист, заставлял себя не забывать четкой инструкции.
Мы, кажется, слишком долго разглядывали друг друга. Личико так себе. Курносая. А глаза… глаза действительно красивые – как северное небо в ясный день. Я шел со страхом утонуть в ее глазах, настроенный признанием старого Колбенко. И я почти обрадовался за свою стойкость и плавучесть: глубины карельских озер не затягивают меня. Не тонул я. Нисколечко.
Воспитанная лучше, девушка первая почувствовала неловкость нашего взаимного молчаливого разглядывания.
– Странно, почему потеет оптика? – Показала фланельку. – Такой сухой день. В Карелии континентальный климат. Самый здоровый.
Прав Колбенко: русское произношение отменное! Нам с ним далеко.
Я наконец обратил внимание на то, как мы стоим: она в котловане, а я на бруствере над ней; ее лицо на уровне моих колен. Нехорошо. Что она подумает о моем воспитании?
Прыгнул в котлован. Повернул трубу дальномера к себе.
– Оптические прицелы следует держать в чехлах.
– Спасибо. Мне сказали об этом. Я тренировалась по дальним предметам. По пожарной вышке… Я довольна, что поняла принцип.
– Будем знакомиться. Я комсорг дивизиона.
– Я догадалась. Мне рассказывали о вас. Вас любят.
И снова этот едва приметный – только вздрогнули колени – светский реверансик. И светский наклон головы. А пуговка гимнастерки не застегнута, обратил я внимание. И улыбка как при знакомстве на балу. Все это вместе… нет, скорее мое повышенное внимание к выявлению совсем не солдатского этикета почему-то разозлило, настроило против новобранки. Очень нам нужны твои финские штучки! Не помогут они укреплять дисциплину. И признания в любви – кто из девчат болтал? – мне ни к чему! Тужников и без того ревниво высмеивает: я, мол, что поп среди деревенских баб, дурочки каются в своих грехах (противоречив мой комиссар: официально требует умения проникать в солдатские души, Суворова ставит в пример, а потом ехидным высказыванием зачеркивает свои громкие призывы).
Хотел приказать ей застегнуть пуговку, а то, чего доброго, бюстгальтер выставит. Однако не отважился.
– Вы представляете, кто такой комсорг?
На лицо ее упала тень испуга, непонимания или, может, даже боли. Она сказала уже без игры в светскость, чуть ли не с обидой:
– Вы плохо думаете обо мне. Я кончала советскую школу. И была комсоргом класса.
– Комсомолка? И поехали на учебу к… врагам?
– У меня был небольшой выбор: или на лесоразработки, или…
– Конечно, в лесу надо вкалывать, а в Гельсингфорсе можно прогуливаться с офицерами, – послышался за моей спиной до хрипоты злой голос.
В пяти шагах стояла Глаша Василенкова. Она с неприкрытой ненавистью смотрела на дальномерщицу. Я похолодел от мысли, что может произойти между сестрой замученной диверсантами Кати, подругой Лиды, погибшей от финской мины, и этой… карелкой. Но Глаша, скорее всего считает ее финкой, сам я так сказал Колбенко, и Данилов, кажется, раза два обмолвился. Почему никому не пришло в голову, что нельзя им быть вместе? Не важно, что разные взводы – Глаша связистка. Но батарея как одна семья, один дом, тут нельзя не столкнуться. Новобранка сжалась, как-то сразу поблекла, даже, показалось мне, волосы ее посерели; видно по всему, за три дня она не впервые слышит злые слова. Но ответила Глаше смело, хотя подчеркнуто вежливо:
– Зачем вы так? Вы же не знаете. Никто не прогуливался. На курсах были строгие порядки. Лагерные. А я… я только там, в Хельсинки, услышала о карельских партизанах. И я хотела, став сельской учительницей, помогать нашим людям.
– Да уж! Помогла бы! – язвительно бросила Глаша и с пренебрежением не только к Иванистовой, но, пожалуй, и ко мне не по уставу повернулась и пошла от нас.
Будь это не Глаша – любой наш боец – я показал бы свою офицерскую власть, поучил бы уставу, чтобы поняла новенькая, что такое дисциплина и что офицер не имеет права поощрять нарушения ее. Но здесь я был бессилен. Оправдал Глашу:
– Вам рассказали, что сделали с ее сестрой?
– Да, – прошептала она.
Я смотрел на тумбу дальномера. И вдруг рука девушки легла мне на грудь, на орден Красной Звезды.
Не хватало еще такого обращения при первом знакомстве. Но глянул на нее и… не отступил: лицо ее побелело, губы скривились – вот-вот зарыдает.
– Слушайте! Вы образованный человек. Вы должны понять. Есть фашисты. А есть народ! Простой народ… Он добрый! Поверьте мне, он добрый!
Я мог ответить, что политграмоту эту ежедневно твержу рядовым, сержантам, сам товарищ Сталин говорил о том же: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается». Слова его относятся и к финнам, к венграм… Но я не сказал – не соотносились высокие слова с ситуацией.
– Не говорите это Глаше.
В траншее, что вела к прибору, я остановился, повернулся:
– Как ваше имя? Полное.
– Миэлики.
Я усмехнулся над Колбенковым «Ку-ка-ре-ки», совсем ведь не похоже. Иванистова остановила меня чуть ли не у прибора, у которого дежурили девушки: обеспечивали боевую готовность.
– Пожалуйста, Павел Иванович. Остановился, строго поправил:
– Товарищ младший лейтенант. В армии – только так.
– Товарищ… – На длинное звание у нее не хватило духу, она волновалась так, что потеряла свое безукоризненное произношение. – У меня к вам просьба. Мне посоветовали просить вас. – Девушка достала из кармана гимнастерки бумажку, протянула мне: – Вы знаете, куда писать. Мой отец – командир Красной Армии. Помогите найти его. Здесь довоенный адрес.
Я взял бумажку, прочитал:
«Капитан Иванистов Клавдий Антонович, Белорусская ССР, г. Полоцк, почтовый ящик…» Номер.
Обрадовался, что отец ее командир нашей армии. Как-то даже сблизила нас его довоенная служба в моей республике, в городе, где я дважды бывал. И сами по себе отпали вопросы, что хотелось задать ей. Она превратилась в такую, как все, у кого война разметала семью, разбросала по фронтам, по стране и по чужим странам. Действительно, у меня был опыт поиска в армии и в тылу родственников наших бойцов, особенно призывавшихся из освобожденных районов и не знавших, где отцы, сыновья, братья их, которые ушли в армию в начале войны или эвакуировались. В ответ нередко приходили трагические сообщения. Случалось, я плакал вместе с отцом или сестрой того, кого уже не было на этом свете.
– Хорошо, Миэлики. Я попробую поискать. – И вдруг неожиданно для себя – чтобы запомнить, не иначе – повторил: – Миэлики. Что у вас за имя? Финское?
– Это из «Калевалы». Моя мама была учительницей. Миэлики – царица леса, от нее пахнет земляникой и медом. – И вдруг снова едва приметный реверанс – шевельнулись чашечки колен, на мгновение сверкнула обаятельная улыбка. – От меня тоже пахнет медом. Я – дитя леса.
Это меня взорвало – показалось неуместным и нескромным, даже если она пошутила. Не дозволено рядовой кокетничать подобным образом с офицером! Конечно, имело значение, что это могли слышать прибористки, из которых, как однажды с болью высказался Колбенко, мы выбили все девичье. Нельзя им дать подумать, что я завожу шуры-муры с этой… финкой.
И я сказал не своим голосом – голосом капитана Тужникова:
– Вы носили ящики с патронами? Когда поносите, понюхайте себя, чем вы будете пахнуть.
В глазах Миэлики появился страх, она сжалась и посерела.
Значительно позже я понял солдафонство своей проборки за невинную шутку девушки, живущей еще в ином мире. И сразу сказал Колбенко чуть ли не с укором ему и с похвалой себе:
– А я не утонул в ее глазах.
– Ну и сухарь! – ответил он, не проявив особого интереса ни ко мне, ни к ней, Миэлики.








