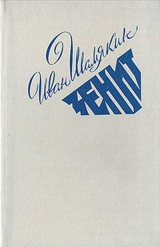
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
«Нет! Ты будешь стреляться! А попробуй убежать, трус, – я пущу тебе пулю в спину».
Шаховский, конечно, не был трусом, но повернуться спиной побоялся; с бешеным цыганом, отец которого из ревности убил человека, шутки плохи. Возможно, до него дошло, что он действительно-таки оскорбил Данилова. Попробовал вызвать соперника на трезвое рассуждение:
«Где же мы будем стреляться? Здесь, в землянке?»
От такого вопроса старший лейтенант немного растерялся: а правда – где?
«Не паясничайте, Данилов. На дворе ночь. А до утра я не выдержу – скажу Кузаеву, и вас тут же арестуют. Я подсказываю вам выход: арестуйте меня. А утром застрелите. Стреляете вы лучше, я знаю. Но это будет убийство. В секунданты к вам никто не пойдет. Я умру с честью… за любовь. А вас расстреляют. Во время войны… С позором… Как расстреливают фашистских прихлебателей».
Безжалостная логика и правда этих слов остуживали горячую голову, но то, что его как бы насильно обезоруживали, загоняли в угол, дало ощущение нового, может, еще более тяжкого унижения: он очутился в дураках. Больше, чем оскорбление национального достоинства, Данилов переживал потом это унижение – сам себя выставил дураком. Появление Виктора Масловского спасло его.
– Что бы ты сделал? – спросил я, когда Данилов рассказал, как его начало «заводить на новые обороты» это унижение.
– Не знаю! Не знаю! Не спрашивай! Сделал бы что-то дикое, непоправимое, – скрипнул он зубами.
– Застрелил бы?
– Замолчи, черт возьми! А то я разобью тебе морду! Забери Масловского. Рядом с ним я постоянно буду чувствовать свое унижение.
– Ничего. Поумнеешь.
Данилов стонал.
– Что ты делаешь со мной? Что ты делаешь?
– Я делаю? Больше, чем ты, «наделать» невозможно. – Я вкладывал в слово «наделать» грубый, но точный смысл.
– Ты доведешь меня, что я пущу себе пулю в лоб.
Я испугался.
– Саша, поверь мне. Придет утро, утихнет дождь, и ты будешь вспоминать ночное происшествие, как сон, а позднее – с юмором. Только никаких объяснений ни с Розой, ни с Виктором. Я поставил точку. Они будут молчать.
– А он будет молчать?
– Не сомневайся. Он умный человек.
– Сволочь он, а не умный человек! Почему я не сказал ему про врачиху? Он же живет с ней как с женой. Об этом весь дивизион знает. И хотел соблазнить Лику. Подлец!
– И ему – больше ни слова. Все забыто!
– Легко тебе забывать. А если все же он сделает ей предложение? И она согласится?
– Не согласится. Не согласится. Не бойся. Странно, но я действительно был твердо убежден, что Лика не согласится выйти замуж за капитана.
Мы ходили в поле, в темноте спотыкались о камни. Я вывел друга своего за позиции, чтобы нас никто больше не подслушивал и чтобы он остудил свои южные страсти под карельским мелким, но спорым и холодным дождем, барабанившим по моей плащ-палатке, а его шинель и китель пробивавшим, наверное, насквозь.
10
Еще за завтраком я понял, что Пахрицина хочет поговорить со мной не по служебному делу. Я догадывался о чем и не хотел разговора, помнил ее бестактность в отношении Лики. Боялся? Чего? Женской исповеди, жалоб? Я умел выслушивать исповеди девчат, недаром Колбенко, да и Тужников называли меня попом. Но слушать исповедь, а тем более жалобы зрелой женщины, капитана медицинской службы… На черта мне!
Разлад между ними, Шаховским и докторшей, офицеры штаба заметили еще дня два назад. Женщина не скрывала… не могла играть полное согласие. Чувства ее были как на витрине.
В офицерском зале столовой стояло два длинных стола, за которыми каждый из нас имел постоянное место.
Любовь Сергеевна сидела всегда за одним столом с Шаховским, но не рядом, а напротив, лицом к лицу. Любовалась его благородной внешностью с тонкими чертами: узкие, немного как бы монгольские, глаза, тонкие, словно подведенные, брови, нос – греческий, женские губы, глубокие залысины, а между ними довольно густая еще копна русых волнистых волос, всегда аккуратно причесанных; только мочки ушей у капитана были немного обвисшие, словно их оттянули тяжелые серьги, но и это нарушение пропорций, кого-то другого, может, и испортившее, его облику добавляло той же необычности.
Пахрицина пересела за наш стол. А потом нарушила приказ Кузаева (поскольку сам он с приездом жены нарушал – не появлялся в столовой) и перекусывала на кухне, когда снимала пробу…
Начальники служб не любили дотошную докторшу, по ее рапортам за нарушение санитарии не один из них схватил взыскание, но косточки ей и Шаховскому теперь, когда между ними пробежала кошка, не перемывали, никто не подшучивал, не злорадствовал. Ей сочувствовали; никто не верил, что красивый аристократ женится на рябой курской мужичке, пусть она и доктор. Я тоже не верил и давно жалел доверчивую женщину. Но теперь я знал то, чего не знает никто из штабных (даже Колбенко я не рассказал про ночное происшествие на первой батарее), и мое отношение к Пахрициной удивительно изменилось: не жалел ее больше. Но что особенно поражало – не чувствовал возмущение и Шаховским. Разве у меня самого не кружилась голова в театре от близости… не ведьмы! – чаровницы, пахнущей медом и земляникой?
Пахрицина села рядом, да еще попросила разрешения:
– С вами можно, Павел?
Я сконфузился. Другие офицеры (за моим столом сидели все младше ее по званию) тоже смутились, притихли. Правда, она разговорила нас. Она была в то утро непривычно разговорчивой, даже остроумной. Но один я понимал ее нервно-возбужденное состояние. Ела она в том же темпе, что и я. Однако мне удалось улизнуть из столовой первым.
Доктор несколько раз появлялась в штабе, но я избегал ее. (Потом переживал, что добавил ей еще и эти муки, еще одно унижение – ловить какого-то младшего лейтенанта, чтобы спросить у него…)
Нарочно пошел на батарею, хотя особой необходимости не было. Обедал у Данилова. При утренних встречах он ни слова не сказал о ночном приключении, и я старался ничем – ни жестом, ни загадочной улыбкой – не напомнить ему. Точка. Забыто. Нигде не всплыло. Молодцы Роза и Виктор! А тут он сам напомнил – сказал почти довольный:
– А ты – психолог. Действительно, теперь мне стыдно и смешно вспоминать дурацкую историю. Из-за чего я завелся? Почему мне показалось, что он оскорбил мой народ? Просто зрелый и рассудительный человек посмеялся над глупым жеребячьим выкриком. Серьезно я говорил? Шутливо? Черт его знает. В состоянии аффекта человек теряет голову. Нашелся бы кто-то умный, и моего отца можно было бы успокоить. А они науськивали, подлецы, – мужчины табора. Я сам ненавижу своих соплеменников. Сколько они по бездумности делали зла! Почему же я взорвался, дурак? Стреляться… Идиот! В то время, когда гибнут миллионы. Кнутом некому отстегать такого безумца!
Разумно каялся цыган. Но, слушая его, я вспомнил Любовь Сергеевну. Рассказал о ее намерении поговорить со мной и о моем раздвоении чувств: догадываюсь о предмете разговора и… избегаю, понимая в то же время, что нехорошо. И у Данилова, только что беспощадно самокритично за «недостойный культурного человека» поступок, вдруг снова гневно загорелись глаза:
– Ты ему скажи: на батарею пусть не является. Попробует явиться и встретиться с Ликой – выведу под конвоем. Пускай меня судят.
– Ну и сумасшедший!
– Сам знаю, что сумасшедший! Но я люблю ее! Я!
– Собственник! А она тебя любит? Ты спросил?
Скис мой друг. На все у него хватало отваги – только не на разговор с девушкой.
Совесть победила. Не стал я унижать серьезную женщину поиском встреч со мной. Перед ужином сам пошел в медсанчасть. В отдельном доме размещался приемный покой, палаты, мужская и женская, и там же, в бывшей кухне, жила начальник медслужбы дивизиона.
Я постучал. Пахрицина спросила:
– Кто там?
Получив ответ, долго не позволяла войти, однако я слышал ее шаги. Одевалась, что ли? Это смутило меня. Почувствовал себя неловко, в доме легкие перегородки, и в палатах могли услышать мой голос. Любопытная Таня Балашова наверняка уже под дверью, у замочной скважины. Наконец доктор сказала приглушенно:
– Прошу вас.
Я переступил порог. Пахрицина стояла у плиты в домашнем халате – не одевалась, значит, и не спала – кровать по-женски аккуратно застелена. Такой непривычно растерянной, чуть ли не испуганной, капитана, не терявшейся даже перед самым высоким начальством, я никогда раньше не видел. Кого испугалась? Меня?
– Вам что, Шиянок? Заболели?
– Любовь Сергеевна, утром мне показалось, что вы хотели со мной поговорить.
Она помолчала, пристально рассматривая меня.
– Я ошибся? – Нет.
Она подошла, через мое плечо протянула руку, плотнее прикрыла дверь. От нее дохнуло спиртом. Но тогда я не подумал, что она могла пить его, знал, наивный: врачи моют спиртом руки. Но после какой операции она мыла так руки, опять же не подумал.
Отошла к кровати, погладила кружевную накидку на подушке. Наверное, сама вязала.
Я осмотрел комнатку. Очень уютной она показалась. Женские руки! На стене – фотографии. В рамке из карельской березы (красиво их делал штабной столяр Мальцев) – портрет писателя… Хорошо знал, что писатель, а кто – вспомнить не мог. Тургенев? Нет. Гончаров? Нет. Спросить не отважился, чтобы не показать невежество свое, меня же считали эрудитом, во всяком случае, всезнайкой. Но, в конце концов, не Достоевский, которого не учили в педтехникуме, привлек мое внимание. Она, хозяйка, ее взволнованность. Странно, волнение передалось и мне. Что она скажет? Будет один вопрос или исповедь? Боялся я исповеди, жалоб. Разве я утешитель ей!
Любовь Сергеевна приблизилась, спросила шепотом, оглянувшись на стену:
– Скажи, Павел, правда, что он сватался к этой… – она поискала слово, но Лику не оскорбила, как в театре, – вашей красавице?
– Неправда! Нет! – Я ответил решительно, с уверенностью, что сделать предложение Лике втайне от Данилова.
Шаховский не мог. Я испугался ее вопроса, ее тона и намеревался доказывать, что ничего не было, – пусть успокоится. Но она сказала с болью:
– Вы лжете, Шиянок! Боже мой, какие вы вес лгуны!
– Клянусь вам, товарищ капитан…
– Постыдись, мальчик! Слышала я и не такие клятвы.
– Любовь Сергеевна!..
– Я верила в вашу искренность, Шиянок. Не допускала, что и вы…
Я порывался говорить. Она закрылась руками, брезгливо растопырив пальцы.
– Не нужно! Я вас не задерживаю…
Выскочил я на улицу словно ошпаренный. На морозе ощутил, что даже мокрый весь от пота.
Сначала разозлился: «Ну и черт с тобой! Не веришь – не нужно!»
Но когда Пахрицина не пришла в столовую в тот вечер, в сердце закралась тревога. Спиртовый запах от нее приобретал зловещий смысл.
Сказал Колбенко о ее вопросе. Парторг отнесся к нему так же серьезно, как и я, хотя часто о дивизионных «любовных историях» отзывался с иронией – как зрелый человек о детских забавах.
– У докторши не хватает самокритичности. Но что поделаешь, брат. Мне ее жаль. У человека может быть осповатое лицо, но душа тоньше музыкального инструмента. С самого начала их связи я знал, что это плохо кончится. Для нее. Но я не люблю лазить в чужие души. Хотя хлюсту этому, рекламирующему свое дворянское происхождение, мне хотелось сказать: «Какая тебе пара эта серьезная женщина? Не тот объект для твоего пыла». Свинья он, а не аристократ! Я сразу догадался, что красавицу в военкомате он выбрал с прицелом. Только долго он что-то подступался к ней. Там уже у цыгана голова закружилась. У того это серьезнее…
– А вы откуда знаете?
– Считаешь, один ты все видишь? Плохо ты думаешь о своем парторге.
«Однако про ночную стычку никто не пронюхал», – подумал я.
– И вот что я тебе, Павлик, скажу. Лично я посоветовал бы «стрелочнику» побыстрее сплавить «финку» в другую часть. Пусть идет в комендатуру своего города. Жила бы дома…
– А ее за что? – совершенно искренне испугался и чуть ли не возмутился я.
– А вот за то самое, что и ты, святой праведник, забыл обо всем… и ежедневно бегаешь на батарею.
– Что вы!
– За красоту.
– Ну и ну! Не ожидал от вас. Карать за красоту? Инквизиция не доходила…
– Не карать. А спасать от нее таких дураков, как ты, как Данилов. Чего доброго, стреляться начнете.
Я сжался: «Неужели знает?»
– А что касается инквизиции, то там все было. Читал я про одного иезуита, пославшего на костер лучшую девушку города только за то, что под окном ее много парней серенады пели.
– По-моему, тот проклятый фанатик сам боялся искушения… разум потерял от грешных помыслов. Потому, собака, и послал ее на костер. Если не мне, так пусть никому…
– Это ты, бисов сын, так подкусываешь отца родного? Так знай: будь я помоложе, не связан детьми, то вас, сосунков, давно бы в дураках оставил. Не ходил бы полгода, как кот около горячего сала. Такую, брат, девушку встречаешь раз в жизни. И до боли жаль, что часто она попадается какому-нибудь дон жуану, вроде твоего осколка феодальной формации. Он таки обскачет вас, воздыхателей. Такой танцор! Видел, как он выкручивал ее в театре? Кузаиха восхитилась: «Ах, какая пара!» А у баб нюх собачий на спаривание.
– А что же будет с докторшей?
– С докторшей? Выполощет в слезах несколько наволочек и… станет злобной… мужененавистницей. В другой обстановке… после войны, может, конечно, выйти замуж. Но не завидую ее мужу…
– А мы, значит, будем в стороне? Где же наша офицерская честь? Судить его судом чести!
: – Идеалист ты, Павел! Спроси у нее: хочет она суда над ним? Нет, брат, тут более тонко и сложно. То был бы суд над ней, а не над ним. Когда их отношения «выплыли» из барака медчасти, кто из вас осуждал его? Вспомни. Ты один?
– Самое позорное… для меня, что и я не осуждал.
– Вот видишь! Осуждали ее.
– А я и ее не осуждал. За что? Разве вы не так учили?
– Ах, Павлик! Люблю тебя за многое и за это – не заразился ты еще ханжеством. Я столько истратил пороха на борьбу с ним. Но… победило оно…
– Что вы, Константин Афанасьевич! У вас и капли его нет!
– Не подхалимничай. Самый чистый человек знаешь где? На войне. Перед лицом смерти. В Мурманске ты думал, какую шинель носишь? А дохнуло на тебя мирным ветром, и ты уже переживаешь, что Кум раздает офицерам тонкое английское сукно на мундиры, а тебе не дает. И не даст! Всем не хватит. И ты не пожалуешься: у тебя гонор. Но червяк будет тебя точить. И при первой возможности ты наступишь Куму на любимую мозоль.
Я покраснел от стыда, поскольку сильно настроился против Кума, мстившего за кашу низко и подло: нарочно, свинья, Ванде выдал и на китель, и на шинель, выдал даже тем лейтенантам, что всего три месяца как из школы, а мне – не хватило несчастного сукна.
Возмущение свое я высказал только ему, Колбенко. И пожалуйста – получил щелчок по носу. Так парторг воспитывал меня: иногда, как ребенка, водил за руку, иногда с деликатностью мудрого педагога показывал, что нужно, а чего нельзя, а то и тыкал носом. Но я никогда не обижался. Я благодарен ему. За все. Кроме той вечерней беседы, которая развеяла мою тревогу за Любовь Сергеевну – «выполощет наволочки в слезах», – и переориентировал мысли на себя самого: какой я? Как назвать мое отношение к Лике? Я приятно заволновался от слов Колбенко, что из-за нее ежедневно бываю на батарее. И испугался его предложения отослать девушку в другую часть. Честен я перед собой? Перед Даниловым? Как преодолеть свою неприязнь к Кумкову? Простил же я многое Тужникову, когда он сказал о братьях.
Нужно любить людей!
Всех?
Как-то раньше я сказал об этом Колбенко, и он вот так же спросил:
«Всех?»
Я ответил как школьник:
«Своих – всех. Врагов… классовых… ненавидеть».
Парторг засмеялся:
«Когда ты успел заразиться толстовством? Ударили по щеке – подставляй другую. Так?»
Нет, не так! И однако… Хочу, чтобы любовь моя возвышала меня!
С такими мыслями крутился я на жесткой кушетке в ту длинную осеннюю ночь.
Тужникова вызвали в политотдел корпуса. В Мурманск. За тысячу с гаком верст. Поезд туда – ездил и я – шел без малого трое суток. Неделю, если не больше, могли мы жить без непосредственного начальника, обладавшего удивительной способностью всех принудить работать. Даже Колбенко, независимости которого побаивался. Даже Кузаева.
Константин Афанасьевич так и объявил после того, как мы весело втиснули майора в переполненный вагон:
– Отдыхаем, Павел! Пусть наш чистоплюй понюхает махорку и смрад портянок.
Да и погода настраивала на отдых. После первых неожиданно крепких морозов отлегло, шел мокрый снег вперемежку с дождем. С орудий и приборов не снимали чехлов. Парторг шутил:
– Без Тужникова весь дивизион отдыхает.
Антонина Федоровна дала мне «Ледяной дом» Лажечникова, дореволюционное издание с ятями, и я пьянел от чтения.
У Колбенко не хватало терпения на продолжительное чтение, газеты просматривал за час. А в преферанс мог резаться сутками. Меня, идеалиста, между прочим, поначалу потрясла эта страсть его: старый партиец – и картежник! Но не он один играл. И Кузаев, и жена его, и Муравьев… Савченко за три версты приходил под дождем – поиграть. О молодой жене забывал.
При замполите разве что вечером «сбрасывали пулечку». Тужников боролся с буржуазными пережитками, все осуждал: выпивку, курение, любовь, старые романсы, которые пел Шаховский… Но боролся как бы с перехлестом, так что в результате над его стараниями иронически насмехались да становились более изобретательными в сокрытии своих грехов.
В его отсутствие «пульку расписывали» третий день – на квартире у Кузаева. Колбенко неизменно выигрывал и возвращался веселый, возбужденный, удивляя меня: как серьезный человек может радоваться такой глупости – выиграл восемь рублей? Буханка хлеба на городской толкучке стоит двести.
В тот день я даже на обед не пошел, так зачитался. Лежал на топчане в хорошо натопленной комнате, жил в ледяном доме, жил судьбой…
Узнавал Колбенко по шагам на лестнице. А тут не узнал – чужая поступь. Дверь распахнулась точно от удара сапогом, с грохотом, будто пьяный ввалился. И не закрылась. В проеме ее стоял Константин Афанасьевич – в одном мокром кителе, без фуражки. Лицо его показалось страшным. Парторг вытер его ладонями, как бы будил себя от кошмарного сна.
Я подхватился, пронзенный ужасом, какого никогда, кажется, не испытывал; почему-то показалось, что случилось что-то страшное с товарищем Сталиным.
Стоял босой и глядел на парторга во все глаза, боясь спросить. Удары собственного сердца, отдававшиеся в висках, в кончиках пальцев, показались оскорбительными для того неизвестного, кошмарного, что произошло, пока я читал о давней жизни. Спросить боялся, что же именно привело к такому неутешному отчаянью человека, умевшего владеть собой в самых тяжких обстоятельствах.
Колбенко снова вытер бледное лицо, уронил руки и со странным всхлипом прошептал:
– Пахрицина… за-застрелилась…
А во мне этот шепот-всхлип грянул залпом сотни батарей. Оглушил. Какое-то мгновение я ошалело смотрел на Константина Афанасьевича, будто не доходил до смысла его страшных слов. Да и как дойти! За войну свыклись со смертями. Лида погибла… Как болело! Но погибла как солдат – от вражеской мины. А тут что? Смешались чувства. Вырвался протест: как ты могла, Любовь Сергеевна?! Как могла?! Каждая жизнь дорога! Каждая жизнь!.. Но все глушила боль. Боль… Боль…
– Вот так, Павлик, оно бывает…
Тогда я упал на стол. Ударился грудью, застонал, заскулил, завыл. Смял бумагу. Бил пол ногами.
– Я застрелю его! Застрелю!
Часть третья
1
Состав стоял на неизвестной станции. Яркий свет солнца, только что выкатившегося из-за горизонта, залил вагон. Солнце меня разбудило. Я свесил голову с верхней полки и заглянул в небо – привычка зенитчика. Оно было не по-февральски ясное и теплое. Такое небо мы когда-то не любили. Но теперь оно радовало. Опротивела зима. Хотелось весны. Хотелось так жадно, наверное, еще потому, что она будет весной Победы. Войска Первого Белорусского фронта вышли на Одер. И мы догоняем этот фронт. Снова догоняем фронт, как прошлым летом Карельский. Тогда не догнали. Догоним теперь? Уверенности мало: третью неделю в дороге. А так ли уж длинна дорога от Петрозаводска до Бреста! Нас обгоняли эшелоны с танками, пушками. А наши пушки, выходит, командованию не особенно нужны. Неужели совсем выдохлась фашистская авиация? Или там много у нас средств противовоздушной обороны? Да, теперь небо стерегут истребители! Они и вправду уничтожают несравнимо больше вражеских самолетов, чем мы, зенитчики. Они господствуют в небе. Да в каком небе! Над Германией. На голове хочется ходить от радости!
Обрадовало наших известие, что дивизион направляют на Первый Белорусский. Стояли где-то под Невелем, когда маршрут рассекретили. Офицеры штаба знали его еще при погрузке. Но больше недели держали в секрете. Думаю, Кузаев взял ответственность на себя, чтобы поднять боевой дух людей. Медлительность нашего движения на юг угнетала даже тех офицеров, кто ехал с комфортом – в единственном пассажирском вагоне. В теплушках было тяжело. Тесно. Душно и чадно – когда топили «буржуйки», холодно – стоило им остыть. Под Ленинградом и на стоянке в Полоцке – трое суток стояли – держались сильные морозы. На открытых площадках у пушек МЗА и пулеметов, прикрывавших эшелон, бойцы дежурных расчетов обмораживались. Особенно тяжко было девушкам – ни раздеться, ни помыться. Мужчины снегом натирались. Наверное, от консервов многие мучились животами. Кто ездил в теплушке с подобной болезнью, тот знает, какие переживаешь муки, и не улыбнется, не пошутит над деликатной ситуацией.
В гневе я едва не выбросил с паровоза лейтенанта Унярху, который, дежуря там, дважды останавливал состав в открытом поле, хотя только что проезжали лес. Издевался, свинья. Унижал людей. Он написал рапорт, но сам Тужников взял меня под защиту и влепил ему внеочередное дежурство у пушек МЗА.
«Померзни! Пусть бы тебя еще пронесло!» – пожелал я своему недоброжелателю наихудшей дорожной неприятности.
Санинструкторы выявили вшивость, что встревожило штабной вагон не меньше животов. В Полоцке удалось помыть людей в бане. Целую ночь мыли. НЗ [10]10
Неприкосновенный запас.
[Закрыть]сухой карельской березы сожгли. Запас этих дров в закрытом вагоне долго-таки был неприкосновенным – командирским. Мудрый Кузаев! Железнодорожник знал, что в такую дорогу нужно взять. И не только взять, но и спрятать.
Раза три военные коменданты станций вооружали нас пилами и топорами (да у нас и свои имелись) и посылали в лес заготавливать топливо для паровоза. Так и тянулись на сырых дровах. Для пролетавших мимо литерных составов выдавался уголь – над каждым килограммом его коменданты тряслись.
Один раз остановились в безлесном районе. Ждите подвозки топлива! Вот тогда командир распаковал НЗ. Да еще и коменданта выручил – дал сухие дрова для «буржуйки». «Слепнем, брат, от дыма, пока разожжем сырыми», – жаловался подполковник. Комендатура, да и все службы значительной станции – узловой – размещались в искалеченных вагонах, поскольку от железнодорожных сооружений ничего не осталось. Такие станции на каждом перегоне. Разве что глубокий снег прикрыл руины, пепелища – страшные раны истерзанной земли.
…Затаившись, лежал на верхней полке – боялся спускаться, чтобы не разбудить Колбенко, командира паркового взвода младшего лейтенанта Ляхновича и Кумкова, с которым мы, кажется, помирились, он даже пообещал мне сукна на китель («Лучший берлинский портной сошьет». – «Долго ждать». – «Дождемся»).
Прокручивал «фильм» дороги.
Нельзя забыть те синие сумерки. Стояли на глухом лесном разъезде. Правда, сосны были вдоль дороги вырублены – оккупанты боялись партизан.
Кузаев неожиданно сказал в проходе вагона, где стояло много офицеров:
«А ну, Шиянок, сбегай в теплушки, объяви, что едем на Первый Белорусский».
«Серьезно?»
«Смотри-ка, он не верит командиру».
«Нет, правда можно объявить?»
«Забыл устав, комсорг?»
«Слушаюсь, товарищ майор».
Бросился в первую теплушку – девичью:
«Товарищи! Едем на Первый Белорусский!»
Девчата протяжно запели: «Ура-а-а!» Как на параде. Им так хотелось хотя бы в конце войны очутиться на передней линии главного направления – берлинского.
Славные вы мои девчатки! Какие трудности вы только не переносили! А сколько унижений от всяких унярхов! Но ничто не ослабило вашей жажды боя, мести врагу. Сурово промолчали на мое сообщение одни деды. Да я не осуждал их: они думают о сыновьях и девчатах этих, дочерях своих.
Вспомнилось и приятное, и неприятное. Но неприятное тут же как бы растворялось в золоте ласковых лучей утреннего солнца, в настроении моем – умиротворенном, созданном утром и тишиной.
Сладко спал Колбенко. Смешно посвистывал в нос Кумков. За стеной начальник артобеспечения Савинец говорил во сне, он каждую ночь рассказывал про снаряды, над ним смеялись: секреты выдаешь.
Вагон общий, купе открытые. Но мы их переоборудовали: завесили палатками, и каждые четыре человека получили свой уголок. Командирское, или, как его начали называть, «семейное», купе Кузаевых и Муравьевых отгородили фанерой. Но в перегородке была низенькая дверца, и дети, Анечка и Валя, гуляли по всему вагону, гостили в каждом купе, создавая особый, совсем не военный, психологический микроклимат. Дети вынуждали нас подтянуться: ни соленых анекдотов, ни брани, ни ссор. А главное – любовь к детям делала нас благороднее, как-то объединяла офицеров. Правда, нашелся недоброхот – пустил слух, что где-то, скорее всего на государственной границе, гражданских жен и детей с военных эшелонов снимают. Испугалась горемыка Мария Алексеевна. Притихли дети. А мы, серьезные люди, как заговорщики, выискивали способы провезти их, спрятать, если и вправду снимают. Втянули в заговор даже Кузаева. Договорились: женщин одеть в военное, детей спрятать под нарами в девичьей теплушке. Парадокс: рвались на фронт и не могли расстаться с детьми. А куда их девать?
Между офицерским вагоном и девичьими теплушками даже шла настоящая война за детей. Девчата на долгих остановках буквально выкрадывали Анечку. А той игра нравилась. С матерью едва сердечный приступ не случился, когда ее спрятали в теплушке первый раз: состав двинул дальше, а малышки нет.
Как можно спать при таком солнце?! Расслабились, разленились, как говорит Тужников.
Тихонько слез я с полки, взял сапоги и портянки – обуюсь в проходе. Вышел туда. А замполит в полной форме уже в одиночестве у окна. Не спится человеку. Каждое утро поднимается первым. Колбенко шутил: мучается майор от невозможности скомандовать нам «Подъем!». Не будь Кузаевых и детей Муравьева, наверное, поднимал бы аккуратно в шесть, как в казарме. Тужников слышал это и – вот диво! – снисходительно улыбался, повторяя давнюю шутку: «Пять кацапов не выдумают такого, что один хохол».
Я смутился: босой перед начальником в полной форме.
– Простите, товарищ майор.
– Ша! Обувайся.
Прислонившись к стене, я ловко намотал портянки.
– Весна, Шиянок. – Что?
– Весна, говорю.
В одном сапоге я повернулся к окну. Там, в купе, окне было наполовину завешено полотенцами, да и не смотрел я на землю – сразу в небо. А тут глянул – и радостно ухнул. Хотя перед нами блестели рельсы – несколько запасных путей, отчего стало ясно – немаленькая станция, – ничто, ни здания, ни аллеи, не заслоняло широкого простора поля. А оно – голое, без снега, только ближние полосы озимых были не зеленые, а серебряные – от ночного инея.
«Действительно весна», – удивился я. Вчера вечером стояли в Лиде и вокруг лежал снег, разрыхленный оттепелью, почерневший, но довольно еще глубокий. Я ходил по городу. После городов на ленинградской, новгородской земле, после Полоцка и Молодечно он казался уцелевшим – работали парикмахерские, мелкие мастерские, даже торговали пивом. Но у меня болело сердце – название города напоминало Лиду.
Неужели за ночь мы проехали так далеко – из зимы в весну? Правда, впервые за всю дорогу не стояли на каждом разъезде; сквозь неспокойный сон слышал, как стучали колеса, качался, скрипел калека вагон.
– Где мы, товарищ майор?
– Не знаю.
– Не повернули нас на юг? – Это уже почти с тревогой. – Смотри, где восток. Солнце бьет с той стороны состава в окна.
– Мы на юг идем от Петрозаводска. – Тужников усмехнулся.
– От Полоцка – на юго-запад.
– Железная дорога – не стрела.
И тут перед нами появилась Ванда Жмур. В одной гимнастерке, без пилотки, непричесанная. Теплушка, где она командовала девичьим сборным войском, была по соседству со штабным вагоном. Из теплушки и вылетела ранняя пташка в погонах младшего лейтенанта, с орденом Отечественной войны на груди. В нашу сторону не глянула. Так пристально всматривалась вперед, с таким видом, словно там стоял кто-то необычный – не мать ли родная, которую она узнала, но не верила глазам своим. Вдруг Ванда опустилась на колени на мокрый гравий между путями, вытянула перед собой руки и припала лицом к земле.
– Что она делает? – ошарашенно спросил Тужников; девичьи неожиданности его всегда немного пугали.
– Целует землю.
– Целует землю?!
– Догадываюсь почему. Мы – в Польше.
Я понимал Ванду. Когда таким же утром мы очутились в Полоцке, мне вот так же хотелось припасть к заснеженной земле. Постеснялся – вокруг народ, станция была забита эшелонами. Ванде повезло. Мы – одни! И такая рань! И такое утро! Весеннее! Но у Тужникова гневно сверкнули глаза. Он сказал во весь голос, забыв, что рядом спят, сказал, осуждая меня:
– Иди скажи, чтобы не ломала комедию! А то она тебе молиться начнет. Молодая коммунистка! Вот оно, твое воспитание!.. Не ты ли рекомендовал ее?
Я. В члены партии. Кандидатом Ванда пробыла без малого год, не по-фронтовому, поскольку еще там, в корпусе, схватила выговор за пререкания с командиром – с преподавателем курсов. «Я с ним не пререкалась – по морде шлепнула». Но за что – и мне не объяснила. И на партбюро, когда снимали выговор, уклонилась от честного признания.
«Поспорили мы».
«По поводу чего?!»
«По национальному вопросу».
«Теоретик, – хмыкнул тогда Тужников. – Представляю спор, за который выговор записывают».
В члены партии Ванду приняли неделю назад здесь, в вагоне. Подобрели в дороге, ознаменовывая приближение к фронту. Да и она показала себя хорошим командиром целого девичьего взвода, человек тридцати, с которыми в дорожных условиях, пожалуй, не справился бы и офицер-мужчина. И вот молодая коммунистка, коленопреклоненная, целует землю и, кажется, не очень спешит подниматься. Чего доброго, действительно креститься начнет… Я не мог забыть историю с англичанами.
Сиганул из тамбура к ней, готовый подхватить – сделать вид, что она споткнулась на шпалах и я поднимаю.
– Прекрати спектакль! Выставилась перед эшелоном!.. Люди смеются.
Ванда глянула на меня, в глазах ее блестели слезы.
– Дурак! Я восемьдесят лет не была на этой земле.
– Спишь еще, бабуся? Или угорела? Восемьдесят лет!..








