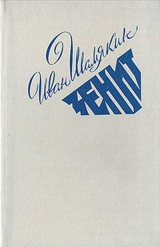
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 33 страниц)
– Гарнизон сдался!
– Гарнизон выбросил белый флаг!
Назад, от орудий МЗА, радость вернулась прерывистым «ура».
Аккуратный Тужников посмотрел на часы: – Двадцать семь минут огня!
Спазм перехватил горло, и глаза наполнились слезами гнева и счастья, – может, единственный случай такого сочетания. Я сжал кулаки.
«Довоевались, обезумевшие звери! На двадцать семь минут хватило вам мужества».
Первым бросился за пушки, за полосу дыма и пыли, выхватил бинокль. За мной вышли офицеры, имевшие бинокли, за ними – все остальные, испачканные гарью командиры орудий, номера расчетов. Хотелось увидеть белый флаг и тех, кто маршировал по всей Европе, добирался до Волги, до Кавказских гор – как они будут вылазить из своей последней норы.
Ничего не увидели: цитадель окутывал дым, рвался склад боеприпасов.
На востоке за тополями поднималось солнце. Над окрестностями плыл серебряный звон.
5
Увидели мы «защитников» цитадели на площади у товарной станции. Их было более тысячи. Обтрепанные. Посиневшие от страха и холода. Жались друг к другу как стадо испуганных баранов. Для них война окончилась. И, конечно, многие из них радовались этому. Но боялись они враждебности поляков; толпа окружала пленных, гневно гудела: не могли простить им обстрела освобожденного города. Бросали камни, смерзшиеся комяки конского навоза. А конвоиров было мало, десятка полтора. И за исключением двух-трех «дедов» – молоденькие красноармейцы, призывники последнего года войны. Командир их – такой же молоденький лейтенант, чернявенький мальчик с простуженным голосом, с сильным насморком. У него было высокое чувство ответственности за жизнь пленных, и он один загораживал их от возмущенных горожан – стоял перед толпой, готовый собой заслонить порученных ему вражеских солдат и офицеров. Лейтенант уговаривал поляков. Но был он, наверное, таджик – персидский облик, по-русски говорил с акцентом, а по-польски не мог связать и двух слов.
Об отношении в Красной Армии к пленным, о том, что советские воины никогда не унижали себя наказанием безоружных, как делали фашисты, я говорил много раз в своих беседах и лекциях – с гордостью за наш гуманизм. Он возвышал лично меня, я хотел, чтобы такое же чувство жили в сердце каждого бойца. А увидел их – в такой массе, и снова пережил, теперь уж не высокую, не торжествующую, – злую радость и гнев. Понимал поляков. Если бы не мои погоны, и я очутился бы в их толпе и, наверное, тоже бросал бы камнями в облезлых захватчиков. Знайте и помните! Внукам и правнукам накажите!
Кузаев сказал, кивнув на командира конвоя:
– Помоги, Ванда, этому пареньку. Объясни полякам нашу политику в отношении военнопленных.
Ванда тут же очутилась рядом с лейтенантом. И обратилась по-польски:
– Панове и таважышу! – людская волна хлынула к ней. Но тут же застыла. Пошикав друг на друга, угомонив задних, что теснились вперед, люди с трогательным и почтительным вниманием слушали девушку – советского офицера. Поляков очаровало не только то, что Ванда говорила, но, видимо, и ее правильный литературный язык. Вчера она с гордостью сказала мне, что боялась «архаичности» своей речи, а в Варшаве убедилась, что говорит не хуже интеллигентных варшавян.
В одном месте поляки засмеялись и захлопали. Я, пропагандист, увидел то, что до того не наблюдал, – как от слов добрели суровые лица людей. В пленных не полетело ни одного навозного комяка.
Лейтенант долго держал Вандину руку. Когда она отошла, много раз козырял. Убедился, что эксцессов не будет; знал, что ему еще долго охранять здесь, на станции; к погрузке в эшелон пленных должны переписать, отделить эсэсовцев, фашистов.
Ванда вернулась к «виллису».
– Почему они смеялись и аплодировали, что ты сказала?
– Подожди. Отчего поляки засмеялись? А-а… Я сказала, что они мечтали дойти до Урала. Мы даем им возможность очутиться дальше – в Сибири.
И я тоже засмеялся – представил, с каким настроением те, кто считал себя властителями мира, будут ехать, считай, из-под самого Берлина в Сибирь.
А Ванда уже о другом – своем, бабском:
– Каким кавалером я обзавелась! Красавец – глаз не оторвать. Персидский принц! Он попросил у меня адрес, и я сказала номер почты. Ты увидел бы вблизи, какие у него усики. Прелесть! Не то что у наших… Шувалов отрастил – и точно по Гоголю: как крысу во рту держит. Противно обедать с ним. А у лейтенанта такие усики – погладить хочется.
– Только погладить? – Кузаев понимал, что Ванда дразнит меня, усмехался и подыгрывал ей: – Но помни, что он, наверное, мусульманин.
– О, я за полчаса перекрещу его в свою веру.
– А какой ты веры?
– Если бы ты знал, какой я веры! Своей. Я основательница ее. Как Магомет, как Христос.
– Надо бы на партбюро спросить про твою веру.
– Товарищ майор! И вы хотите, чтобы я вышла замуж за этого человека? Политсухарь без чувства юмора. Формалист.
Кузаев, довольный, весело смеялся, повернувшись к нам с переднего сиденья. У меня даже шевельнулась ревность, что Ванда так фамильярничает с командиром. Не будь здесь Антонины Федоровны, наверное, ревность была бы нехорошая, а так – неоскорбительная ни для кого из нас троих.
Послав командиров подразделений и штабных офицеров выбирать позиции для батарей и пулеметов, Кузаев ехал искать помещение под штаб дивизиона. Ванду взял за переводчицу. А меня в качестве кого? Загладить вину – смыть осадок моей обиды за свой ночной окрик? Но не было его, осадка. На кузаевский окрик, проборки, на его любимое «разгильдяи» мало кто обижался. Я – никогда. Правда, попадал я под его горячую руку редко. Командир уважал меня, припарками, которые лепил мне Тужников, забавлялся, то поощряя замполита, то подбивая меня на высказывание смелых суждений, даже на несогласие с решениями непосредственного начальника.
Самовольничать в таком городе нельзя, это Кузаев понимал, потому мы искали военную комендатуру. Петляли по узким улицам, по просторным бульварам. Город поражал сохранностью и многолюдством. Людей на улице как на празднике. Ванду восхищало это оживление. А меня удивляла спокойная деловитость горожан. Всего несколько часов назад над головами их пролетели тысячи снарядов, а они – вот так спокойно, будто и не было ничего. Если бы не встреча с пленными, казалось бы, что город освобожден не три недели, а три года назад. Быстро люди умеют налаживать жизнь.
Мы с Вандой говорили об этом, пока командир находился у военного коменданта. Вдруг голова ее склонилась на мое плечо. Девушка уснула. Ночь же не спали. И так приятно было слышать ее тихое дыхание в теплом «виллисе», стоявшем перед величественным зданием с могучими атлантами, держащими на плечах тяжелые балконы. Мне стало жаль атлантов: устали, бедные. Вообще охватила волна доброты и нежности. Ощутил необычное чувство к Ванде, впервые подумав, что за ее острым язычком – чувствительное сердце; она будет заботливой женой, хорошей матерью.
«Окончится война – женюсь на ней», – решил я, боясь пошевелиться, хотя сидеть было неудобно. Пусть поспит. Это так хорошо и символично – охранять сон ребенка, женщины.
Ванда проснулась раньше, чем вернулся Кузаев.
– Я заснула? И знаешь, что мне снилось? Я взлетела в небо. Как птица. Нет. Как ангел…
– Религиозные у тебя сны.
– Не смейся, Павел. Не разрушай мое настроение. Оно такое светлое, праздничное. По-моему, сегодня праздник. Какой? Вы не знаете, Селезнев? – обратилась к водителю, пожилому человеку, относительно пожилому – лет на пятнадцать старше нас.
– Я знаю православные праздники. А тут – католики.
– Вы верите в бога? Селезнев смутился.
– Мама моя верит. Мы и без бога немцев побили. А у них на каждой пряжке написано: «С нами бог». Слышали? Да был бы он, бог, то вас, сатанинское отродье, палачей проклятых, давно испепелил бы огнем, затопил водой. Вы, товарищ младший лейтенант, правильно сказали: хотели к Уралу – топайте дальше, в Сибирь, почистите тайгу, хватите наших морозцев…
Вернулся командир, сел на свое место.
– Направо, Петро, через три квартала налево. А там Ванда будет спрашивать, – посмотрел в бумажку, – улица Словацкого. Комендант предложил нам женский монастырь.
Ванда весело хмыкнула.
– Он такой юморист, комендант?
Но Кузаев не улыбнулся, был сосредоточенно серьезен.
– Монастырь пуст. Прошлой осенью гестапо выявило в монастыре подпольную типографию. Игуменью и еще шестерых мучениц расстреляли во дворе, остальных отправили в концлагерь.
– Вот звери! – возмутился шофер. – А еще кричат «С нами бог!». Нет у вас бога! Нет!
Ванда вздрогнула точно от холода, прижалась ко мне и сжала мне руку так, словно нам сообщили о смерти матерей наших, и она, более стойкая, выдержанная, утешала и меня, и себя.
Комендант дал Кузаеву ключ от узорчатых железных ворот в высокой кирпичной стене.
Вошли в просторный двор, засыпанный слежавшимися под снегом прошлогодними мокрыми листьями. Казалось, с того трагического осеннего дня здесь не ступала нога человека. Потому стало жутко: вокруг большой город, а здесь – безлюдная пустошь, святая нерушимость всего устроенного, досмотренного руками неизвестных служек божьих, что жили, однако, делами земными и боролись с иродом, как умели. Видимо, неплохо умели, раз фашисты так сурово покарали их.
Трехэтажный дом не выглядел мрачно, стародавним, не похож был на монастырь в привычном представлении, у него был совершенно светский вид – широкие окна без решеток; здесь молились те, кого не нужно было запирать.
По ступеням поднялись мы в небольшой сад с густо посаженными вдоль стены вишнями. В центре сада маленькая игрушечная церквушка – часовня-молельня. И тут увидели недавние следы человека: справа от крыльца у стены лежали живые белые цветы, не опаленные ночным морозцем, значит, положенные сегодня утром.
– Их расстреляли здесь, у часовни! – побледнела Ванда и сняла пилотку.
Кузаев тоже снял фуражку. И я. И Селезнев. Постояли молча.
– Смотрите, как побита стена. Их расстреливал целый взвод. Такие страшные были для них эти женщины с крестиками.
Ванда опустилась на колени, чтобы поправить цветы.
– Ой, смотрите, что я нашла! Пуля!
Пуля была из немецкого автомата. Они скосили монашек из автоматов.
Осмотрели дом. Удивились, что нет икон, только небольшой зал расписан картинами на библейские сюжеты.
– Что-то не хочется мне занимать этот монастырь, – сказал Кузаев.
– Почему? – удивилась Ванда. – Боюсь, через неделю-другую появятся хозяйки и не освободить им помещение будет нельзя. Придется переселяться.
– Товарищ майор! Я прошу занять. Только мы не оскверним святого места. Под вашей командой…
– Хитрая вы, Жмур. – Я ведь женщина, товарищ майор. К тому же – полька.
– Все польки такие, как вы?»
– Я их мало видела. Только читала…
– Счастливая была бы нация, будь в ней все такими, как вы, – сказал Кузаев.
Ванда, которую, казалось, ничто не могло сконфузить, обаятельно зарделась от похвалы. Мне хотелось смеяться. Я пошутил:
– Веселая была бы нация.
– Веселая, – серьезно согласился Кузаев, рассматривая распятие Христа. – Так что, расположимся под Христом? Ну ладно, убедили вы меня, молодежь. Поехали, заявим коменданту согласие, а то квартирантов у него хватает и на женский монастырь.
Снова петляя по переулкам, выехали на площадь – центральную, ее окружали красивые сооружения: величественный костел, кафедральный, знакомый Ванде по книгам, древнее здание ратуши. Еще больше удивило многолюдье. Колонны молодежи со знаменами, транспарантами шли в широко открытые ворота проезда под ратушей. Бесконечный ручеек людей, по одному, парами, семьями, с детьми, тек из костела и в костел.
Все было интересно, по-своему волновало, ведь даже массовый поход в костел показался проявлением радости освобожденных людей, я не сомневался, что при фашистах так не шли – тянулись понуро, молча молились за избавление от Гитлера. А сегодня, безусловно, молятся за возрождение жизни, за окончательное освобождение. Ванда, конечно, волновалась еще больше. Опустила стекло, высунула из машины голову, хватала меня за руку:
– Посмотри, посмотри!
Кузаев почувствовал нашу заинтересованность и неожиданно предложил:
– Хотите посмотреть и послушать? Давайте разведайте, что за фэст у них. После мне расскажите. Только не теряйтесь, а то Тужников съест меня с потрохами, он и так стонал, что я забираю тебя, – нужно писать донесение о штурме цитадели. Он, наверное, думает, что от удара наших пушек она рухнула. Било пятьсот стволов. Вся зенитная артиллерия… полевая, части которой очутились здесь… танки, самоходки, которые на ремонте, их тягачами буксировали на огневые позиции…
Командир с опозданием рассказал о том, что услышал от коменданта, говорил чуть ли не с восторгом. А мне утренний огневой вал показался давней историей, меня тянуло на городскую площадь.
Светило солнце. Плыла со всех сторон торжественная музыка колоколов. А с другой стороны «виллиса» колонна с красно-белыми флагами весело пела «Катюшу», мешая русские и польские слова. И это трогало до слез.
Кузаеву, видимо, тоже хотелось посмотреть на праздничную толпу, хотя забот у него бессчетно. Пушки с полустанка пойдут на выбранные позиции своим ходом. Естественно, командиры и орудийные номера – мужчины поедут с ними. Людей второго эшелона, прибывшего раньше, тогда еще не нашли. Командир всю дорогу волновался, что разгрузка боеприпасов и всего довольно тяжелого имущества ляжет на девичьи плечи. Меня давно трогала его забота о девушках, которую он, однако, редко высказывал вот так открыто. Когда каждый человек на учете, большая щедрость с его стороны – позволить двум младшим лейтенантам шляться по городу. Особенно командиру СОН – самой громоздкой установки.
«Виллис» со скоростью пешехода делал как бы почетный круг по площади – точно принимал парад; Селезнев без слов понимал своего командира. Но дорогу преградила очередная колонна молодежи, из узкого переулка вылившаяся на площадь. «Виллис» остановился.
– Скачите, зайцы. Только охотникам не попадайтесь: комендантский патруль обходите. А если что – вы со станции в штаб чешите. В монастырь. Адрес помните?
Сначала на нас не обращали особого внимания – город наводнен военными. Но стоило только Ванде спросить по-польски, какой праздник сегодня, нас тут же окружили:
– Товарищ советский офицер – полька?
– Полька.
– О-о! Панове! Советский офицер – полька!
– То есть полька!
– Пани – варшавянка?
– Нет.
– У пани варшавское произношение.
– Да нет! Мазурка!
– Краковянка!
Спорили. Радовались. Смеялись. Молодых как бы возвысило то, что их ровесница, полька – офицер Красной Армии. Девушки обнимали Ванду. Она смеялась, переводила мне их слова:
– Действительно, праздник святого покровителя Познани… А там во дворе ратуши – митинг молодежи. Пойдем?
Волна молодых подхватила нас и втиснула в просторный двор, при этом, заметил я, небольшая группа проворных юношей явно использовала нас с Вандой, чтобы протолкаться вперед. Вся площадь двора была забита молодыми людьми. В открытых окнах близлежащих зданий, примыкавших к ратуше, светились лица людей постарше. Протиснуться вперед было нелегко. Прыткие юноши пробивали проход Вандой и мной.
– Пропустите советских товарищей! – Дорогу советским офицерам!
И мы очутились недалеко от президиума.
На невысоком импровизированном помосте за длинным столом сидело человек двадцать, в центре – высокий лысый человек и майор нашей армии.
Выступал поручик Войска Польского. Его горячо приветствовали, когда он сошел с трибуны и занял свое место в президиуме.
– Hex жые Войска Польска! Hex жые! – скандировали тысячи голосов.
Ораторы выступали коротко, но пламенно. Скоро мы с Вандой почувствовали, что аудитория разделена на две части: на большую – левую и меньшую – правую. Мы очутились среди «правых». Когда выступал парень в бедной рабочей одежде, ему горячо аплодировали его товарищи, а рядом с нами начали свистеть.
Ванда прошептала мне:
– Держи кобуру.
До меня не сразу дошло даже, зачем ее держать, потом сообразил: чтобы в тесноте не вытянули пистолет.
Выступал оратор на вид не очень молодой, с усиками, в студенческой форме. Его приветствовала правая половина, аплодировали чуть ли не после каждой фразы. Рабочие свистели.
В бытовом разговоре какую-то часть слов я понимал.
И смысл предыдущих выступлений уловил, во всяком случае, их политическую направленность. Из выступления усатого не мог понять ничего, он говорил как-то уж очень заковыристо, будто и не по-польски совсем, да и шумели вокруг. Председатель собрания затряс колокольчиком.
– О чем он говорит? – спросил я у Ванды.
– Рассказывает программу лондонского правительства.
– Вот свинья! Польша имеет рабоче-крестьянское правительство – Комитет национального…
– Тише ты. Видишь, как сжимают нас. Мы не на ту сторону попали. На нас удивленно смотрит майор. Убегаем. О пистолете не забывай.
Назад нам прохода не освобождали, и мы с трудом пробивались к воротам.
На площади было свободно, просторно. Колонны молодежи втиснулись во двор. И в костел не шли так густо, пожалуй, больше из костела. Митинг оставляли по одному, редко – по два-три человека. Мы с Вандой заключили: убегают разочарованные нейтралы, обыватели, желающие остаться вне политики.
– Будет здесь у них драчка.
– Не будет. Рабочий класс…
– Ты так веришь в рабочий класс? – удивила меня Ванда.
– А ты не веришь? Плохо ты читала Маркса, Ленина.
– Читала, но мало.
– И я мало. Но я верю.
– Ты счастливый, Павел, потому что ты цельный. За это я тебя люблю. И не в шутку предсказываю: ты станешь профессором.
– И за это любишь?
– Не за это. Так далеко я не закидываю. – И тут же ошеломила неожиданным предложением: – Давай зайдем в костел.
– Ты что! Узнает Тужников…
– Постыдись, Павел! Ты же культурный человек! Это памятник архитектуры. А там увидишь, какое искусство – скульптура, живопись…
Мне и самому хотелось осмотреть необычное учреждение, где вырабатывают опиум для народа; до этого я никогда не был в костеле, да и в церкви – только в детстве. А мне же, в конце концов, по службе надо все знать, все Увидеть.
Но я сделал вид, что глубокомысленно решаю сложную задачу: идти или не идти? Пусть Ванда думает, что я колебался. Все мы любим немного поломаться даже перед близкими людьми.
– Свента Мария! И то я кохам такего тхужа! – по-польски вскрикнула Ванда.
На нас сразу обратили внимание женщины, вышедшие из костела. Остановились, с интересом рассматривали, явно готовые вступить в разговор. И это меня подогнало.
– Пошли, – протянул я своей спутнице руку.
– Не забудь фуражку снять.
– Невысокого ты мнения обо мне.
– Высокого, высокого, не волнуйся.
В костеле было так же тесно, как и на митинге. Но меня интересовали не люди – ослепила роскошь убранства. Я рассматривал пылающие люстры, роспись купола, стен с каким-то особенным волнением и мальчишеским любопытством, действительно как маленький, запрокинув голову. И как маленького, как сынка, вела меня Ванда, крепко сжимая руку, чтобы не потерялся в толпе. Она не пробивалась вперед так, как на митинге или с митинга, она как-то незаметно, тихо и деликатно протискивалась между людьми. Шаг. Пауза. Еще шаг. Мужчины оглядывались на нас с интересом, большинство женщин – недоброжелательно: куда лезете, безбожники?
Сначала необычайно гудел голос ксендза, он ударялся в высокий купол и оттуда, сверху, как бы усиливаясь неизвестной техникой, обрушивался вниз гулким водопадом на головы верующих, хором повторявших: «Навеки векув! Амон!» Хитрый акустический эффект! Он еще больше подействовал, когда все пространство храма заполнила торжественная органная музыка. Однако меня, пожалуй, даже больше интересовали картины. Они такие же, как в Эрмитаже, в котором был однажды и который много раз снился. Очень захотелось «прочитать» их, картины, – узнать сюжет каждой.
Может, впервые стало стыдно, что я так мало знаю и тут, в чужой стихии, чувствую себя полным неучем.
Ванда прошептала:
– Ты неприлично разглядываешь. Не задирай голову. Слушай музыку. Это – Бах.
Ее сообщение несколько ошеломило: немецкий композитор в польском костеле?!
Поводырь мой «завоевывала» рубеж за рубежом и меня тянула за собой, и наконец пробралась в первый ряд.
Из книг я знал, что ксендзы не похожи на лохматых и бородатых попов. Но ксендз, перед которым мы очутились – он стоял за маленькой кафедрой и из толстой книги эффектно, артистическим голосом читал молитву на латинском языке, – удивил меня каким-то слишком уж светским видом. Если не считать одежды – красной сутаны с белой пелериной, моложавое, чисто выбритое лицо и рыжеватые, по-граждански подстриженные волосы делали его похожим на известного артиста, снимавшегося в кино до войны и во время войны. Это сравнение развеселило, и весь храм показался богатым театром. Я даже не удержался и усмехнулся, да как раз тогда, когда ксендз оторвался от молитвенника и глянул на нас. Его, конечно, удивило появление двух молодых советских офицеров перед самым амвоном. Он рассматривал нас, пожалуй, с тем же интересом, с каким я рассматривал его и хор красивых мальчиков в белых одеяниях, стоявший за ним.
Ванда выпустила мою руку, ступила к ксендзу и… упала на колени. О ужас! Удар крови чуть ли не разорвал мне голову, и взрыв этот, казалось, подбросил меня под купол, к нарисованным ангелам. Что она делает? Сумасшедшая! Бешеная! И что делать мне? Ничего. Не схватишь за плечи, не потянешь в толпу. Не выругаешься в храме божьем, не крикнешь: «Встать!»
– Благослав, пшэвелебны ойче, на вальку звыценску, – громко сказала Ванда слова, мне хорошо запомнившиеся, хотя тогда я не совсем понял их смысл.
Ксендз поднял маленькую толстую книжечку, подошел к Ванде и дотронулся книжечкой до ее головы:
– Бондь благословёна, цурко моя.
Толпа верующих колыхнулась, задние нажимали на передних, вместе с другими меня подвинули вперед. Я очутился перед самым ксендзом, лицом к лицу, и, честное слово, испугался, как бы «пшэвелебный ойче» и меня не благословил, а среди верующих, возможно – я не оглядывался назад, – есть наши, такие же разини, как и я. Нет, проницательный психолог, ксендз увидел мою растерянность и только усмехнулся, видимо решив, что мы поспорили и девушка выиграла спор. И еще он, наверно, понял, что отношения у нас интимные, которые обычно связывают однополчан, потому что, когда Ванда поднялась, пожелал:
– Щенсця вам, дети мое!
– Дзенкуем, свенты ойцец.
Короткий диалог между ксендзом и Вандой меня снова рассердил и испугал: чего доброго, разговор начнет. Нет, Ванда взяла меня за руку, и мы повернули к выходу. И то, как нас проводили прихожане, растрогало. Люди расступились перед нами, создали коридор. Женщины, поглядывавшие враждебно, когда мы протискивались к алтарю, тянулись руками, дотрагивались до Ванды, как до святой. И злость моя потухла, снисходительно, чуть ли не с юмором подумал, что нареченная невеста моя – хорошая артистка: знала, какую реакцию вызовет просьбой благословить ее.
Однако, очутившись под солнцем, под голубым небом – летным, я снова возмутился:
– Ну, дорогая моя, отмачиваешь ты номера. Больше я с тобой никуда не пойду. Хватит с меня! То ты засыпаешь в королевской спальне, то падаешь на колени перед каждым попом. Член партии! Позор! Я сквозь землю готов был провалиться.
– Не провалился же.
– Ты меня доведешь!..
– Доведу… до счастья. – Ха!
Ванда шла притихшая, как бы просветленная, с едва заметной счастливой улыбкой. Это меня выводило из себя. Пусть бы она паясничала, кривляясь как обычно. Тогда было бы понятно, что «выбрик» ее с ксендзом – обычная игра, забава, и я, возможно, посмеялся бы вместе с ней. А то идет как мадонна после причастия. Такой вид не может не навести на мысль, что она «отравлена опиумом» – верующая. Обидно было и за нее и за мою… за нашу воспитательную работу.
После моего «ха!» Ванда остановилась:
– Хочешь, скажу, почему я тянула тебя к ксендзу. Я, еще опускаясь на колени, думала попросить: «Обвенчай нас, ойцец». Но испугалась, что ты возразишь. – Теперь уже в ее ярко-карих глазах прыгали зеленые чертики. – Что ты делал бы, скажи я так?
От неожиданности ее признания, от испуга – что было бы тогда? – я растерялся.
– Не знаю.
– Смолчал бы?
– Может, и смолчал.
– А он спросил бы: «Хочешь ли ты, Павел Шиянок, взять в жены Ванду Жмур?» Что ответил бы?
– Слушай, отвяжись от меня.
– Ах, какая я глупая! Какая глупая! Давай вернемся.
– Знаешь, что такое комбинация из трех пальцев?
– Но мы с тобой не покажем такую комбинацию друг другу. Правда?
Нет, с этой неугомонной полькой лучше не говорить: на нас оглядываются люди, прислушиваются, кто-то из них русский может понимать.
Быстро зашагал вперед, не ориентируясь, куда идти. Но тут же подумал, как это некрасиво. Что скажут европейцы? Советский офицер вынудил женщину идти сзади. Действительно, азиат!
Остановился, повернулся к своей подруге. Вдруг появилась веселая мысль, которая наверняка помирит нас, сгладит мою грубость, и мы хорошо посмеемся.
– Представь физиономию Тужникова, явись мы к нему с объявлением, что повенчались в костеле.
Засмеялся. Ванда скупо улыбнулась.
– В День Победы мы поженимся. – Она жила мечтой о замужестве.
– Обязательно!
У нее вытянулось лицо.
– Ты смеешься?! Я утоплюсь в Варте… в Одере… в Шпрее… где будем… если ты изменишь мне.
– Доберись хотя бы до Северной Двины. Она полноводнее.
– Не паясничай. Я маме написала, что приеду с тобой.
Как обухом ударила. Было не до смеха: перед глазами стояла Любовь Сергеевна Пахрицина.
* * *
Воспоминания как теплое море, оно тянет, из него не хочется выходить. Нет, как алкоголь – от них пьянеешь до головокружения, они то возносят в рай, то проваливают в бездну. Проснешься среди ночи и не можешь заснуть до утра – вспоминаешь. А днем, когда нужно читать лекции, болит голова.
Раньше я записывал события далеких лет, воскрешал образы почти забытых людей от случая к случаю, между своими научными изысканиями, чаще по выходным дням, праздникам, они давали своеобразный отдых, помогали уйти от забот и тревог неспокойной современности. Теперь пишу ежедневно. Папка с работой по истории контрреволюции в Польше, вылившейся в антисоциалистическую деятельность «Солидарности», запылилась, давно не развязывал тесемки на ней. Живу не сегодняшней Польшей. Живу в Познани предпоследнего месяца войны. А может, так хорошо пишется потому, что я обрел спокойствие, избавился от тяжкого груза, который нес двадцать лет? Да и на кафедре, кажется, наступило затишье. Даже Марья стала здороваться со мной почтительно и вежливо. Кланяются ученики, которые недавно отворачивались.
От воспоминаний про первый познаньский день я действительно пьянел. Валя даже ревновать начала к моему «роману». Внучки не мешали, когда я писал серьезные теоретические труды по истории партии. А вчера, может, впервые, когда они подняли шум и любимица моя Михалинка снова обидела Вику, я почти грубо выставил детей из кабинета.
«Не потворствуй ты им. Выгоняй. А то они тебе на шею сядут».
И садились.
Внучки выкидывали перед закрытыми дверьми кабинета такие «коники», что мешали в сто раз больше, чем находясь в кабинете, и я вынужден был пустить их снова.
Но пришла Валя и забрала детей.
– Пошли, девочки, гулять, дадим дедушке натешиться со своими героинями.
– С какими героинями, буля? – Так Мика сократила «бабуля», пыталась и «дедулю» сократить – «дуля», но Марина накричала на дочь: «Не смей!»
– Он расскажет вам. У вас дед – мастер на все руки. Он умеет и на контрабасе и на флейте.
Уколола жена. Но укол ее я, как носорог, ощутил после их ухода. Стало обидно. Однако воспоминания, как рюмка хорошего коньяка, все заглушили. Писал с вдохновением.
Да вскоре вернулась Валя с одной Михалиной, разозленно тянула малышку за руку. Девочка всхлипывала, размазывала грязными ручками слезы, и замурзанное личико ее даже в трагическом плаче казалось задорным, во всяком случае, глазки зыркали очень хитро: хотела разжалобить деда, ожидая моего приговора.
– На твою цацу. Целуйся с ней. Плоды вашего с Мариной воспитания. Стыдно во двор выйти.
Когда дети проказничали, бабушка обвиняла маму и деда.
– Что она натворила?
– Пусть расскажет сама.
Хотел взять Михалинку на руки: очень уж жалостливо она всхлипывала. Но Валя крикнула:
– Не поднимай эту пышку. Хочешь, чтобы, шов разошелся? – недавно мне оперировали грыжу.
Я раздел малышку, платочком вытер лицо.
– Что ты натворила, маленькая моя?
– Ницего я не сказала.
– Почему же так разволновалась бабушка?
– Не знаю.
– Вот же лгунья! А ты посюсюкай с ней, посюсюкай, так она тебе не такое выкинет.
– А что она выкинула?
– Я ничего не кидала!
Валя вернулась в кабинет, цыкнула на Михалину:
– Становись в угол и не пикни!
Девочка послушно уткнулась носиком в стену; непривычная ее покорность растрогала до слез.
– Заплачь. Видишь, как она понимает свою вину?
– А велика вина?
– Стыдно во двор выйти. Что люди будут говорить! Вот как в семье профессора воспитываются дети!
– Да что она отмочила?
– Вот именно – отмочила. Более емкого слова не придумаешь. Она нахамила Майе Витольдовне. Та спросила: «Кого ты, Михалочка, больше любишь – бабушку или дедушку?» А эта «профессорша» сопела-сопела носом и бухнула: «Я могла бы сказать, что ты дура, но я не буду этого говорить».
Сдержаться было невозможно, и я засмеялся. Жена возмутилась:
– От твоего, товарищ профессор, воспитания она еще и не такое сморозит!
– Разве я морозила ее?
– Молчи! До вечера будешь стоять в углу.
Вышел из кабинета, чтобы в прихожей и на кухне посмеяться вдоволь. Представил манерную, чопорную Майю Витольдовну, ее физиономию после Михалининых слов, ее ужас, обиду. Майя – балерина в прошлом и самая молодая пенсионерка во дворе. Одинокая, бездетная, она любила детей, но говорить с ними не умела. Да и со мной странно говорила – неприятно подобострастно, будто от меня зависела ее судьба или, самое маленькое, размер пенсии. А с Микой и Викой слишком сюсюкала: «Голубочки мои! Ласточки!»
Гуляя с детьми, я наблюдал реакцию Михалины на это и давно опасался конфликта. Добрая ласковая Вика смеялась. А Мика без улыбки смотрела из-подо лба, с пренебрежением и на тетю Майю и на сестричку свою. И вот – выпалила. Некрасиво – но смешно. И разумно.
– Я пойду к Вике, – сказала жена. – Милый ребенок – сидит себе в песочнице, лепит домики. А эта так и зыркает, как бы набедокурить. Прошу тебя: не либеральничай. Дай понять, что она поступила нехорошо и должна понести наказание. Вернусь и увижу ее у тебя на шее – имей в виду…
– Ты не знаешь, какой я строгий бываю.
– Слава богу, знаю. Перун.
– Иди, иди, а то Майя не устережет Вику.
– Там Мария Михайловна.
Тихонько, на цыпочках, вошел в кабинет. Михалина стояла там же, но изучала штепсель на шнуре от торшера. Глянула на меня с надеждой. Но я словно бы и не заметил ее – выполнял данное бабушке обещание. Только проверил, заткнута ли вилкой розетка, от нее же, от непоседы этой, затыкали все розетки.








