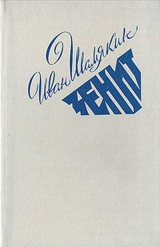
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 33 страниц)
4
В сумерках того же дня подъехали к давно известному месту дислокации. Отмахали как ни в один из дней пути – за сутки от Варшавы до Познани. Может, изменили нам литер? Во всяком случае, радовались такой скорости. Шли почти без остановок, лишь под вечер – кажется, во Вжесне – удалось накормить людей обедом.
На ходу по теплушкам не погуляешь. А мне не терпелось увидеть «дезертирок». Правда, стыдно было перед ними – за брань. И боязно: хватит ли у Ванды такта смолчать при девчатах и не выговорить мне за гадкое слово? Собственно, только одно слово меня и беспокоило, остальная брань, она как бы абстрактная. А это как сорвалось? Пусть думают – от радости. Так и скажу. За то, что я, как никто, верил в их возвращение, можно простить любые слова. Подумаешь, слово! Не воробей! И воробей. Какие только слова не слышали армейские девчата. А вообще-то хотелось пойти и поцеловать их симпатичные личики. И поцеловал бы первую Лику. При всех. Назло Ванде – из-за нее пережил столько волнений. Представил Ликины губы, и даже сладкая теплота разлилась в груди.
Но к девчатам не добраться. А в проходе офицерского вагона маячат передо мною Тужников и Зубров. И они, и остальные весь день стоят у окон, смотрят на чужую землю, на запад от Варшавы уцелевшую – так стремительно наступал Жуков.
На Тужникова у меня особой злости нет. Он оставался верен себе, муть в душе моей осадил странным образом:
– Все равно я им влеплю. Да и тебе, думаю, стоит мерочку овса отмерить. Не лови ворон.
Сказал – и словно помирились. Начальник есть начальник, его не выбирают, принимай таким, каков есть.
Кипел я при взгляде на Зуброва. От него – хотя бы слово: объяснение, шутка, рассуждение… Будто ничего не случилось. А мне хотелось сказать ему пару ласковых слов. Да запретил Колбенко. Утром, когда еще стояли на той станции, я сказал ему:
– Мне хочется дружка моего выбросить из вагона.
Константин Афанасьевич встревожился, приказал с отцовской строгостью:
– Не глупи, Павел! И – никаких объяснений. Все забыто! Самое разумное – забывать глупые подозрения.
Но особенно утешили Антонина Федоровна и Мария Алексеевна. Позвали в купе командира, долго держали. Рассказали о казаке Сивошапке, как он девчат «торговал», – сначала с возмущением, потом чуть ли не с юмором. Муравьева даже как-то очень по-матерински пожалела его:
– Тяжело будет после войны таким горячим головам. Куда употребят свою безмерную отвагу? Без профессии…
– Такого героя в военную академию пошлют. Там его отшлифуют.
Жены радостно возбуждены: кончились страхи из-за проверки на границе. Уже не высадят. Удивляла меня Мария Алексеевна: везет детей к фронту – и спокойная, можно сказать, даже радостная. Как-то еще раньше она сказала: «Страх? Самое страшное, когда дети голодают».
По-видимому, моя продолжительная беседа с женами командира и военачальника штаба остудила желание Тужникова и мне «мерочку овса отмерить» – за компанию с девчатами. Лику он отослал на кухню картошку чистить, а кухни – на открытых площадках, на ветру, и мне жаль было ее ручек – обветрятся; не гнушаясь никакой работы, она умудрилась, как никто из девчат, сберечь руки мягкими, нежными, точно шерстка живого кролика, так и хочется погладить. Ванде, офицеру, замполит, конечно, согласовывал наказание с Кузаевым. И – догадываюсь я – наверняка Антонина Федоровна спросила: «А за что?» И муж, естественно, вслед за женой повторил: «А за что?» – и, как говорят в наше время, «закрыл вопрос».
Эшелон не дошел до Познани-товарной километра четыре. Остановился на пригородной станции, на том известном холме, с которого город как на ладони.
И, впервые за всю дорогу, сразу весь личный состав батарей, рот, служб, кроме разве что караульных, высыпал из вагонов.
Как по команде побежали за станционные строения, за тополиные аллеи, закрывавшие горизонт у близкого шоссе, на грязное поле, откуда действительно открывалась панорама города. Выглянуло вечернее солнце. Огнем горели кресты многих костелов. Но не на город смотрели наши люди – правее… На цитадель. Знали: там еще немецкий гарнизон. Маршал Жуков не стал терять силы на его уничтожение. Советская Армия, части Войска Польского взяли город и двинулись дальше.
Я понимал своих. У меня самого даже кровь ударила в голову – до боли, до звона в ушах. Догнали. Фронт догнали! Никогда мы еще не были так близко от гитлеровцев, если не считать летчиков. Но они – в небе, а сбитые на землю опускались на парашютах и, как правило, сдавались без сопротивления; один за всю войну отстреливался, последнюю пулю пустил себе в голову, но прострелил только ухо; наши смеялись над ним, а он сопливо плакал. Самый массированный одновременный налет на Мурманск – больше восьмидесяти «юнкерсов» и «хейнкелей», тогда над нашими головами кружили две с половиной сотни фашистов. А в цитадели – получили мы официальную информацию в Варшаве – не менее семисот. Конечно, это не фронт. Фронт – дальше, на Одере. Однако же не сдаются, сволочи, надеются на что-то. На славу, подобную славе защитников Брестской крепости? Нет, не будет вам никакой славы – только позор и проклятие всех народов! И вашего, немецкого народа. А слава Бреста, как и слава Москвы, Сталинграда, Киева, Мурманска, будет жить вечно! Так я думал, рассматривая Познаньскую цитадель в бинокль и без бинокля – валы, форты, башни, старые липы и тополя внутри просторной площади фортификационного сооружения, возводившегося не одно столетие. Я держал целую речь. И все говорили. В такие моменты все становятся историками и великими стратегами. Но про Брестскую крепость, кажется, я сказал, а Тужников подхватил, тут же, на поле, собрал политработников и приказал, если вечером не будет разгрузки, провести с бойцами беседы о славной обороне, о которой к тому времени кое-что написали. Это «кое-что» знал я, и в мои обязанности входило провести инструктаж.
– Особенно подчеркнуть существенную разницу между героизмом красноармейцев, комиссаров, что шли на смерть за Советскую Родину, и бессмысленным фанатизмом обреченных, которых маньяк Гитлер, как поленья в топку, бросает без цели, без идеи. Я погибаю и вас тяну в могилу – вот принцип человеконенавистника.
Тужников хорошо говорил там, на поле, залитом живым золотом солнца, как бы нехотя, с болью и страхом опускавшегося на землю там, где еще реками лилась кровь.
Бесед не получилось, поскольку командиры готовили людей и материальную часть к разгрузке. Застарелый конфликт: у командиров – своя задача, у нас, политработников, должных обеспечить наилучшее выполнение боевой задачи, – якобы своя, автономная; для нас всегда не хватало времени либо же беседы, информации приостанавливались на полуслове. Не обидно, когда прерывались тревогой, боем, а то нередко проявлением начальственного своеволия какого-нибудь Унярхи. Да и друг мой Данилов частенько срывал мои беседы посылкой людей на срочные работы. И не придерешься: а что на войне не срочное?
Но разгрузки не было. Познань-центральная не принимала. А мимо, без остановки, проносились эшелоны. Сам Кузаев не мог выяснить, почему нас держат на этом полустанке, тут не было даже военного коменданта. В дороге мы нередко склоняли наших железнодорожников. В тот вечер досталось и польским. Люди, особенно офицеры, были возбуждены как-то странно: одновременно и радостные, и злые. Культурный армянин Качерян накричал на меня, чтобы я не путался под ногами. А потом дружески просил не докладывать Тужникову. Командир батареи МЗА, и в Кандалакше и в Петрозаводске стоявшей на отдаленных объектах, Качерян не знал, что я никогда не жаловался, ни на кого не «капал».
Спряталось солнце – и как-то сразу стемнело. И как стемнело! Глухая ночь. Изредка в районе цитадели начиналась стрельба. Уж не выбирались ли некоторые умные немцы, чтобы сдаться в плен или, если удастся, дезертировать?
Совсем мирно на близкой очень станции свистели паровозы, стучали буфера сцепляемых вагонов. И до обидного притягательно светились глаза семафоров, не только красные, но и зеленые. Словно зазывали. Но не нас…
Управлять на такой станции, в темноте, при сохранении светомаскировки, сотнями людей – задача очень сложная. Заглянул в девичью теплушку третьей батареи – а там и половины нет, остались самые тихие, дисциплинированные.
– А остальные где?
Пожимают плечами, опускают глаза. Встревожился. Чего доброго, вообразят себя фронтовиками, победителями – и разгуляется стихия, сигналом тревоги не соберешь.
И она таки разгулялась. К счастью, не девичья. Мужская. В вагонах появился спирт. Откуда? Вот ловкачи! Особенной бедой Кузаев, Муравьев, да и мы с Колбенко считали то, что и некоторые офицеры не удержались от искушения – попробовать трофейной гадости.
Командир тут же арестовал дежурного по эшелону лейтенанта Пыльского и посадил на солдатскую гауптвахту – сторожить портянки. Дежурным назначил меня. Я даже растерялся – самый младший по званию. Как это понять? Доверие? Наказание? Ничего себе награда: командовать эшелоном в то время, когда свои разгулялись, а рядом – фашисты, и, наверное, не только в цитадели, могут бродить вокруг, прятаться в сёлах – Познанщину же населили немцами, оторвали ее от Польши, включили в рейх. При стремительном наступлении наших войск немцы, конечно, не успели эвакуироваться.
Наедине с собой рассуждай сколько хочешь. Но командиру не скажешь: «А почему я?»
– Слушаюсь, товарищ майор! И – выполняй.
Выполнял с чувством особой ответственности: беспрерывно ходил вдоль длиннющего эшелона. На минуточку заглянул в теплушку, предназначенную для караула, надел кожух – сильно похолодало, морозило, точно возвращалась зима, северный ветер пробивал шинель и китель насквозь. Как никогда ни один начальник караула, хотя тот имелся помимо меня, дежурного, проверял бдительность каждого караульного, снял двоих: один сидел под вагоном, другая уснула, опершись на винтовку. Серьезная провинность: за сон на посту отдавали под суд. Но не стану же карать несчастную. Решил вообще девушек снять с караула. Услышал, как в одной теплушке возмущались бойцы-мужчины:
– Этому бабскому угоднику только дай власть, так он своих кукол освободит от всех дежурств.
Очень беспокоило нарушение светомаскировки: двери в теплушках открывались ежеминутно, выпуская яркий сноп света – от «летучих мышей». Таким он казался, потому что темень вокруг чуть ли не ослепляла, ни одного огонька ни в близком городе, ни в бескрайнем поле. Только семафоры да редкие вспышки выстрелов у цитадели. Как бороться с нарушением светомаскировки?
– Товарищ боец! Вы куда?
– А я – в поле.
Не запрещено. А если у человека надобность? Но почему чуть ли не у всех эта надобность? Точно снова животы расстроили. Девчата хотя бы бегали группками, а мужчины по одному. Не стоят ли у них там, за аллеей колючих акаций, канистры со спиртом? Но ведь не унизишься до обнюхивания всех бегунов.
Досталось дежурство! За всю войну не было подобного. Стоял на сорокаградусном морозе у артсклада, но, кажется, такой ответственности не чувствовал. Возникали самые неожиданные проблемы. Светомаскировка – обязательна. А как со звукомаскировкой? Нужна она здесь? У нас ее нигде не было. А здесь чуть ли не в каждом жилом вагоне поют. И парни. Какие парни? Деды. И девушки. Распелись, как ласточки перед грозой.
На сколько времени поставил меня Кузаев? Дежурные по эшелону офицеры назначались на полсуток, но там, на своей земле, особенно на ходу поезда, они беззаботно спали в любой теплушке, подальше от штабной. А тут… Неужели на всю ночь такое нечеловеческое напряжение?
Однако и впрямь возвращается зима. А что удивительного? Еще февраль. Завтра – день Красной Армии. Начальник мой часто излишне активен. А сегодня не подумал, что завтра разгрузка и было бы очень кстати сейчас, вечером, провести беседы в теплушках, другого времени не будет. Но не мог же я подсказывать ему, тем более после назначения на дежурство: подумали бы, что «откручиваюсь». Тужникова невозможно понять. Позавчерашняя пьянка в Праге – ох, как взволновала его! А сегодня он странно спокоен.
«Уж не приложился ли сам?» – с юмором подумал я, прячась от ветра за станционное здание. И отличный кожух не очень грел. Ноги мерзли. А валенки не обуешь: подморозило, но хрупкий ледок легко ломался.
Тяжело засыпал эшелон. Когда немного угомонились, перестали «выбрасывать» из теплушек свет, я позволил себе погреться у дежурного по станции – в компании старого, молчаливого, необычайно сосредоточенного железнодорожника – поляка. Посмотрел на его работу и утешил себя, что его дежурство не менее тревожное, чем мое.
В окно ударил свет. От шоссе к станции шла машина с включенными фарами. Что делать с чужим, злостным нарушителем светомаскировки?
Выскочил к эшелону, прихватил караульного и с ним – на пристанционную площадь. Там уже стояла трофейная черная легковушка – «оппель-капитан», как я узнал позже.
«А вдруг немцы?» – тревожная мысль, и я, освещенный фарами, переложил пистолет из кобуры в карман полушубка.
Первым из машины вылез высокий человек в казацкой бурке, за ним, с заднего сиденья, – маленький вертлявый автоматчик, потом – два полковника. Наши! Но что нужно делать при появлении среди ночи на станции генерала? Ясно, я козырнул.
Тот, в бурке, строго спросил:
– Почему не докладываете?
– Товарищ генерал! Дежурный по эшелону номер…
– Откуда знаешь, что генерал?
– Интуиция, товарищ генерал.
– Ты смотри, какой мастер по интуиции, – засмеялся полковник.
– Кто по должности?
– Комсорг дивизиона.
– В таком случае понятна твоя интуиция. Комсоргу она нужна. Эшелон 73-го зенитного?
Я смолчал. Номер части – секрет, хотя мне это казалось наивным: и в Мурманске, и в Петрозаводске чуть ли не каждый любопытный мальчишка знал, что город защищает 73-й дивизион.
Генерал усмехнулся, бросил своим:
– Хороший политработник.
Автоматчик засмеялся.
– Учись молчанию, Реваз. А то у меня голова пухнет от твоих стратегических планов. Но если бы ты их доверял одному мне…
– Уже научился, товарищ маршал, – весело ответил автоматчик, при этом один полковник засмеялся, другой строго нахмурился. «Маршал? Неужели Жуков?» – я чуть сознание не потерял от страха и… от радости: вот повезло! Шагнул к нему, чтобы хорошенько всмотреться в лицо, запомнить… Представлял его ниже ростом. А он – вон какой! Но шофер… погасил фары. Снова ослепила темнота. После яркого света не сразу и звезды увидел – холодные и крупные.
– Где командир дивизиона?
– В штабном вагоне, товарищ, – не хватило духу вымолвить «маршал». – Я провожу вас…
– Позовите его сюда! – категорично-строгим голосом человека, привыкшего приказывать.
– Слушаюсь!
Я так громыхал сапогами в проходе вагона, что, наверное, разбудил всех своих коллег. Без стука ворвался в купе командира, уже сладко спавшего, схватил за ногу.
– Товарищ майор! Товарищ майор! Жуков! Кузаев, привыкший к тревогам, мгновенно подскочил.
– Что с ним? – у нас был свой Жуков, старшина пулеметной роты.
– Маршал Жуков!
– Что?
– Зовет вас.
– Куда?
– Он здесь, на станции.
– Ты что, ошалел или напился?
– Клянусь.
– Тоня! Спички! Где спички?
Подхватилась Антонина Федоровна, зажгла фонарь, подавала мужу штаны, портянки, забыв, что в одной сорочке. Я похолодел от мысли: хорошенькую услугу оказал бы своему командиру, приведя сюда, в это сонное царство, в семейное купе командующего фронтом. Маршал не спит, а офицеры-зенитчики дрыхнут, да еще с женами. У Кузаева тряслись руки, и он никак не мог натянуть сапог.
– Тоня! Ремень! Где ремень?
Я вышел в коридор. Вагон зашевелился. Офицеры одевались, точно в предчувствии боевой тревоги.
– Что там, Шиянок?
– Командира – на провод.
– Значит, поедем.
– Скорей бы.
– Лучше в палатке, чем в этом провонявшем портянками вагоне.
– Не гневи бога.
При сильном волнении так перехватывает дыхание, что не сразу можешь и слово вымолвить. Сколько мы там пробежали от вагона до станции – сотню метров, а запыхались, как старики.
Выскочили на площадь к машине. Но маршал и люди, сопровождавшие его, ожидали нас в пассажирском зале, пустом и холодном. Полковники светили электрическими фонарями.
Осипшим голосом, задыхаясь, Кузаев доложил:
– Товарищ маршал! Командир… семьдесят третьего АЗАД майор Кузаев по вашему приказу…
– У вас что, майор, грудная жаба?
– Никак нет.
– Долго собираетесь. В подштанниках спите? Или пепеже завел?
– Не положено, товарищ маршал. Собственную жену имею.
Веселые полковник и автоматчик засмеялись. У второго полковника перекосилось лицо. А мне хотелось дернуть своего командира за полу кителя: не глупи, не проговорись о жене. Мне жаль стало Кузаева: всегда такой уверенный, а тут правое колено его странно подергивалось, хорошо, на ноги не светили, и сам он как бы качался взад-вперед.
– Вам боевая задача, майор…
И – вот чудеса! – Кузаев уверенно козырнул и совсем другим голосом сказал:
– Прошу прощения. Но я должен иметь документальное подтверждение вашего звания и должности.
– Правильно, майор.
«Ай да молодчина! – подумал я. – Заметил, что не похож он на Жукова».
Присмотревшись, и я сильно засомневался.
Человек засунул руку под бурку, медленно расстегивал карман кителя.
Я настороженно следил за каждым движением, не его – автоматчика. А тут еще строгий полковник сказал:
– Вы, комсорг, можете идти.
Я отступил к двери, но не вышел, сжал в кармане рукоятку пистолета. Смешно, конечно, считать этих людей переодетыми диверсантами. Что они могут сделать? Убить командира? Меня? Но около эшелона добрый десяток караульных. Один выстрел – и тревога. Однако война приучила к бдительности.
Высокий протянул Кузаеву красную книжечку, полковник посветил фонарем.
Мой командир глянул в удостоверение и щелкнул каблуками, почтительно вытянулся.
– Прошу прощения, товарищ маршал.
Отлегло на сердце: все-таки маршал! Кто? Не похож ведь на Жукова. У меня прекрасная память на печатный текст и на портреты.
За стеной зазвонил телефон, закричал в трубку дежурный на чужом языке.
Маршал прислушался, сказал Кузаеву.
– Выйдем из помещения.
Пойти за ними после приказа полковника я не отважился.
Командир вернулся через несколько минут. Сказал мне с упреком и обидой, вспомнив, наверное, свой испуг в вагоне:
– Паникер ты, Шиянок. Жуков-Жуков…
– А кто? Вы же сами сказали «товарищ маршал», когда посмотрели документ.
– Маршал, да не тот. Маршал артиллерии Воронов. Труби тревогу.
– Сейчас?
– Сию же секунду.
– Зачем? Ночь – глаз выколи.
– Будем разгружаться.
– Здесь?
– Здесь. Задачка, брат, я тебе скажу, – разгрузка без платформы. Сделал я глупость: надо было вагон со шпалами и досками цеплять к основному эшелону.
Практичный Кузаев вез шпалы и в нашем эшелоне. Но мало. Больше в другом эшелоне, шедшем где-то за нами (потом выяснилось, что он на четыре дня раньше прибыл в Познань, сделав большой круг – на Оршу, Могилев, Калинковичи, Брест); в хозяйственном эшелоне везли то имущество, без которого можно обойтись несколько дней боевых действий – артмастерскую, НЗ боезапаса, прожекторы, автомобили, стройматериал и людей, без которых тоже можно было обойтись некоторое время.
– А что все же случилось, товарищ майор?
– Соберу офицеров – скажу. Поднимай людей! Бросился от караульного к караульному.
– Тре-во-га!
Привычное слово здесь, на чужой земле, рядом с врагом, в глухую ночь, когда люди спят в вагонах, а основное оружие наше в походном состоянии под чехлами на железнодорожных платформах, прозвучало как-то зловеще, страшно. Бежал я вдоль эшелона, и сердце мое грохотало так же, как в первый день войны, при первом налете, и так же меня лихорадило. Не началось ли немецкое контрнаступление? Не прорваны ли наши позиции? Сам маршал ездит среди ночи. На войне чего не бывает! Устроило же два месяца назад гитлеровское командование разгром в Арденнах свеженьких дивизий союзников. Если бы не наше наступление, им грозил бы второй Дюнкерк.
Еще более испугались беззаботно спавшие. Люди точно катапультировались из теплушек на промерзлый железнодорожный гравий – неодетые, босые, с чужими сапогами в руках, но с винтовками, автоматами. Оружие никто не забыл – у кого оно было; девчата не все имели личное оружие.
– Что случилось?
– Где враг?
– В кого стрелять?
– Из чего?
– Занимать круговую оборону?
– Вокруг станции?
Кузаев поспешил, нужно было первыми поднять офицеров. А так недалеко было до паники, поскольку только расчеты МЗА знали свое место – на платформах у пушек.
Я самостоятельно взял на себя инициативу: бежал с конца эшелона и что есть силы кричал:
– Всем оставаться у своих вагонов! Оставаться у своих вагонов!
Наконец услышал в темноте звонкий голос Данилова:
– Первая батарея! Построиться у штабного вагона!
– Третья батарея! – Савченко сорвал голос и команду закончил его замполит Гаркуша.
– Вторая батарея! Построиться…
Успокоило: построиться – значит, не горит, не в атаку.
– Конюхов! – у командира дивизиона была такая же хорошая память на фамилии, как и у меня, – всех знал: – Что это ты натоптал за пазуху? У девушки одолжил?
– Портянки, товарищ майор.
Смех.
– Молчанов! А сапог… сапог твой где?
– Кто-то схватил, товарищ майор.
– Кто обул три сапога? Признавайся! Хохот.
– Ну и разгильдяи! Ну и разгильдяи! Наверное, тяпнули, черти, спирта? Вы посмотрите на девушек. Одетые – как на парад! Куценко! Шинель где? Кто еще с одним сапогом? Кто без шинели? Без шапки? Выйти из строя! Обуться и одеться, как следует! Командиры подразделений! Каждому их этих разгильдяев – по два наряда… Пусть будет что вспоминать и рассказывать внукам.
Совсем отлегло: веселый командир, не нервно – спокойно веселый. Значит, никаких «арденн» нет.
– Боевая задача номер один. Без шума, без «А ну-ка, взяли!» разгрузить пушки, снаряды, тракторы. Шпал мало, досок мало… Младший лейтенант Жмур! Расспросите у железнодорожников, не лежат ли где-нибудь шпалы. Командиры батарей и паркового взвода! Проявите инициативу и смекалку. Все проявляйте инициативу! Женский состав – выгружайте боеприпасы. Приготовить горячий завтрак к шести ноль-ноль.
– Работать в полной темноте? – спросил командир третьей Савченко.
– Жаль, прожекторы в другом эшелоне, а то я дал бы тебе свет, – иронизировал Кузаев.
– Прожекторы, конечно, шутка, я понимаю. Но освещение установщиков трубки нужно использовать, товарищ майор, – озабоченно и тихо, чтобы не все слышали, сказал Муравьев. – Может, и «летучие мыши»… А то не было бы травм…
– Цитадель как гакнет по твоей «мыши» из крепостных – узнаешь не такие травмы, – но прошелся вдоль строя, подумал, рассудительно заключил:
– Освещение использовать, но с сохранением маскировки. Под ответственность командиров. Товарищи командиры! Разводите людей!
Шпал и досок хватило только на устройство помоста к одной платформе, а платформ двенадцать: тяжелые восьмидесятипятки стоят в походном по две, а малые МЗА по одной на платформе, поскольку находятся в боевом положении – с боезапасом, с расчетом.
Командиры батарей тянули жребий – кто первый забирает шпалы и доски. Выпало Данилову.
– Везучий цыган.
Но разве могли другие ожидать, пока помост можно будет перебросить к следующей платформе? Работа эта нелегкая – платформы с основным нашим оружием в разных местах состава; мы, тыловые, строго соблюдали правила перевозки; в дороге убедились, что мало кто их, правила, выполнял. Да и как выполнять, когда часто шли эшелоны с одними танками, пушками, в таких составах закрытых вагонов были единицы.
Скоро я понял хитрость командира, не подсказавшего, как разгрузиться быстрее, но давшего право на инициативу. Правом тут же воспользовались. Невдалеке в темноте зазвенели пилы и со знакомыми мне, лесорубу, с детства тупыми ударами начали падать на землю деревья. Красивые пирамидальные тополя, стоящие вдоль шоссе. Я любовался ими на закате солнца.
Нашел Кузаева у платформы, с которой осторожно скатывали первое орудие, где он сам негромко командовал:
– А ну-ка, ребята, взя-я-ли!
– Товарищ майор, вы слышали?
– Нет, не слышал.
– Не слышали, как падают деревья? Кузаев неожиданно разозлился:
– Пошел ты, Шиянок, знаешь куда… За тополя. Тополей чужих ему жаль! Хочешь дойти до Берлина и не запачкать ручки? Ваш с Муравьевым слюнявый гуманизм сидит у меня в печенках. Не видели вы войны! Не видели! Полоцк видел? Варшаву видел? Могилы видел? А ты – тополя! Нашелся природоохранитель!
Обидные не слова кузаевские, обидно, что слышавшие его бойцы весело засмеялись, явно одобряя остроумного командира и ту проборку, которую дал он «слюнявому гуманисту».
Еще не рассвело, а все пятнадцать орудий (взвод МЗА где-то прикрывал второй эшелон) стояли в полкилометре от станции, ближе к цитадели, на пригорке, в непривычной для зенитных батарей позиции – в один ряд, без котлованов, пушка к пушке метрах в двадцати одна от другой. Сзади каждой пушки в выкопанных окопах – ящики со снарядами.
Задачу номер два Кузаев сообщил только офицерам, но к утру ее не знали разве что штрафники, сидевшие за выпивку на гауптвахте. И все были необычайно возбуждены. Никто не съел ранний завтрак – не до каши было.
Приказ прибористам, пулеметчикам, бойцам и командирам тыловых служб: оставаться в эшелоне. Но остались, кажется, лишь караульные да пулеметчики – они прикрывали нас. Остальные, нарушив приказ, приблизились к позиции батарей – толпились у подножия пригорка под придорожными аллеями, до которых не добрались наши ночные порубщики.
Когда рассвело, из цитадели, вероятно, заметили наши пушки. Ударило тяжелое крепостное орудие. Но снаряд разорвался за станцией. Второй едва не накрыл наших «зрителей».
Артиллерийская «вилка»! Третьего выстрела или не было, или мы не услышали его. Из пригорода взвилась в небо зеленая ракета. Такая же ракета взлетела за цитаделью, как ответ, что сигнал принят. И третья – рядом с нами. Мы даже не успели рассмотреть, кто наши соседи, только ночью слышали, что рядом прошли танки и самоходки, пророкотали и смолкли.
По сигналу третьей ракеты пушки дали залп. Такие же залпы – звук их дошел через секунду – прозвучали слева и справа от нас. Вспышки выстрелов блеснули на всем полукружии с той, другой, стороны цитадели. Крепость мгновенно окуталась дымом и пылью.
Больше я не слышал «чужих» выстрелов. Начался беглый огонь, без команды, – по умению и сноровке заряжающих, установщиков трубок.
Находился я около «своего» орудия, на котором когда-то был первым номером. Подносили с Колбенко снаряды. Но вдруг увидел, как Данилов отстранил второй номер – силача Горностая и начал стрелять сам. Стрелял азартно, даже подпрыгивал, хватая ручку спуска. При горизонтальном дуле волны выстрелов взрывали просохшую от ночного мороза землю, вырывали с корнем озимую пшеницу.
К другой пушке подскочил Кузаев и, тоже отстранив заряжающего, начал стрелять. Командир был без шинели, без фуражки.
Уловив момент, когда Данилов передал снаряд Горностаю, чтобы сбросить шинель, я подскочил к заряжающему:
– Дай мне!
На орудии я умел работать за любой номер. Но с моим ростом на тренировках по земным целям мне нелегко было досылать патрон. Заряжающим при боевом огне мне пришлось быть только однажды, в Африканде, когда ранило бойца. А тут я словно бы немного подрос или под меня подставили пружину, и она подбрасывала меня; я легко заряжал, умело уклонялся от отката. Кто-то схватил меня за плечи.
– Дай мне!
Ванда! Она почему здесь? После немецких выстрелов был приказ Кузаева всех лишних людей укрыть за насыпью железной дороги.
– Дай! – кричала она на ухо.
– Ты умеешь?
Она оттолкнула меня и выхватила снаряд у пятого номера.
Первый же выстрел сорвал с Ванды пилотку, разлохматил волосы, она споткнулась, я испугался, что ее ударило во время отката ствола. Нет, Ванда послала второй патрон. Выстрел… Выстрел… Конечно, двенадцати выстрелов в минуту, как опытные заряжающие, она не давала. Но во всей ее фигуре было что-то величественное и одновременно страшное. Девушка словно воплощала собой месть. Черные волосы ее развевались, глаза горели, когда она поворачивалась к нам, чтобы принять очередной патрон. В какой-то момент она рванула воротник гимнастерки, полетели пуговицы. В паузах между выстрелами то восхищенно вскрикивала, то стонала, как от сильной боли.
Взвихренная почва набивалась в рот, в ноздри, в уши. А вся земля, казалось, раскачивалась, как во время землетрясения. Орудия были по всему многокилометровому кольцу вокруг цитадели. Отвечали немцы или нет – разобрать было невозможно: над цитаделью стояло черное облако пыли и дыма. В небо взмахивали высокие языки пламени. Что рвалось? Снаряды? Емкости с горючим?
Передо мной, оглушенным выстрелами, ослепленным пылью, появилась женщина в гражданском пальто с двумя снарядами под мышками. Я даже не сразу сообразил, кто это – как привидение. Антонина Федоровна! И она здесь! Испугался: чего доброго, и дети Муравьева прибегут. Кузаев тоже испугался, подскочил, набросился на жену:
– И ты здесь? Тебе кто позволил? Сгинь с глаз! Муравьев! Муравьев! Убрать всех лишних людей! Нашли представление, такую вашу… – И Ванде: – Младший лейтенант Жмур! Жмур! Ванда!
Ванда не слышала.
Кузаев приказал Данилову: – Отстраните ее! У вас что – мужчин не хватает?
– Она мстит, – сказал я.
– Мы все мстим.
Я подскочил к орудию, схватил Ванду за плечи.
– Хватит! Ефрейтор Горностай! Исполняйте свои обязанности!
Но Ванда так вывернулась, что мы оба упали на землю. Ее лихорадило, она била меня пахнущими пороховой гарью кулаками по спине.
Кузаев… мудрый Кузаев строго приказал:
– Младший лейтенант Жмур! Передайте начальнику артобеспечения: подвезти боезаряды!
Снаряды везли – недалеко громыхал трактор, взбираясь на пригорок. Но приказ сразу остудил девушку.
– Есть, передать, чтобы подвезли боеприпасы! – обтянула гимнастерку, вскинула руку к «пустой голове», но никто над этим не улыбнулся. Попробовала застегнуть пуговицы, но их не было. Застыдилась.
– Простите, товарищ майор… Позвольте идти?
– Бе-гом! Антонина! Бегом с позиции!
А пушки рвали воздух. Вздулась пупырышками краска на дулах, дымила. Раскаленные пушки МЗА начали «плеваться». Огонь из них прекратили: снаряды могут не достигать цитадели.
– Красная ракета! – показал Муравьев. Она взвилась там же, в пригороде, где размещался командный пункт. Ее продублировали ракеты справа – чтобы все увидели. И сразу стало тихо, бухнуло два-три запоздалых выстрела. Но долетели другие звуки: в Познани торжественно звонили колокола. Много колоколов. Ошеломил их неожиданный звон.
Женя Игнатьева, дежурившая у телефонного аппарата – слышал, как она умоляла Кузаева позволить ей побыть на позиции, – радостно закричала из окопа:
– Гарнизон выбросил белый флаг. Пошло от орудия к орудию:








