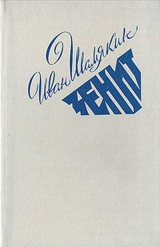
Текст книги "Зенит"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц)
6
Я уснул в беседке. Одолело изнеможение после завтрака. Клюнул носом в непокрашенную доску стола, хвойный запах которого действовал как «сонный газ», да так и не смог поднять голову. Было перед этим искушение лечь под соснами. Но вокруг озабоченно бегали бойцы хозяйственного взвода, связисты, на пожарной каланче устраивался командный пункт, где распоряжались Шаховский и Муравьев. А с башни далеко видно. Что подумают бойцы и офицеры? Все в хлопотах, заняты боевой подготовкой, а комсорг спит.
Над моей стыдливостью, над моим «неудобно», которое я часто повторял, практичный Колбенко подтрунивал: «Неудобно, когда сапоги жмут, штаны через голову неудобно надевать…»
Мне приснился сон. Необычный – никогда такое не снилось. Я ходил по удивительному музею. В огромных залах со множеством белоснежных мраморных колонн золотые люстры сияли светом многих тысяч лампочек. Бесконечными шеренгами – из зала в зал – стояли античные статуи. Сказочно прекрасные Венеры, Аполлоны, другие боги, богини. Как-то смутно я догадался, что нахожусь в Эрмитаже. Но тут же думаю, что видел Эрмитаж в сороковом году, когда нас, новобранцев-белорусов, везли в Мурманск, и что он не такой. Меньшие залы, меньше колонн и всюду картины. Куда девались картины? Фашистам ведь не удалось взять Ленинград. Еще зимой снята блокада. Почему же нет картин и так много статуй, слишком много?
Рядом со мной идет Любовь Сергеевна Пахрицина в белом халате, помолодевшая, без оспинок на лице, на удивление красивая. Она неслышно скользит по инкрустированному паркету в музейных войлочных тапочках. И я скольжу так же бесшумно, с боязнью поскользнуться. Мне даже хочется взять ее за руку – для устойчивости. Но не отваживаюсь. Она шепотом рассказывает о статуях: мимо какой богини идем, чем она славилась у древних греков или римлян.
Мне нестерпимо хочется спросить: куда спрятали картины? Но я боюсь. Вокруг ни одной живой души. Но сзади гулко – даже от стен отскакивает эхо – бухают по паркету тяжелые подкованные солдатские сапоги. Знаю: это Шаховский. С возмущением думаю: «Дикарь! Варвар! А еще князь. Разве можно так ходить в музее?»
Знаю: он следит за нами. Вооружен. С пистолетом. И стоит мне выдать себя голосом – он выстрелит в спину. Дурак! Неужели не понимает, что я не люблю эту женщину. Я люблю другую… Но и в мыслях боюсь назвать имя ее – чтобы он не услышал.
Я перестаю слушать шепот доктора. Занят одним: как сказать капитану, что мы очутились здесь случайно и что я пальцем не тронул эту женщину. Как сказать? Первое слово – и первая пуля. Безвыходное положение. Пытаюсь закрыть за собой золотые двери, разделяющие залы, но двери такие тяжелые, что не хватает сил стронуть их. А шаги – как разрывы снарядов, все ближе и ближе…
А потом – провал. И – новый сон. Я сплю так же, как в действительности, – за столом, сквозь сон чувствую, что вокруг стоит много людей, гражданских женщин, среди них Параска, и вижу: они показывают на меня пальцами, но прикладывают ладони к губам: молчим, мол, однако хитро переглядываются между собой, явно замышляя недобрую шутку. Не дать им пошутить, иначе потом надо мной будет смеяться весь дивизион!
Я просыпаюсь.
Передо мной стоит Колбенко. Весело усмехается.
– Кого видел во сне?
– Пахрицину, – признаюсь честно.
– Доктора? – удивляется Константин Афанасьевич, потом смеется: – И что она тебе вырезала?
– Мы ходили с ней по музею.
– Культурные ты сны видишь. Комсоргские. А я думал, ты добрую дивчину тискаешь. Даже слюнки текли на стол. Жаль было будить тебя. Но пойдем обживать наш дворец.
Вижу, доволен парторг выделенным помещением. Не прячет своего удовольствия. По дороге похвалил Кузаева, которого недавно называл куркулем:
– А крикун наш бывает объективным.
Нам отдали целый дом. Самый маленький, правда, неприметный, но именно неброскостью и привлекательный, уютный. Кроме двухэтажного бревенчатого особняка – конторы фирмы, занятой штабом, все другие дома – щитовые, новенькие, выкрашенные в светло-желтый цвет, как барышни на гулянье. А наш дом тоже бревенчатый, рубленый, больше похожий на обычную деревенскую хату. Почерневший уже. Ясно, с его начиналось строительство поселка, он самый крайний, ближний к дровяному складу, к штабелям досок. Видимо, в нем в последнее время размещалась финская охрана.
В доме всего две комнаты, без кухни, которая имелась в щитовых домах. В первой комнате стоял простой длинный стол на глухой стене – закрытые полки с секциями: каждому – свой шкафчик. Под полкой – пирамида для винтовок.
– Аккуратный народ, – отметил Колбенко.
Почти те же слова он произнес около цветов, но там прозвучали они как-то иначе – иронично, что ли.
А тут мне показалась в его тоне похвала финнам, и стало неприятно: у меня росло раздражение, появившееся у цветников. Порядочек этот рядом с лагерем, где мучились и умирали наши пленные, казался мне отвратительным, издевательским, садистским.
Во второй комнате – пять деревянных топчанов, голых. Бережливые захватчики – даже матрасы, выходит, вывезли. Но странно, мелочь эта почти обрадовала: спать на матрасе, на котором спал солдат вражеской армии, мне было бы противно.
Матрасы вывезли, а хороший столовый сервиз остался. Видно, ворованный, не оприходованный интендантами, потому и бросить не жалко было. Грабители, удирая, портянки не бросят своей – улика! – но легко расстаются с наворованным добром.
Дом, в общем, не изгажен. Но удивили нас разбросанные в обеих комнатах бумаги – на полу, на топчанах, на столе, на подоконниках. Зачем пожарникам или солдатам такие бланки? Чему учет они вели?
Мы вынесли лишние топчаны, собрали бумаги. Куда их? Ясно, в грубку. Большая голландка стояла посреди дома, так что обогревала две комнаты. Грубка дала основание Колбенко предположить, что дом строился не финнами – русскими. И был он обычной хатой с русской печью в переднем помещении. Но печь выбросили. А грубка осталась, потому и топится она из той, другой, спальной, комнаты. Строили бы дом финны, они такой непрактичности не допустили бы.
Снова-таки мелочь, как с матрасами, но мне догадка его пришлась по сердцу – наш дом и жили в нем наши люди. Может, Константин Афанасьевич потому и доволен, что мы получили такую хату?
Но все же ему, как и мне, захотелось вычистить, вымыть чужой вражий дух.
– А кто б нам тут хорошенько вымыл?
Мы не белоручки, но мыть пол офицерам в присутствии рядовых, снующих вокруг, не то что не к лицу, а просто не позволено.
– Из штабного взвода не выпросишь. Муравьев кряхтит, что мало людей. Паровозник устраивается, точно думает простоять здесь до конца войны.
– У Данилова – подсказал я.
По тому, как Колбенко смачно вытер губы, вижу: угадал мою тайную надежду.
– Разумный ты парень, Павел. Только лопух. Беги звони цыгану.
Связисты все в разгоне. У аппаратов на командном пункте – машинистка штаба Женя Игнатьева. Странная девушка. Нет, скорее, не она странная – мое отношение к ней.
Женя перенесла ленинградскую блокаду, с тяжелой дистрофией ее вывезли по ледяной дороге в конце первой военной зимы. Лечили в Вологде. А в сорок третьем она попросилась в армию и приехала к нам с новым пополнением. Девушка со средним образованием, с умением печатать на машинке была находкой для штаба. А она рвалась на батарею, ей хотелось стрелять. Блокада все же подорвала ее здоровье: вначале раза два она теряла сознание, один раз, когда Кузаев накричал на нее. Хотели комиссовать. Как она просилась, чтобы оставили в армии! Жаль стало девушку, почти все офицеры высказались за нее. Но потом почти никто не обращался к ней по-военному, по-уставному: «Боец Игнатьева». Все говорили ей «Женя» и просили: «Пожалуйста, напечатайте вот это». А она стеснялась такого обращения, и часто мне казалось, что ей хотелось заплакать от этого, как от обиды. Но слез ее никто не видел. Как-то я сказал ей об этом. Она ответила понуро: «А они высохли у меня там, в Ленинграде».
У меня с Женей дружеские отношения, она, подобно Лиде, комсорг штабной организации. Но какая это разная дружба! Как на девушку я ни разу на нее не глянул. Да и вряд ли кто-нибудь по-мужски подумал о ней. Высокая, на полголовы выше меня, она была очень худая, плоская, никаких женских форм. Во время болезни у нее вылезли волосы, отрастали неровно, и она покрывала голову – одной ей позволили – косынкой (в штабе, за машинкой). Но лицо у Жени на удивление красивое. Таким лицом хотелось любоваться. Однако я боялся любоваться, почему-то казалось, что это неприлично. Особенно поражали ее глаза: голубые, огромные, в них как бы навсегда застыла скорбь, не позволявшая всмотреться в ее лицо, в глаза, сказать комплимент о их красоте. Любой девушке приятно было бы услышать. Но только не Жене, думал я, ее это, безусловно, оскорбит. Потому, беседуя с ней часто и подолгу, я, по существу, ни разу не смотрел ей в глаза, разговоры наши велись словно бы между людьми, стоящими с разных сторон плотной ограды.
Женя сидела без косынки, с расшпиленным воротничком гимнастерки; коротко подстриженная, чтобы волосы быстрее отрастали, головка ее на длинной, как тростинка, белой шее очень была похожа на голову мальчика, запомнился такой на картине в музее, только что приснившемся мне.
Девушка взяла косынку, но через минуту как бы передумала и не покрыла голову.
– Где у вас тут аппарат на первую?
Я весело крутил ручку. Удивился, что не узнал по голосу батарейную связистку – всех же знаю, особенно на первой, как когда-то знал своих одноклассниц.
– А я вас сразу узнала, товарищ младший лейтенант, – игриво пропищала Таня Балашова, «кнопка», как ее называли, смешливая, болтливая, беззаботная девушка. Такой дай зацепку – заговорит.
– Позовите командира…
– Какого?
– Батареи.
– А больше вам никто не нужен?
– Разговорчики! Распустили вас там!
– Какой вы строгий сегодня, товарищ младший лейтенант.
– Исполняйте приказ, Балашова!
Слышал в трубку, как связистка что-то опрокинула, уж не табурет ли, на котором сидела?
Неподалеку от аппарата весело звала, как будто пела:
– Товарищ старший лейтенант! Вас к телефону. Комсорг дивизиона.
Скоро трубку взял Данилов.
– Саша! Константин Афанасьевич просит тебя. Пришли ты бойца… помочь нам пол вымыть. Нам комдив отвалил целый дом. Хоромы, брат, после Кандалакшских землянок.
– Кого тебе прислать?
– Кого? – Я запнулся, невольно глянул на Женю, стоявшую рядом с очень уж гражданской на вид – в горошинку – косынкой в руках. – Ну, какая там у тебя посвободней. И проворная…
– Хорошо. Пришлю вам самую проворную.
Таня говорила едва слышно. А цыганский бас Данилова загудел на весь штаб.
Женя, никогда, кажется, ничему не удивлявшаяся, смотрела на меня с обостренным интересом.
– Что же вы не сказали, кого хотите в помощь? При мне можно.
Я смутился. И она, штабная машинистка, догадалась, кого я хочу видеть. Ну и ну, товарищ комсорг! Возьми себя в руки, иначе скоро будешь стоять перед Тужниковым. Замполит не преминет поиздеваться над твоими чувствами. Над моими что… А если начнет оскорбительно пробирать Лиду? Однако вспомнил слова Колбенко: «Плюнь на все, Павлик» – и стряхнул внезапную тревогу.
Весело глянул на Женю и – вот диво! – первый раз не увидел в глазах ее печали, они, глаза, уменьшились в смешливом прищуре, и от них в сторону висков брызнули лучики морщинок, совсем не девичьих, каких-то… материнских. И мне стало дьявольски радостно, что исчезла в глазах ее тоска, и я смело, не боясь оскорбить, смотрю в них.
Неожиданно для себя и для нее я сказал:
– Какая вы красивая, Женя! Губы ее недобро скривились.
– Глаза у вас красивые, – поправился я. Она мягко улыбнулась и согласилась:
– Глаза у меня красивые.
И снова простой искренностью своей подарила мне новую порцию радости. За нее. За себя. За Лиду. И смелости. Что мне бояться Тужникова, когда у меня такой защитник – Константин Афанасьевич?
Получил в секретной части ящики с документами партийного и комсомольского бюро. Обитые жестью, наполненные бумагами, весили они пуда по два, но нес я их с неожиданной легкостью, играючи. Чуть ли не подпрыгивал. Шедший навстречу Муравьев остановился и смотрел мне вслед: проницательный учитель на лету поймал необычное настроение ученика.
Надежды мои оправдались. Пришла Лида. Пришла так быстро, что я даже растерялся. Бежала от батареи, что ли? Явно бежала – появилась раскрасневшаяся, хотя не запыхалась. Глаза ее весело искрились, когда, постучав в дверь, получив от Колбенко разрешение, она остановилась на пороге, с солдатской бравостью вскинула руку к пилотке:
– Товарищ старший лейтенант. Младший сержант Асташко прибыла в ваше распоряжение.
Мы с Константином Афанасьевичем разбирали бумаги, каждый свои, чтобы очистить ящики от черновиков, старых газетных вырезок – чувствовали, начинается новый этап нашей военной жизни, а в новую жизнь нечего тянуть старое хламье. Парторг поднялся из-за стола, поправил ремень, подтянулся. Осмотрел Лиду внимательно и строго – так, что она смутилась и тоже глянула на сапоги свои, на юбку. Сапоги были запылены, и она оправдалась:
– Пыльная дорога, товарищ старший лейтенант. Да и почиститься не было когда.
Колбенко в ответ засмеялся:
– Посмотри, Павел, какую красавицу прислал нам Данилов. Вот щедрая душа! Даже неловко приказывать тебе пол мыть. На бал бы тебя – королевой. Да и вообще ты в королевы годишься.
– Всегда вы шутите, товарищ старший лейтенант. – И снова посмотрела на свои ноги.
Но в этот раз, вероятно, потому, что на ноги ее смотрел я. Мое внимание привлекло забинтованное колено. Подмывало сочувственно спросить, где она сбила колено. Но постыдился парторга.
– Танцевать любишь?
– Люблю.
– В таком случае давай договоримся: первый танец – со мной. Согласна?
– Когда?
– После войны, – сказал я.
– Ну и сухарь ты, комсорг. Ты же замучил их своими нудными докладами. Ты хотя бы раз организовал танцы? Придется на себя взять твои обязанности. Обещаю: в ближайшие нелетные дни устроим дивизионный вечер танцев. Так и передай девчатам. Пусть готовятся. С призами лучшие финские духи…
Нет, смотрел я не на бинт – на здоровое колено: какое оно белое, красивое! От странного чувства даже заняло дыхание. Понимал: неприлично так смотреть на девичье колено, но пересилить себя не мог. Звенело в ушах, и я пропустил какую-то шутку Колбенко, от которой Лида засмеялась.
Мое таинственно-непонятное волнующее внимание к Лидиным коленям сразу исчезло, как только Колбенко с командирской заботой спросил:
– А колено где ты сбила?
– О снарядный ящик при разгрузке баржи.
– Не болит?
– Нет. Царапнуло.
– Тогда берись за работу. Сегодня, как видишь, не до танцев.
Константин Афанасьевич поднялся, прихватил связку отобранных для уничтожения бумаг, пошел в другую комнату.
Я по-детски взял Лиду за руку – так мне хотелось дотронуться до нее, поздороваться, не побоялся даже, что Колбенко заметит, – и повел ее следом за ним как невесту.
– Не могу сообразить, зачем они набросали везде столько бумаг. Собери ты эти их бланки… Что они подсчитывали тут? Дежурства? Выпитую эрзац-водку?
И, как бы давая понять, куда девать их, эти финские бумаги, Колбенко открыл дверцы грубки и сунул туда свою пачку – черновики докладных, над которыми я корпел не одну ночь. Парторг, как бы оберегая мое авторское самолюбие, никогда не уничтожал рукописи сразу после перепечатки их Женей Игнатьевой на машинке. Но не впервые объявлял «стахановскую вахту» по очистке наших железных ящиков и тогда уже становился безжалостным к любой бумажке, которую не нужно было возвращать в штаб или политотдел, – выбрасывал мазню с саркастическими прибаутками. Создавалось впечатление, что бумаги он вообще ненавидел.
Некоторых документов было жаль: в них же история дивизиона. Однажды я сказал об этом Колбенко, но он иронически засмеялся:
– Не заражайся от Тужникова. Тому хочется хоть как-то втиснуться в историю. А история – баба мудрая, ее не задобришь. Она сама выбирает себе любимцев.
Лида распоясала ремень, засучила рукава гимнастерки, расстегнула воротничок.
– Можно сапоги снять? Ноги горят. Так хочется походить босой.
Колбенко игриво присвистнул:
– Давай. Принимаем любые твои условия.
Мне хотелось остаться с Лидой. Но я почему-то постеснялся наблюдать ее разувание, хотя сто раз видел, как девчата обуваются и разуваются. Когда был командиром орудийного расчета, учил установщиц трубок правильно наматывать портянки, чтобы не натерли мозолей на строевой. В то время еще не выдавали девушкам теплых носков, только простые чулки.
Ящики свои мы очистили, но Колбенко явно нарочно, с несвойственным ему педантизмом складывал в финские папки-скоросшиватели нужные бумаги. Меня даже немного раздражало, что он как бы любуется этими папками, собранными мной еще в Медвежьегорске. Подмывало пойти поговорить с Лидой, помочь ей. Хотя были у меня с парторгом самые искренние, доверительные отношения, но все же я чувствовал себя с ним как сын с отцом – далеко не все мог позволить себе. И я вынужден был по примеру своего патрона сшивать протоколы комсомольских собраний, которые проводились на батареях, в прожекторной роте, в штабе, в парковом и хозяйственном взводах. Делал вид, что прочитываю некоторые. Особенно интересные протоколы писали Игнатьева и Хаим Шиманский. Хаим, учившийся только в еврейской и польской школах, по-русски писал фантастически безграмотно, однако с комической образностью, с такими деталями, что Колбенко не только сам аккуратно читал его протоколы и при этом хохотал, но, бывало, веселил ими Кузаева, Тужникова и Шаховского; младшим офицерам не читал, были среди них болтуны, и смех их мог бы оскорбить хорошего парня, лучшего командира орудия.
Колбенко, исчерпав мое терпение, закрыл свой ящик и пошел во двор. Я сразу же шмыгнул в комнату, где работала Лида. Она стояла на коленях между топчанами, подметала под ними финским веником из какой-то заморской южной травы. Мы с Колбенко, вынося топчан, даже удивились: это же надо лесному государству покупать бог знает где веники.
Лида, увидев меня, быстро поднялась, поправила юбку и застыла – босая, с веником в руке, в расстегнутой гимнастерке, в разрезе которой белел бюстгальтер.
Она смотрела на меня ласково, приглашающе, но немного и испуганно. А у меня загремело сердце, кровь ударила в виски, перед глазами закачался голубой туман. Разве не розовый? Нет, голубой. «Я поцелую ее. Сейчас же. Первый раз».
Она поняла мое намерение. Она ждала. Но я, вероятно, стоял слишком долго в нерешительности все то время, которое необходимо, чтобы первый порыв, стихийное чувство сменилось рассудительностью.
Наконец я шагнул к ней в том же тумане, пугаясь стука собственного сердца.
Лида бросила веник, развела руки, показывая мне ладони. Сказала спокойно, просто:
– Не нужно, Павлик. Потом. Смотри, какие грязные у меня руки. Разве можно с такими…
Руки не намного чище и у меня. Когда я их мыл? После разгрузки баржи ополоснул в озере. И правда, разве можно с такими руками. Эта мысль – как холодный душ. Я остановился. Утих звон крови.
– Я так рада, Павлик, что ты позвал меня. «Не я, Данилов прислал».
Но пусть думает, что я.
– Мне так хотелось увидеть тебя. Как я боялась, когда ты поплыл на той барже! Вас бомбили? Правда, ты сбил самолет?
– Сбил.
– Тебе дадут орден. А для меня нет лучшей награды, чем известие об освобождении моего Грибовца. Как ты думаешь, могли уже нас освободить? Могилев взяли. И Бобруйск. А мы между Могилевом и Бобруйском. Только немножечко на север. Ты бы знал, как я волнуюсь: живы они там? Мои. Мама. Братья. Когда я здесь уберу, позвольте мне остаться у вас на часик и написать письма. На батарее не дадут. Я начала писать на барже. Но написала только маме и сестре в Кировск. А я хочу написать всем родным – в Могилев, в Бобруйск. Теткам своим. Дяде – в Осиповичи. И в свой сельсовет. Если что, ответят из сельсовета. Павлик! А вдруг их нет? – Она прижала руки к груди. – Как жить потом? Как жить?
– Успокойся. Не могли же они всех… Мои ведь тоже недалеко от вас. Только что по эту сторону Днепра… живые ведь! Дважды били шомполами отца, но не расстреляли.
– Ты счастливый, Павлик. Ты счастливый.
Хлопнула дверь. Мы притихли. Лида выглядела немного сконфуженной. А я слушал знакомые шаги Колбенко с лукавым озорством: интересно, что скажет Константин Афанасьевич на брошенные мною бумаги и на побег к девушке? Неужели смолчит? Вряд ли, не в его характере.
Загремел его голос, неожиданно строгий:
– Младший лейтенант Шиянок!
Какую шутку он подготовил, начав так строго?
Бросил Лиде походя, как бы заранее оправдывая себя:
– Работай.
Двери за собой закрыл плотно, чтобы Лида не услышала его соленых острот. Но Колбенко глянул на меня без смешинок в глазах:
– Ты что это теряешь голову? Я не понимал.
– Все документы оставил на столе. А если бы не я сюда… кто-то другой пришел? Зубров только что мимо проходил.
– Зубров свой человек. Колбенко покивал головой.
– Лопух ты, парень! Не доходит до тебя моя наука. Разжевывать нужно… Свой! Я когда-то такому своему, куда более своему… доверился… Короче: не лови ворон, мой младший брат. Ясно?
– Не совсем.
– Клюнет тебя жареный петух в копчик – тогда поймешь. Но не жди его. Вари котелком, Павел. Вари.
– Варю.
– Часто, мне кажется, переполнен он у тебя, котелок, и варево из него без пользы выплескивается… А иногда, прости, мелькает у меня тревожная мысль: не пустоват ли он у тебя?.. С доброй кашей, но неполон.
– А вам чего тревожиться?
Колбенко нередко шутил грубовато, бывало, хорошенько пробирал за промашки, за идеализм, как он называл некоторые мои поступки, но ум мой всегда ценил. Поэтому слова про пустоватый котелок обидели.
В других обстоятельствах я, может, и внимания на них не обратил бы. Но тут… после лирического настроения, после признания девушке – не словами, желанием поцеловать, которое чутко она уловила… вдруг такая проборка. Из-за чего? Из-за комсомольских протоколов? Тоже мне секреты! Неприятно было думать, что слова Колбенко могла услышать Лида. Наверное, услышала.
Но и «дядя Костя» как сейсмограф!
– Обиделся? Ну и дурак! А тревожусь я потому, что люблю тебя, – И тут же засмеялся, показывая зеленый умывальник. – Вот полюбуйся! Где, ты думаешь, раздобыл? Снял около дома Кузаева. Прибили, подхалимы, на березе. Ничего, командиру найдут другой, в доме же небось тоже повесили. А нам с тобой барахольщики не дадут: нет в раскладе вещевого обеспечения. Такие предметы добывай кто как умеет. Смекалка и ловкость рук!
В другое время и я посмеялся бы: давно удивляла и забавляла неожиданная черта этого человека – какое-то студенческое озорство, странно соединенное с серьезностью, а иногда и мрачностью. А тут его выходка показалась до обидного глупой: парторг снял умывальник у командира! Не дай боже, кто увидел! Будут зубоскалить. Да и Кузаев может разозлиться. А Тужников наверняка сделает «политику».
Снова Колбенко будто прочитал мои мысли:
– Не бойся. Я сам не снимал. Бойца попросил, старого Третьяка. «Принеси, – говорю, – брат, вон тот умывальник, он там ни к чему, а мне негде руки помыть». – «Слушаюсь, товарищ старший лейтенант!»
Я не выдержал, улыбнулся.
– Закрывай свой сейф. Будем налаживать быт. Заслужили человеческую жизнь. Наползались в норах.
Конечно, до Лиды доносился наш разговор, не мог ее не взволновать строгий окрик Колбенко. Потом она услышала другой голос, веселый, шутливый. И тогда вышла к нам, тоже веселая, босая, с закатанными рукавами. Обратилась не по уставу – не в форме же, – по-женски и по-белорусски:
– Мужчины, у кого запалки есть?
– Сернички? – засмеялся Колбенко. – На, поджигательница. Зажги сердце земляку.
– Все вы шутите, Константин Афанасьевич, – Лида, принимая спички, покраснела, и ее румянец меня радостно взволновал.
Я сшивал остатки протоколов.
Колбенко копался в вещевом мешке, где у него не только нитки, иголки, ножницы, но и гвозди, небольшой молоток, пассатижи – хозяйственный человек!
И тут раздался сильный взрыв. Что-то грохнуло на голову. Наверное, я потерял сознание, но быстро пришел в себя. Я лежал на полу у дверей. В доме было полно дыма и пыли. Правда, его быстро вытягивало в окно, из которого высадило раму, и я увидел на месте грубки с зеленым кафелем груду кирпича и черный проем.
Сообразил, что случилось. Закричал:
– Лида!
Попытался встать. Но меня снова как взрывной волной отбросило к стене. Ударился затылком, осел на пол и застыл в углу, охваченный еще большим страхом, что не имею сил помочь Лиде. Где Колбенко? Где вы, Константин Афанасьевич? Куда вы девались? Помогите! Помогите!!! И тут я увидел его – в проеме между трубкой и дверью, перегородку разнесло, висели раструщеиные доски. Парторг, казалось мне, вышел словно из далекого тумана. Нет. Из черного дыма. Но что у него в руках? Колбенко приблизился, и я увидел: он несет Лиду. Он шепчет:
– Дитятко ты мое, дитятко…
Я собрал силы, чтобы подняться навстречу им.
– Лида!
– Павлик? Ты живой? Живой? А я ослепла. Я ослепла, Павлик!..
В немом ужасе отступил я в угол: не глаза ее увидел – другое…
Девушке разорвало живот, грудь…
* * *
Президент «пошутил». Давая пробу перед выступлением по радио, сказал, что он только что подписал декрет, который ставит Россию вне закона. «Бомбардировка начнется через пять минут».
Я услышал это по телевизору и… содрогнулся. Моя женская команда, сороки-стрекотухи, мешала мне слушать внимательно, и я не сразу сообразил, что к чему. О чем он, комментатор? Шутка? Какая шутка? Кто мог так пошутить? Президент такого государства?! Но и после того, как Сейфуль-Мулюков сообщил, что президент потом вынужден был оправдываться – «просто шутка», – я не сразу опомнился. Холодный страх леденил кровь. И первая мысль – о детях. Дети! Где мои внучки? Как спасти детей?
Давно уразумел, что спасти детей будет невозможно, и потому мне так страшно.
Цыкнул на дочек и невестку:
– Вы слушаете? Слышали, о чем там? А вы – о своих тряпках.
Невестка хитренькая, всегда играет в покорность и скромность.
– Простите, папа.
У Марины никогда не было такой покорности, тем более деланной. В детстве. В юности. А теперь ей слова не скажи – в ответ услышишь десять. Не удивительно. Образованная женщина. Художник-декоратор. Мать троих детей. Мать моих внучек, любимец, лопотушек Вики и Мики – Виктории и Михалины, двойняшек, им четвертый годик.
– Не о тряпках, папа, а о модах. Что может больше волновать молодых женщин в наше время?
– Мода, и никаких проблем? Никаких проблем для вас не существует? – Начинаю злиться, боюсь, что сорвусь и накричу. – Ты видишь, что в мире?
– А что в мире? Что нового, чего бы мы не знали?
– Ты слышала, как «пошутил» президент?
– Услышишь еще и не такое. Пусть он только останется в своем Желтом доме.
– В Белом, – поправила рациональная, точная Светлана.
– И тебя это не волнует?
– Волнует, но не так, как тебя. Я не читаю так внимательно четвертую и пятую страницы «Правды», как ты.
Давняя ее ирония по поводу моего интереса к международным разделам газет, журналов. Но я привык не обращать внимания на это.
– …А «Глобус» ты сам прячешь от нас в сейф. Удивляюсь, как ты «За рубежом» не прячешь. Мы же маленькие, не понимаем. Светик, дитятко мое, тебе дают в этом доме «За рубежом»? Или только «Пионерку»?
Светлана – наша «малышка», ей всего двадцать три, аспирантка лингвистической кафедры. Она антипод старшей сестры – молчунья. Правда, в ее редких замечаниях во время наших споров не меньше остроумия, чем в Маринином многословье…
Однако насчет «Глобуса» что-то новое. Почему вдруг?
– Послушай, болтушка, умного комментатора.
– Фарида? О Ближнем Востоке? Татарин поездил там, знает. Однако мне, боюсь, придется слушать это до конца жизни…
– Лет полста, – хмыкает Светлана.
– Дай бог, – вздыхает Зоя, невестка, явно притворно, чтобы серьезностью своей угодить мне.
Свое пожелание она относит к Марине, совсем не думая, что в контексте с передачей ее «дай бог» неуместно: не дай бог, чтобы сионисты издевались над несчастными арабами целых полстолетия.
Кончилось «Сегодня в мире». Началась передача по экономике. Мне и это интересно. Правда, бывают пустые передачи – информация, статистика. Но изредка ученые экономисты высказывают здравые мысли, дельные, неожиданные, до которых я не могу дойти собственным разумением. История экономики социализма – это одно, об этом я писал, читал лекции; проблемы научно-технической революции, современная организация производства, сельского хозяйства, науки – совсем другое, тут нужны специальные знания, которых у меня, чистого историка, нет. Приобретать их поздно – тяжело читать: испортил зрение. Смотреть телевизор легче, а в таких передачах главное – слушать.
Больно только бывает: услышишь умную идею, проблемную, полезную и даже простую (все гениальное просто!), а потом узнаешь через три – пять лет, что она так и не реализована или «открыта» у наших политических и экономических конкурентов.
Под старость особенно переживаю от бесхозяйственности, консерватизма. Чувствительный стал, словно шкуру содрали.
Что сегодня скажут мои ученые коллеги?
– Ты что, и эту тягомотину будешь слушать? Удивляешь ты меня, папочка. Не опротивело тебе? – У Марины смеются глаза.
– А я люблю ученых, – угодничает Зоя.
– Поэтому ты пять лет поступаешь в институт. – У Светланы не хватает дипломатичности, вообще ее отношение к братовой жене сложное: они как будто и дружат, но мне кажется, не очень любят друг друга, и от этого мне тоже больно – одна семья, а взаимопонимания, уважения и любви не хватает. У моих дочерей, у сына. У Зои среднее образование, она воспитательница в детском саду. Став членом нашей ученой семьи, каждый год объявляет о поступлении в институт, но ни разу не подала документы. Боится? Ленится? Или это результат Марининых шуток: «Зачем тебе сушить мозги, Зоюха? В твоем возрасте! Пресловутая эмансипация, за которую мы, дуры, так воевали, еще больше закабалила нас. Посмотри на меня с моей уймищей знаний. Завидуешь ты мне?»
Между прочим, свекровь Зои, жена моя Валя, тоже не очень хочет поступления невестки на вечернее отделение. Мать думает о сыне: что у него будет за жизнь, если жена каждый вечер после работы в институте?
Я держусь нейтралитета – хватает у меня своих проблем.
Но Светлану нужно пожурить: нельзя так бестактно язвить! Сама еще звезд с неба не нахватала. Аспиранточка! Марина тяжело вздохнула. Притворно, конечно.
– А мне захотелось поспорить с тобой.
– О чем?
– О модах.
Передачу я слушаю невнимательно, из головы все еще не идут страшные слова: «Бомбардировка начинается через пять минут». Кровь стучит в виски так, что разболелась голова. Снова – давление. Кто только и что только не нагоняет его, это зловещее давление! Дети, жена, коллеги, студенты, президенты… Проборки начальства, споры, жалобы, лекции, книги, передачи…








